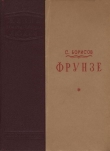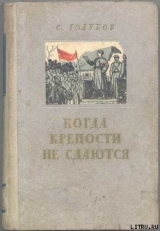
Текст книги "Когда крепости не сдаются"
Автор книги: Сергей Голубов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 62 страниц)
– По наступающей пехоте!..
Стрелки залегали и били с колена и лежа по белым цепям, которые бежали за своим танком, никак не ожидая внезапно возникавшего за его хвостом огня. А Романюта с охотниками, по полдюжине со взвода, нагонял танк. Красноармейцы с нечеловечьей цепкостью взбирались на загривок урода. В отверстия втыкались штыки, в бойницы летели ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Танк, обезображенный словно оспой, следами пуль и глубокими вмятинами от осколков, остановился. Дверца его приоткрылась, и оттуда выглянуло облитое кровью лицо человека с пушистыми седыми усами.
– Чер-рт!..
– Коли белую контру!
Но человек в полковничьих погонах все-таки прыгнул наземь. Дуло винтовки смотрело в его красные глаза. Он вскинул маузер.
– Врешь, баронский прихвостень!
Танк мгновенно облип людьми. Пехотинцы лезли из окопов с гранатами в руках. У танка закипела сшибка. Но продолжалась она недолго – может быть, минуту или меньше. Человек с седыми усами лежал на земле.
– Так в грязь и мырнул, – сказал, отдуваясь, красноармеец.
Романюта стоял рядом и смотрел на мертвого Заусайлова. Да, это был его старый командир. «Мертвый… Мертвый – это уже не живой, – мелькало в мыслях Романюты, – а стало быть, и не человек. Не че-ло-век…» Итак, Заусайлова больше не было. Но для Романюты его смерть означала неизмеримо больше того, чем, по существу, была. В глазах и в сознании Романюты Заусайлов всегда был самым живым, а следовательно, и самым подлинным олицетворением прошлого. Без Заусайлова Романюта не видел и не понимал прошлого. И, наоборот, он не видел и не понимал как следует настоящего, пока не настала сейчас эта минута: лежит мертвый Заусайлов. Не один Заусайлов – все прошлое лежало сейчас здесь, растоптанное и в грязи. Оно окончательно, бесповоротно умерло – перестало существовать, утратило способность быть. Ничто никогда не сможет больше уничтожить разрыв между Романютой и этим прошлым. Разрыв обозначился давно – с первых дней службы Романюты в Красной Армии. Но его бездонность стала очевидной лишь сейчас, когда самое реальное олицетворение прошлого испустило дух. Романюта смотрел на труп врага, и новая, совершенно новая воля к жизни вспыхивала в нем с неудержимой силой. Почему?..
Перед внутренней линией укреплений белые осадили назад. Ни одолеть ее с фронта, ни устоять против огня они не могли. Между тем пятьдесят первая переходила в контратаку. Белые постепенно скатывались с плацдарма, оставляя подбитые орудия, танки, бронемашины, пулеметы. Ударная огневая бригада пятьдесят первой дивизии уже вышла к хутору, оставив основную линию шагах в пятистах позади себя. Конница охватывала правый фланг противника. А резервные войска переправлялись через Днепр и выдвигались к Корсуньскому монастырю, чтобы сковать сводно-гвардейский полк белых с его многопушечными батареями.
* * *
К вечеру четырнадцатого октября решительное поражение белых на каховском плацдарме было фактом. За этот день они отдали десять танков, пять бронемашин, больше семидесяти пулеметов и растеряли без остатка пехотные полки двух дивизий. «Это – начало крушения Врангеля», – думал Фрунзе. И он приказал командарму Шестой немедленно использовать неудачу противника у Каховки и довершить его разгром. Для этого командарм Шестой должен был подтянуть свои свободные резервы и ночью перейти в наступление с плацдарма всеми наличными силами. Левому флангу Шестой армии надлежало перегруппироваться в течение суток и атаковать противника на правом берегу, близ Апостолова и Грушевки, преградив ему путь отхода на Ушкалку. Частям Тринадцатой армии – завершить ликвидацию врангелевцев на александровских переправах, а затем обратиться к Никополю и Грушевке для действий в белом тылу. Итак, из отбитой атаки на каховский плацдарм возникал могучий удар по бежавшему врагу; а сражение на Правобережье, неудачно начатое слабыми оборонительными действиями Второй Конной армии, превращалось, мыслью Фрунзе, в грозное наступление…
* * *
Прочность положения на плацдарме не вызывала сомнений. Внешняя линия была полностью занята частями пятьдесят первой и Латышской дивизий. Белые отошли к своим старым позициям. Вокруг высоты громоздились безобразные остатки подбитых танков. Чтобы оттянуть их стальные трупы поглубже на плацдарм, к ним припрягались грузовики. Но танки не поддавались, – грузовики их не брали. Наркевич облазил и тщательно оглядел искалеченные машины изнутри и снаружи. Один из танков можно было починить; остальные приходилось рвать на месте. По всему плацдарму саперы и пехота трудились над восстановлением разрушенного в страшный день атаки. Наркевичу было ясно, что каховский плацдарм сделал свое дело, сохранив за Шестой армией левый берег Днепра и прикрыв переправы. А рано утром Лабунский, сопровождавший Фрунзе в поездке на фронт, звонил Наркевичу из Снегиревки, где стоял штарм Шестой, и хрипел простуженным басом: «Тактическое несовершенство позиций… Технические недостатки укреплений… Все это потребовало для обороны плацдарма много лишней живой силы… Чрезмерные потери при обороне». Верно: в некоторых полках пятьдесят первой дивизии выбыло из строя до восьмидесяти процентов командиров, а красноармейцев – до половины. Верно, что в инженерном смысле плацдарм далек от идеала, – строительство шло наспех, с неимоверными трудностями, да еще и передавалось на ходу из рук в руки. Но каким же все-таки образом оказывается Лабунский вправе валить с больной головы на здоровую? Разве, сдавая Наркевичу плацдарм, он не бахвалился своей работой? Разве не говорил, уезжая в Харьков, что «врубился» в историю, оборудовав плацдарм? А сколько пришлось Наркевичу доделывать после него? «Наглец!..»
Лабунский и теперь продолжал бахвалиться своим начальственным положением. И, всячески давая понять, что посвящен в секретные планы командования, явственно намекал на решение Фрунзе временно воздержаться от развития контрудара под Каховкой. Собственно, это было ясно и без Лабунского. Армии Южного фронта все еще не были готовы к наступлению, и общий контур будущего сражения в Северной Таврии никак не мог вполне определиться. Формировалась новая армия – Четвертая. Конечно, Лабунский знал обо всем этом. Но знал и Наркевич. А вот были ли известны Лабунскому положительные планы Фрунзе? Наркевич сомневался. И окончательно убедился в своей правоте, когда командарм Шестой вызвал его в Снегиревку.
Командарм Шестой был человек слабый, сбивчивый, но старательный, смелый и беззаветно преданный делу. Восторженным голосом он передавал инженерам категорическое приказание командующего фронтом: в дополнение к каховской переправе немедленно устроить еще одну у Херсона, с расчетом на переброску дивизии за срок в восемь ночных часов, и другую, в районе Ушкалки и Нижнего Рогачика, для переброски двух дивизий с артиллерией за срок в двенадцать часов. Лабунский выслушал и пожал плечами. Не напутал ли чего-нибудь командарм Шестой? Каховская переправа может без труда перебросить за ночь пять дивизий. А если так, то третьей переправы вовсе не надо. Командарм Шестой взволновался и потребовал сведений о запасах понтонного имущества.
Наркевич доложил: для двух мостов не хватит. Стало быть, если действительно мост в районе Ушкалки и Нижнего Рогачика необходим, то уж никакого другого моста в ином месте построить будет невозможно. Что же делать? И вот командарм, Лабунский и Наркевич отправились к Фрунзе, в соседний дом. Было поздно, и Фрунзе собирался спать – сидел на кровати, спустив на пол ноги без сапог, в разболтавшихся солдатских портянках. Он внимательно выслушал командарма, потом – Лабунского и, взглянув на часы, сказал:
– Однако…
Портянки отвалились от ног; Фрунзе с видимым удовольствием расправил маленькие, суховатые ступни и потянулся всем телом.
– Переправа у Нижнего Рогачика необходима. Вторая Конная наведет такую же у Никополя и займет плацдарм на. левом берегу. Первая Конная идет на Берислав и будет там не позже двадцать третьего. Каховский плацдарм надо держать самым прочным образом. Он прикрывает выход Буденного. А иначе незачем и собирать Первую Конную у Берислава. Так что… Покойной ночи, товарищи!
Наркевич взглянул на Лабунского. У начинжа фронта было такое лицо, словно он уже совсем приготовился чихнуть, да что-то помешало. «Наглец!..»
* * *
В Большой Каховке, на площади у церкви, неподалеку от того места, где стыкаются три дороги – из Тернов, с хутора Куликовского и из села Любимовки, – выстроились два батальона стрелков, окруженные плотной толпой крестьян – баб, стариков и подростков.
– Смир-рно! Р-равнение на-право!
Летучей молнией взметнулся к небу блеск штыков и замер. К батальонам подходил с рукой у козырька невысокий, плотноватый и коренастый человек, в гимнастерке с синими кавалерийскими нашивками на груди. Кривая шашка, в ножнах под густой серебряной оковкой, ровно ударяясь о сапог, вторила его твердому шагу. Каховка справляла торжество военной победы. И Фрунзе хотел объяснить собравшимся здесь людям ее значение и смысл…
Фрунзе заговорил:
– Товарищи! Вся рабоче-крестьянская Россия, затаив дух, следит сейчас за нами, за ходом нашей борьбы здесь, на врангелевском фронте. Россия жаждет мира. Она хочет поскорей приняться за лечение ран, нанесенных ей войной. Пора ей забыть о муках и лишениях прошлого. Но Врангель стоит на ее пути. Он запродал Россию вместе с ее богатствами английским и французским ростовщикам. Он надеялся сорвать наш мир с Польшей. Не выгорело! И мир с Польшей подписан, и славные войска пятьдесят первой стрелковой дивизии нанесли врагу под Каховкой блистательный ответный удар. Здесь предрешилась судьба кампании. Товарищи! Россия знает об этом и говорит вам: спасибо!
Он поднял руку. Взгляд его глаз был чист и прозрачен, как небо в полдень. И свет глубокого чувства радостно сиял на лице.
– Товарищи! Ушкалка – в наших руках. Никополь, Хортица и Бурвальд тоже заняты нами. Противника на правом берегу Днепра больше нет. Это – начало крушения Врангеля. Мы должны его крушение довершить и избавить родину от зимней войны, свести последние счеты труда с капиталом. Да здравствует могучая Красная Армия – оплот и защита трудящихся! Да здравствует новая Россия, утверждающаяся на развалинах мира насилия, – Республика рабочих и крестьян, царство социализма!..
…Командарм Шестой объявил, что Московский Совет принял шефство над пятьдесят первой стрелковой дивизией. Несколько человек в порыжелых кожанках и высоких сапогах, с худыми, суровыми лицами, выступили вперед – представители Моссовета. Один из них держал в руках высокое древко. Знамя медленно расправляло под слабеньким ветром свои алые складки. Сквозь серую пелену тусклого осеннего неба, как струйка золотого песка из прорвавшейся мешковины, вдруг вылился на площадь блеск холодного солнца.
Тогда ветер заиграл складками знамени, и оно заплескалось, постепенно собирая разбегающиеся буквы в ровной строке: «Смерть Врангелю!»
Романюта и за ним боец оторвались от строя и зашагали навстречу представителям Моссовета. Подходя, они враз, скорым и четким движением, сняли шапки с голов. И знамя, развеваясь, шурша и подщелкивая шелковой волной длинного полотнища, перешло сперва в руки Романюты, а затем – бойца…
…Два вполне исправных танка, из числа захваченных у белых на плацдарме, медленно двигались через площадь. На первом сверкала надпись: «Москвич-пролетарий». Его вел Наркевич. Подведя «Москвича» к батальонам, Наркевич выключил мотор и выпрыгнул наружу. Кажется, никогда в жизни не были его мысли так готовы к тому, чтобы вылиться в словах, как в эту минуту. И в том, что простотой своей они несколько походили на арифметику для начинающих, заключался главный, самый неопровержимый их смысл. Рядом с бесформенной громадиной танка высокая и тонкая фигура Наркевича казалась гораздо выше и тоньше, чем была в действительности.
– С начала гражданской войны, товарищи, в первый раз случилось красным войскам сразиться с танками. И вот за два дня боев на плацдарме – девять белых танков подбито, а десятый сгорел. Накануне атаки в танковом дивизионе второго армейского врангелевского корпуса было только двенадцать танков. Значит, осталось два. Всего два! Из тринадцати броневиков подбито шесть. А сколько вреда могли бы наделать эти подбитые теперь танки и бронемашины еще через несколько дней, когда двинется Шестая армия на Перекоп?..
Наркевич и еще говорил что-то, но слова его почему-то вдруг перестали звучать. Лишь видно было, как широко раскрывал он узкие красные губы и как вспыхивали, точно огоньки выстрелов, его глаза. Красноармейцы с немым изумлением смотрели на танки. Многим из них казалось сейчас невероятным, как это можно было не только бороться с этакими уродами, а еще и одолевать их. И многие из многих не верили себе, вспоминая себя в этой борьбе и в этой победе.
Принимая на каховском параде шефское знамя для своей дивизии, Романюта был полон радостных ощущений жизни. Деятельная кровь разливалась по его телу, обжигая тугие жилы. Романюте было свойственно разгораться изнутри, а не снаружи. Радость есть бодрость духа; бодрость – свидетельство силы; а сила – надежда и залог победы. Романюта давно уже знал: чтобы делать новое, надо самому быть новым, нести в себе новизну как часть себя. И теперь он был именно таким – новым.
Вечером торжественного для Каховки дня Романюта отправился в штаб полка и разыскал там Юханцева.
– Здравствуйте, товарищ военком!
– Здорово!
– К вам.
– Ясно.
«Почему же ему ясно?» – смущенно подумал Романюта. И Юханцев тоже подумал: «А не зря ли я в ясновидение ударился?»
– Рано пришли, товарищ, – сказал он, улыбаясь серыми глазами, – не готовы еще карточки. А завтра два экземпляра получите с надписью: «Командир роты такого-то стрелкового полка пятьдесят первой Московской дивизии такой-то принимает шефское знамя Моссовета». Будь благонадежен!
– Хорошо, – тихо проговорил Романюта, – и вот вам еще заявление…
Юханцев живо проглядел листок желтоватой бумаги. «Наконец-то!»
– Надумал?
– Да.
– А рекомендует тебя в партию начинарм товарищ Наркевич?
– Он.
– Да ведь одной рекомендации мало.
Романюта молчал. Юханцев рассмеялся.
– Вот и выходит, дружище, что придется еще и мне тебя рекомендовать…
Глава двадцать вторая
Дождь сек, не переставая, третий день. Снег падал мокрыми комками и расползался лужами по вязкой земле. Общее наступление задерживалось из-за погоды.
Фрунзе признавал за успехами на фронте значение перелома. Операция Врангеля на правом днепровском берегу имела очень широкий размах. При удаче она грозила уничтожением всех живых средств Южного фронта. Но зато и провал ее означал не больше, не меньше, как начало стратегического конца войны. Достигнут был также важный оперативный результат: возможность дальнейших ударов по Врангелю. Прикрываясь конными арьергардами, он уводил свои главные силы за мелитопольские укрепленные позиции и сосредоточивал их в районе Серогоз. Фрунзе ясно видел, что противник расстрелял запасы пороха. Для сколько-нибудь серьезных действий белые теперь не годились. Их обессилили, обезволили последние поражения; они были неактивны. Фрунзе опасался уже не вспышек их контрнаступательной энергии, а, наоборот, – отсутствия порывов. Врангель был достаточно умен, чтобы понять, где выгоднейшее для него решение; оно заключалось в том, чтобы отбиваться пехотными частями от нажима с севера и с востока на линии мелитопольских укреплений, а конницу бросить на запад Таким способом Врангель мог добиться если не победы, то свободного отхода в Крым.
Это было ясно Фрунзе. Но предположения его шли гораздо дальше. Можно было не сомневаться, что Врангель будет до последнего держаться в Северной Таврии, чтобы не отходить в Крым. Строго говоря, даже разгром в Заднепровье не вполне сломил его. Крым для Врангеля – голод и лишения; это – признание невозможности продолжать активную борьбу, это – разрыв с Францией, которая интересуется белым «вождем» лишь до тех пор, пока у него есть перспективы на будущее. Удержаться в Северной Таврии Врангелю надо было не по причинам военно-оперативной целесообразности, а из соображений политико-экономической необходимости. И Фрунзе готовился спутать эти карты решительным наступлением.
Косые полосы холодного дождя били в зеркальные стекла вагонных окон, смывая налипший по углам снег. В черной прорве ненастной ночи барахтались, смутно поблескивая, станционные фонари. Поезд командующего фронтом стоял в Апостолове, против вокзала, на запасном пути.
В «салоне» вагона № 76 командармы шумно разбирали стулья и рассаживались у ломберного стола. Члены армейских ревсоветов сидели на диване. Среди них обращал на себя внимание широкоплечий и широколицый человек, с острыми маленькими глазами и длинным, узким ртом. В отличие от других, он держал себя связанно и неловко. Медленно раздвигал тонкие губы и шевелил подбородком, как будто собираясь что-то сказать, но не говорил ни слова. И только его толстая, несколько дряблая шея багровела от скрытого напряжения. Это был Щаденко, член Реввоенсовета Первой Конной армии. Первая Конная подходила, наконец, к Бериславу бесконечным потоком эскадронов, батарей и обозов. Позади – шестьсот километров форсированного марша. И сегодня еще – восемьдесят на переменном аллюре. А завтра – переправа по понтонам через голубой от ледяной корки Днепр и выход с каховского направления на маневренный простор серых, сухих и мерзлых Таврических степей.
Фрунзе изложил план наступления. Цель – окружить и уничтожить силы белых севернее перешейков. Численное превосходство – с очевидностью на нашей стороне. Такого еще и не бывало, по крайней мере, на Южном фронте в двадцатом году. Размах наступления – большой. Оно должно развернуться на линии в триста пятьдесят километров. Идея – удары по флангам, тылам и сообщениям в сочетании с фронтальной атакой. Фланговые и фронтальные удары должны привести к полному окружению и уничтожению белых.
– В этом, товарищи, – сказал Фрунзе, – коренной, конечный, смысл оперативности замысла. И это надо очень хорошо понять.
Он посмотрел на лица командармов. Пожалуй, никогда еще не приходилось ему видеть на них такую общность в выражении чувства и такое единство согласующейся мысли. Да, – они отдавали себе отчет в громадной важности предстоящего. Они знали, что на этом ночном совещании, в ярко освещенном вагоне командующего фронтом, планировался коней военной контрреволюции в Советской России, завершение гражданской войны. Отсюда же открывался переход к трудовому будущему победоносной Республики…
Однако командарм Шестой спросил:
– А если не удастся взять Перекоп с налета?
– Тогда надо немедленно приступить к подготовке артиллерийской и инженерной атаки перешейков. Артиллерии у вас довольно. А инженерных войск…
У Фрунзе была привычка точно знать подобные вещи. Но сейчас что то заскочило в его памяти. Сколько имелось в Шестой армии инженерных частей и каких именно? Он задумчиво почесал щеку. Командарм Шестой копался в своей папке. Его руки прыгали, листы бумаги мелькали, как карты в колоде, а нужная справка никак не отыскивалась. Фрунзе пожал плечами и посмотрел на потолок.
– Пожалуйста, – приказал он адъютанту, – пригласите сюда товарища Лабунского.
Через минуту Лабунский стоял возле маленького адъютанта – огромный, вытянувшийся, готовый выскочить от усердия из самого себя.
– Не помните ли, Аркадий Васильевич, чем богат начинарм Шестой?
– Четыре понтонных батальона, три дорожно-мостовые роты и одна прожекторная, товарищ командующий!
– Благодарю!
– Так и есть! – командарм Шестой хлопнул ладонью по отыскавшейся, наконец, справке. – Точно!
– Вот вам и средства для инженерной атаки…
Когда Лабунский вышел, плечистая, широкая фигура Шаденки зашевелилась на диване, складки по сторонам его рта вытянулись и, наклонившись к соседу, щупленькому члену Реввоенсовета фронта Гусеву, он медленно, но громко сказал:
– Не сбрехал, так еще сбрешет. Факт!
* * *
В тот день, когда Карбышев с женой и дочерью приехал в Харьков, на город валился густой мокрый снег. Привокзальная площадь утонула под белой периной. С крыши шестиэтажной громадины, где помещалось управление Южных железных дорог, то и дело срывались и летели вниз целые сугробы, тяжко плюхались наземь и отскакивали от нее фонтанами грязных и холодных брызг.
Карбышевы ехали из Иркутска до Харькова ровно три недели. Времени было довольно, чтобы мысленно распроститься с тем прошлым, которое оставалось вместе с Пятой краснознаменной армией в Сибири, и приготовиться к встрече с будущим, смутно рисовавшимся в телеграмме Фрунзе.
К тому времени, когда Карбышев добрался до Иркутска, – это было в июле, – с Колчаком уже все было кончено. Однако на Дальнем Востоке еще сидели американские и японские захватчики. Военных действий почти не было, но интервенция продолжалась. Японцы ушли из Верхнеудинска только осенью. Банды Семенова, Унгерна вовсе не собирались складывать оружие. Чтобы сделать возможными дальнейшие операции по очищению Восточной Сибири, надо было укрепить забайкальский плацдарм. Еще до приезда Карбышева в военно-полевых строительствах Пятой армии уже знали о нем. «Не только руководить, а и учить будет». И действительно Карбышев привез с собой множество инструкций и положений, составленных им частью на Волге, а частью по дороге в Сибирь. Многое из привезенного было очень ценно в практическом смысле, настолько ценно, что почти тотчас стало распространяться в качестве неписанного закона. В Забайкалье производились крупные оборонительные работы, рубился лес, прокладывались подъездные пути, рылись окопы, строились блиндажи, – возможность возобновления военных действий отнюдь не была исключена. Через реку Селенгу перекидывали мост к Верхнеудинску, возводили на противоположном берегу предмостное укрепление, усиливали позицию, прикрывавшую Баргузинский тракт.
Карбышев оправдал ожидания. Вместе с ним в полевые строительства Пятой армии ворвался свежий ветер. Технические расчеты сооружений были налицо в типовых чертежах привезенных с Волги инструкции. Но о том, как надо рассчитывать организационную сторону работы, военные инженеры в Восточной Сибири не имели никакого понятия. Карбышев ездил по Селенгинскому рубежу и, всюду наводя порядок и экономию в людях, извлекал из нового опыта новые организационные нормы.
Почти непрерывно объезжая позиции, начинарм Пятой успевал все же заглядывать и в штаб армии, и в свое собственное управление начальника инженеров и даже раза два-три в неделю обязательно попадать к себе домой. Карбышевы занимали две комнаты в квартире, до потолка заставленной сундуками и корзинами с хозяйским добром. Хозяйка, подобно своему имуществу, имела неохватную емкость. Дыша, как кузнечный мех над горном, она ежедневно с раннего утра обрушивалась на Лидию Васильевну лавиной комплиментов и забот. Можно было подумать, что благополучие семьи Карбышевых было ее единственной целью. Врываясь к Лидии Васильевне, она говорила уже с порога: «А вы опять похорошели, моя милая! Если это будет так продолжаться, то чем же кончится?..» Стоило Ляльке проснуться от ее одышливого голоса и заплакать, как она в восторге закатывала круглые глаза: «Что за ребенок! Какая неслыханная душка!..»
В Иркутске субботники начались весной. Сперва расчистили вокзал. Потом привели в порядок пристань и городской сад. Карбышев, был самым деятельным и активным участником работ «великого почина». С тех пор, как Елочкина перевели с линии в управление тридцать четвертого военно-полевого строительства, Карбышев постоянно встречал его на субботниках. Из писем с родины Елочкин давно уже знал о гибели своего отца; от Карбышева ему стали теперь известны и подробности. На родину его не тянуло. Но и Сибирь как-то не приходилась ему по нутру. Зато, услыхав от кого-то, будто в Москве открылось военно-инженерное училище, он испытал острый приступ тоски. Училище это сделалось его мечтой.
– Уж так, Дмитрий Михайлович, по науке скучно, – говорил он Карбышеву, – слов нет, ей-ей!
Однако слова нашлись. И он сунул Карбышеву листок бумаги.
– Коли охота будет, прочтите… Из души вышло… Это были стихи.
Уходящие годины
Нашей жизни молодой
Мы с тоскою проводили,
Мой товарищ дорогой!
Но вперед лишь стоит глянуть,
Чтоб над радужной мечтой
Не остынуть, не завянуть,
Мой товарищ дорогой!
Электрическою дрожью
Входит в жилы ток живой.
Знанье нам всего дороже,
Мой товарищ дорогой!
Карбышев был плохим ценителем стихов. И в этом произведении Елочкина отметил для себя лишь две черты. Во-первых, редкую душевность: «Из души вышло». И, во-вторых, «мы» вместо «я». Последнее особенно бросилось в глаза. Карбышев вдруг понял, как просто и правдиво это народное «мы», «наш» в устах Елочкина, как далеко это «мы» от всяких противоречий и расхождений и как много таится за ним хороших, товарищеских, дружеских, «артельных» чувств…
Тихая улыбка, как фонарь, освещала задумчивое горбоносое лицо Елочкина. И взгляд убегал в далекое будущее за тысячи железных километров от Иркутска и Селенги. Он верил в будущее и ждал его. А Карбышев, как всегда, был с головой погружен в настоящее. И поэтому телеграмма от Фрунзе с вызовом в Харьков на должность начинжа Южфронта оказалась для него совершенной внезапностью. Впрочем, решение он принял сразу.
– Едем, Елочкин? Из Харькова и в школу легче..
– Мы всегда готовы, Дмитрий Михайлович…
– Ячейка не заспорит?
– Уладим.
* * *
В тот самый день, когда Карбышевы и Елочкин после трехнедельного путешествия очутились, наконец, на заваленных сугробами харьковских улицах, из короткой поездки по фронту вернулся в город Фрунзе. Штаб Южфронта был расквартирован на Георгиевской площади, в большом старинном доме с колоннами и высоким подъездом. Карбышев поднялся в бельэтаж. Здесь, налево от подъезда, была приемная командующего, с окнами на белый под снегом, широкий сквер. Фрунзе принял Дмитрия Михайловича в кабинете один на один, с дружественной и ласковой простотой. С первых же слов разговора Карбышев понял главное: опоздал. Три недели, в продолжение которых тащился он через Сибирь и Украину, – огромный срок. И фронт не мог оставаться без начальника инженеров. Лабунский знает свое дело, энергичен и старателен. Он лишь исполняет должность начинжа – не утвержден, да и не будет утвержден, так как должность предназначена не для него. Но сейчас, на самом последнем и самом решительном этапе борьбы с Врангелем, сменять Лабунского было бы так же опасно, как наездника под конец скачки.
Правильно. Эту правильность Карбышев так сразу и так полно почувствовал, что не успел не только огорчиться, но даже испытать естественное разочарование. Ведь он ехал в Харьков не на должность, а на дело. Обстоятельства так сложились, что должность могла бы даже помешать делу. Давнишняя «строевитость» Карбышева, всегда облегчавшая ему прямое и безотказное выполнение долга, с годами и опытом превращалась в благородную способность жертвовать собой для всех, в глубоко осознанное побуждение подчиняться требованиям общей пользы. То, что сейчас произошло, было тяжелым случаем на его пути к выполнению долга. Но если разобраться как следует, казус отяжелялся лишь пустой частностью. Удар Карбышевскому самолюбию наносился только личностью Лабунского. А уж это было такой мелочью, которую человеку с крупным, по-настоящему большим самолюбием было и вовсе нетрудно перенести. И Карбышев спросил:
– Прльикажете быть заместителем начинжа фронта, товарищ командующий?
– Согласны? – обрадовался Фрунзе. – Гора с плеч! Да ведь и не это же существенно…
– А что?
Карбышев смотрел пристально, не мигая. Маленькая, острая фигура его была спружинена и поджата. То, что казалось ему главным по началу разговора, было уже теперь позади. Теперь он ждал настоящего главного, которым решалось самое дело. И с радостью услышал:
– Прежде всего вам надо будет включиться в разработку плана двух штурмов: Перекопа и Чонгара…
* * *
Под инженерное управление фронта был отведен у речки Лопани большой двухэтажный дом. Колченогая канцелярская мебель, разбросанная в беспорядке по двум десяткам грязноватых комнат, придавала помещению на редкость неуютный вид. Хотя Лабунский и был на фронте, но как бы незримо присутствовал в своем управлении.
– Кабак!
Карбышев сидел в маленьком кабинетике, который очистили для него на втором этаже, рядом с большой и пустынной комнатой заседаний. Против Карбышева пристроился на поломанном стуле Дрейлинг.
– Кабак! – повторил Карбышев.
Дрейлинг занимал в управлении должность инспектора для поручений и отнюдь не имел своего прежнего, брызжущего здоровьем и самодовольством вида. Он не то, что отощал, а как бы спал с тела и особенно с лица, совершенно утратившего прежний ветчинный оттенок. При этаком, несколько новом обличье Дрейлинг, однако, сохранил без каких бы то ни было изменений корректную добропорядочность своих манер и приемы несокрушимой благовоспитанности. Встреча с Карбышевым ничуть не была ему приятна. «Еще одно начальство!» Но с этим человеком связывались воспоминания о добрых старых временах, а это уже было кое-что. Лабунский, в глазах Дрейлинга, не имел такого преимущества. Как же не поддаться искушению? Притаившаяся душа Дрейлинга давно жаждала случая излиться, посетовать искренне и без опаски.
– Есть народная поговорка, – говорил Дрейлинг, – мы, русские люди, все ее знаем: каков поп, таков и приход. Лабунский – талантливый руководитель, но он чрезвычайно хаотичен. Эти свойства отзываются на аппарате, который тоже хаотичен. Это какая-то Русь удельной эпохи. И во главе – Святополк Окаянный!
– Похож, как… обезьяна на человека! – засмеялся Карбышев.
И Дрейлинг тоже смеялся, отводя душу, то есть отдавая должное остроумию собеседника и еще больше восторгаясь своим собственным.
– Но нет худа без добра, – продолжал он, – я пришлю к вам сегодня нашего хозяйственника. Великолепный малый. Он будет очень полезен вам для устройства ваших квартирных и бытовых дел, мебель, посуда, – отыщет, доставит. И все это – совершенно pour la bonne bouche[42]42
На закуску, на даровщинку (франц.).
[Закрыть], из одного усердия. Великий мастер на маленькие дела. Его чрезвычайно ценит Лабунский. Сегодня пришлю. Кстати: он работал перед войной в Бресте. Может быть, вы даже…
– А как фамилия этого Калиостро?[43]43
Знаменитый фокусник XVIII века.
[Закрыть]
– Жмуркин.
Карбышев вздрогнул, но так незаметно, что Дрейлинг имел возможность совершенно спокойно и не спеша вернуться к основной теме разговора.
– Вообще здесь, на юге, нас собралось немало старых инженерных служак. Лабунский… Вы, я… Наркевич… И еще… еще кое-кто… Что такое – военные инженеры? Одна боевая семья, маленькая, но удивительно дружная, с общим прошлым и параллельными воспоминаниями. Ищите нас там, где пылает очаг войны. Мы все – близ него, налицо и в полном составе, крепко стоим и отлично делаем свое дело. В настоящее время очаг войны – здесь, на юге. Казалось бы, как нужен нам именно здесь твердый, неуклонный порядок! Однако его нет и в помине. Все пошло вверх ногами, в особенности с тех пор, как началась эта пресловутая «кампания победы», – газеты, листовки, бюллетени, митинги, беседы, конференции беспартийных, сверкающие глаза ораторов и лихорадочные клятвы уничтожить Врангеля. Из политотделов направляются в войска первой линии коммунисты. Они-то и ораторствуют, по преимуществу. Меня недавно затащили на одну из таких конференций. И я позволил себе тоже высказаться. Я сказал прямо: лобовой штурм укреплений Перекопа будет стоить очень большой крови. Недавно Врангель осматривал перекопские позиции. Мне известно, как он отозвался о них: «Многое сделано, многое предстоит еще сделать, но Крым уже и теперь неприступен». Я, конечно, не привел этой фразы Врангеля, а между тем…