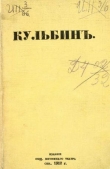Избранные произведения. Том 1

Текст книги "Избранные произведения. Том 1"
Автор книги: Сергей Городецкий
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Я помню близкое навеки
Твое вечернее лицо,
И полуспущенные веки,
И брови нежное кольцо.
И в каждом взоре незнакомом
Ищу утраченный огонь,
И лег мой путь кривым изломом
По вехам чающих погонь.
И, настигая, счастлив снова:
О, не блеснет ли старый взгляд!
Но безнадежно и сурово
Бичи прошедшего казнят.
В зиянье пьяного убранства,
Кивая веками, встает
Лицо, опухшее от пьянства,
И всё еще несытый рот.
5 мая 1906
Слепая мать глядит в окно,
Весне морщинками смеется.
Но сердце, горю отдано,
Больней на солнце бьется.
Не надо света и красы!
Не надо вешней благодати!
Считает мертвые часы
Мой сын в далеком каземате.
1906
Где-то улицей далекой
Ты проходишь. Суета.
И с толпою многоокой
Вся душа твоя слита.
А в высотах, над домами,
У открытого окна
Я с мечтами и слезами,
И любовью – все одна.
1909
Вот опять снега растают, улыбнется вешний свет,
И у дома по канаве побежит седой поток,
Размывая желто-бурый неоттаявший песок,
Унося с собой кораблики – утехи детских лет.
Стекла зимние умыты, и капели каплют вниз.
Смотрит девушка в окошко, по заречью на погост:
Не пора ль идти ко всенощной! Теперь Великий пост.
Я люблю Ефрема Сирина и траур черных риз.
Так страшно и так радостно. Мне в середу говеть,
Во всех грехах покаяться. А в чем же я грешна?
Не в том ли, что на улицу мне весело смотреть,
Не в том ли, что на улице веселая весна?
Буду я на все вопросы отвечать: грешна, грешна!
Не таскала ли у матери припрятанных сластей?
Не слыхала ль от крамольников бунтующих вестей?
И слыхала, и таскала! Все равно, теперь весна!
Земля еще под пологом
Предутренних теней.
А окна фабрик светятся
В морозной темноте.
Зачахли сиротливые
И звезды и созвездия
Над трубами, дымящими
В глазницы высоте.
И льются, льются нищие,
Закутаны лохмотьями,
Ругаясь на ходу.
И пасть глотает черная
Чешуйчатый поток,
Ползучую змею.
Уж пять часов привычных,
Скрипя, часы фабричные
Ударили, крича.
Пять яростных ударов
Кричащего бича.
Пять ран в пустое сердце
Прилипшего к одру
Глушительного сна.
Пять тысяч острых ран
В густую чешую
Сползающей змеи
С нагретого одра.
Уж скоро солнце зимнее
Над каменной стеной
Покажет, озираясь,
Морозное лицо,
Омытое в крови.
И в грохоте и рокоте
Завертятся, закружатся
Колеса и ремни,
Глумясь и издеваясь
Над жизнью каторжан.
Январь 1907
В пыльном дыме скрип:
Тянется обоз.
Ломовой охрип:
Горла не довез.
Шкаф, диван, комод
Под орех и дуб.
Каплет тяжкий пот
С почернелых губ.
Как бы не сломать
Ножки у стола!..
Что ж ты, водка-мать,
Сердца не прожгла?
Май 1906
Высоко-высоко над землей
Чердаки на домах, чердаки.
Серый мрак, свист и вой, свист и вой,
Ветровой старой песни клоки.
Не запеть в чердаках по-людски:
Только песню начнешь —
С первых слов
Оборвет,
Унесет
В небеленую глотку окна.
Перекрикнуть-то грудь не вольна —
И замрет,
Упадет
В спорыньевую рожь
Человечьих голов,
На панель из окна.
Балок, труб, и столбов, и подпор
Разукрасила плесень стену.
Воронья, голубей разговор.
Подойти – не подходишь к окну.
Полюбила голубку одну:
Голубок сизокрыл
На морозе застыл
И упал,
Застучал
По фасаду замерзлым крылом —
Подоконники выставил дом;
Ветер гнал,
Нападал
И над птицей завыл
Между улиц-могил,
Над крестом-фонарем.
Протянулись к столбу от столба,
Закрестились веревки в кресты.
Стебанет – задрожишь. Эх, судьба!
Деревенские вспомнишь кусты,
Заозерские видишь мосты:
Только месяц взойдет,
Шибче речки бежишь
На мосток
Невысок.
Под овчинкой, обнявшись, сидеть,
Милу другу глазами блестеть…
Ах, цветок,
Милоок!
За кусток целовать уведет,
Под высокой травою дрожишь,
Век бы в синее небо глядеть!
Ну-ка, вешай, да делу аминь.
Понамыто белья без конца,
Полотенец, рубах и простынь
Из двадцатой квартиры жильца,
Не видала бы я наглеца!
Обнадежил красавчик седой,
Лысый бес, генерал,
Обещал,
Насказал:
В «Эрмитаже»-то буду я жить,
Ни о чем-то не знать, не тужить.
Погулял
И прогнал:
Чтоб те смаяло душу бедой!
Чтоб ты пропадом, старый, пропал!
Чтоб до смерти тебе не дожить!
Январь 1907
Вечерний сумрак беспокоен,
Он надо мной, за мной стоит.
Прекрасный занавес раздвоен,
Явился взорам чудный вид:
Над пастухами и пастушкой
Уютной хижины дымок.
Зовет пастушка милой ручкой
Зайти в приветливый домок.
На небе тающий багрянец,
На небе тоже чудный вид.
Мне каждый час больней румянец
Твоих стареющих ланит.
Тебя ласкали, обнимали,
Придут еще, и ты пойдешь,
И не меня в угарном зале
Рукой знакомой обоймешь.
И все покинут представленье,
Актеры вымоют лицо,
От утомленья и томленья
Прижму к губам твое кольцо.
И заблужусь в сетях дорожек,
В тенях подстриженных кустов,
Под редкий стук унылых дрожек,
Под всплески пьяных голосов,
Усталой, смятой и печальной
Ты выйдешь к утру в пальтеце,
И я поймаю зорьки дальней
Живую алость на лице.
1906
Мама окна завесила.
У нее будет весело,
Но не пустят меня.
Будет свет, а потом —
Будет смех, а потом
Замолчат без огня.
Угадаю иль нет?
Кто сегодня? Брюнет?
А вчера рыжий был.
А на днях был старик,
Здесь повесил парик —
И забыл!
Мама, верно, больна,
Все скучает одна
И молчит.
Подзовет, обоймет,
Волоса мне завьет
И глядит.
Ноябрь 1905
«За тебя, моя дочь, убиваюсь,
Я без слез на тебя не гляжу!»
«Мама, мама, я все же венчаюсь,
По судьбе за него выхожу».
И глумилась, и горько смеялась:
«Он ведь старше тебя, он урод!»
Холодела, рука, изгибалась,
И сжимался испуганный рот.
Покупала дешевого фаю
Подвенечное платьице шить.
«Я ведь знаю, давно уже знаю:
Не любить еще нам, не любить».
Поднимала икону, стояла,
Над невестой творила кресты.
Обрученная низко лежала,
Восковые дрожали цветы.
Повенчала и с мужем богатым
Отпустила на первую ночь.
И потом, пригибаясь к заплатам,
Вспоминала богатую дочь.
Приходила и скромно садилась:
«Помоги мне на черные дни».
И у дочки улыбка змеилась:
«Пока можешь, червонец, звени!»
Ноябрь 1905
Подглядывал, высматривал и щурился глазком:
«Позвольте познакомиться, я, кажется, знаком.
Как под руку с молоденькой приятно погулять!
Теперь столоначальника желал бы повстречать.
Квартира холостяцкая, живу невдалеке,
Не будет ли браслеточка вам эта по руке?»
Лоснится, светит лысина из кучи одеял.
В углу стена закапана: лампадку доливал.
«Побудь еще, цыпленочек, быть может, зацвету.
Ты видишь, я как яблоко, в соку и во цвету».
«Ах, ноют, ноют ноженьки, вон видишь синий след
На память что подарите, ужель один браслет?»
Октябрь 1906
Хозяйка убивается,
Устала от хлопот.
Покоя добивается,
Поклоны земно бьет.
«Пошли, Господь, хорошую,
Красивую собой,
Тяжелою я ношею
Придавлена Тобой.
Двух девушек гуляющих
Держала для гостей,
Хозяйству помогающих,
Питающих детей.
Давала стол и горницу
За семьдесят рублей.
Спаси, Господь, затворницу,
Нет жизни нашей злей.
Ты знаешь сам, таскаются
Пьянешеньки-пьяны.
Стучат, поют, ругаются,
Как в пасти сатаны.
Квартира никудышная
И с кухней проходной.
Тяжка мне воля вышняя -
Век маяться одной!
Которая веселая,
Та до сих пор живет.
Другая – рыба хволая,
Приманит и заснет.
Не выдержала, бедная,
Ах, тьфу ты, боже, тьфу!
Напала болесть вредная —
Повесилась в шкафу.
Теперь забота новая —
Какую подберу?
За стол и все готовое
Полсотенки беру.
Пошли, Господь, хорошую,
Красивую собой.
Тяжелою я ношею
Придавлена Тобой.
Твоею волей двинуты
И горы и моря.
Тут детски рты разинуты,
Не дай погибнуть зря!»
И молит, добивается,
Поклоны земно бьет.
Хозяйкой называется,
Сама весь дом ведет.
Январь 1907
Неустанная дорога
Убегает без огней
От сознания до Бога
И от неба до саней.
Костенея в зимней скуке,
Мимо движутся стволы
И протягивают руки,
Пальцы путая в узлы.
В белой шапке, кривобокий,
Дом нагнулся и заснул,
И ползет огонь безокий
Из его раздутых скул.
Вот еще, другой и третий,
На коленях, в простынях,
Все уродов старых дети
С красной точкою в глазах.
Подойди, ударь в окошко —
Сонно выглянет лицо,
Замяучит жалко кошка,
Кто-то выйдет на крыльцо:
– Что ты бродишь, непутевый,
Люди спят себе давно! —
Звякнут старые засовы,
В темноте умрет окно.
И опять, не уставая,
Вверх дорога потечет,
Побежит, не убегая,
Деревянный небосвод.
1905
На заборчиком узорным, стиснут красненькой каемкой,
Парк, наследье вековое, в древность узкое окно,
Измельчавших птиц услада, дно зеленой чаши емкой,
Парк, изрезанный дорожками, но выросший давно.
Есть еще в зеленом сердце уголки самой природы,
Где глядится глаз прохожий во всебожии глаза,
Где сплетаются любовно и любви свивают своды
Метки лиственных деревьев, липа, ива и лоза.
Есть еще святые ложа, приготовленные Богом
Для сливающейся твари с ним, друг с другом, в полноту.
Но в народе приходящем, мелкодушном и убогом
Нет стремлений, нет порывов, облечений в красоту.
Разодетые подробно, тело скрывшие нелепо,
Дважды, трижды обернувшись в неуклюжие мешки,
Взявши позы, заучивши изреченья глупых слепо,
Ходят мелкими шагами, мерят чувства на вершки.
Там с подкрашенных сурмином женских губ глядится краска,
Из-под взбитых неуклюже войлок дыбится волос,
И глазами, приученными ко лжи, дарится ласка
Слепоглазам, одуревшим от вина и папирос.
Взявшись под руки, гуляют по усыпанной дорожке,
Испещренной их следами и бумажками конфет,
И экстаз любовный цедят и впивают яд по ложке,
Оскверняя у деревьев память прежних, ярких лет.
Если ж странно и нежданно загорится у подруги
И темноте живого глаза озарение любви,
И, к любимому прижавшись, затрепещет, как в испуге,
И безвольным телом телу скажет робко: позови —
На призыв любви – ты знаешь – как ответит друг убогий:
Сосчитав в кармане деньги, поведет ее к углу
И, взвалив любовь с подругой на засиженные дроги,
Повезет огонь к трактиру, довезет одну золу.
И обратно, заедая утоленье нег минутных
Бутербродом, принесенным на прогулку про запас,
В парк приедут для вечерних впечатлений, сонно-мутных,
Завершения воскресных жизни будничной прикрас.
Целый день и целый вечер терпит парк позор прогулок,
Недоступно охраняя сердца девственную глушь,
И когда стихает вечер и на шумный переулок
Сон находит и уводит по домам бесцветность душ —
За заборчиком узорным, стянут красненькой каемкой,
Парк, наследье вековое, в древность узкое окно,
Смотрит горько на пустое дно зеленой чаши емкой
И вздыхает гулким вздохом веток, выросших давно.
1907
Стынет озеро. Над озером высокая гора.
Сплошь застроены купальнями крутые берега.
Поиграл тут кто-то в домики, и брошена игра,
А игравший скрылся ловко в поднебесные луга.
Полдень в волны бросит яркий, насыщенный солнцем зной,
По купальням слышны крики, всплески, визги и смешки.
Расхрабрится и, нырнувши, проплывет пловец иной
Два аршина синей волей и назад в свои мешки.
От купален по мосточкам, разгороженным точь-в-точь,
Переходят на дорогу и с дороги прямо в сад
За решетку, в тот-то номер, день и вечер дотолочь,
Скоротать и жизнь наполнить счетом маленьких услад.
За стеной сосед пиликать будет, радуя свой слух,
Запоет внизу известный в граммофоне баритон.
Побежит студент влюбленный, ко всему суров и глух,
На зеленую скамейку увидать условный сон.
Солнце ясно на закате позолотит окна дач,
Друг за другом налезающих наверх, на склон горы;
На балкончики картежников сведет тоска-палач
Подогреть сердца пустые острым трепетом игры.
Мочь настанет, и поманит, и обманет: не любовь,
А привычка или скука свяжет пары там и здесь,
И любовники, любовницам слегка волнуя кровь,
Устыдясь луны, на окна головой мотнут: завесь!
Полый круг луны высокой все увидит с высоты:
Крыши, трубы, переулки, и вершину озарит,
Где кладбищенские дремлют, надпись высунув, кресты:
Кто, да кто, какой породы и с которых пор лежит.
Как и в жизни городили, чтобы точно знать свое,
Так и здесь решеткой прочной каждый крестик обнесен.
Жизнь в пределах протекала. Что-то кончило ее.
Должен сон и запредельный также быть определен.
Стынет озеро. Над озером высокая гора.
Сплошь застроены строеньями крутые берега.
Поиграл тут кто-то в домики, и брошена игра,
А игравший скрылся ловко в поднебесные луга.
1907
И опять визги, лязги шарманки, шарманки,
Свистящей, хрипящей, как ветер, во мне, —
Размалеванной жизни пустые приманки,
Коса из мочалки на лысой луне.
«Маргарита», венгерка и вальс «Ожиданье»,
И вальс «Ожиданье», тоска и тоска.
Той мещанки над жизнью пустой тоскованье,
Чья радость и дело – вязанье носка.
Вот по этому парку, цветов не срывая,
Гулял, поджидал – по траве не ходить!
Золотиста коса, за цветы задевая,
Гимназиста с ума приходила сводить.
Там из досок под соснами пол настилали,
Танцевали венгерку, вертелась рука.
Целовались, клялись и подруг ревновали, —
Шарманка, шарманка, тоска и тоска!
Не хочу. Надоело. Без маски глядится
В лицо мне седая мещанская жисть.
Эй, кому травяная коса пригодится,
Дешевая краска, удалая кисть?
Январь 1907
Изныла грудь. Измаял душу.
Все отдал, продал, подарил.
Построил дом и сам же рушу.
Всесильный – вот – поник без сил.
Глаза потухли. Глухо. Тихо.
И мир – пустая скорлупа.
А там, внизу, стооко лихо,
Вопит и плещет зверь-толпа.
«Ты наш, ты наш! Ты вскормлен нами.
Ты поднят нами из низин.
Ты вспоен нашими страстями,
Ты там не смеешь быть один!»
Как рокот дальнего прибоя,
Я слышу крики, плески рук.
И одиночество глухое
Вползает в сердце, сер паук.
Да. Я был ваш. И к вам лишь рвался,
Когда, ярясь от вешних сил,
В избытке жизни задыхался,
Метался, сеял и дарил.
Когда же в темную утробу
Вся сила, сгинув, утекла
И жизнь моя к сырому гробу
На шаг поближе подошла, —
Я увидал глаза и пасти,
Мою пожравшие судьбу,
И те же алчущие страсти,
И ту же страстную алчбу.
И возмущенный отшатнулся,
И устрашенный отошел.
Владыкой в омут окунулся,
Назад вернулся нищ и гол.
О, вам отныне только песни!
Я жизнь для жизни сберегу.
Я обману вас тем чудесней,
Чем упоительней солгу.
Поэт, лукавствуй и коварствуй!
И лжи и правды властелин,
Когда ты царь – иди и царствуй,
Когда ты нищий – будь один.
Март 1907
Я стар и слаб. Но помню я,
Но что-то помню с давних пор
Из страшной Книги Бытия,
И что-то видел этот взор.
Мой голос глух, и мысль темна,
Родился я – скончалась мать.
Я знаю жизнь дотла, до дна.
О, только, только б рассказать!
Мой детский мир был так суров.
Подвальный мир: окно вверху —
Все та же казнь за жизнь отцов
И зуб за зуб расчет греху.
О, сколько раз, избит ремнем,
Я вверх кричал: «О, Ты! Кто Ты?»
Но день молчал. И с новым днем
Опять молчанье и кнуты.
Прошло ученье. Г од любви!
Густая ночь тяжелых кос.
И пыль в глазах. И жар в крови.
И утром блески белых рос.
Священный год! Я Бога знал.
Я знал весь мир моим, одним.
Но кто же, кто навек отнял,
Что было миг один моим?
Нет мук страшнее мук родов —
Все та же казнь за первый грех.
О, женский крик и лязг зубов,
И в этом крике чей-то смех!
Родить живого – род продлить.
Но для чего родить птенца
Глухонемым? Гнилую нить
Зачем тянуть от мертвеца?
Когда бы знать, кого проклясть,
Кого позвать, к кому поднять
Хулой сверкающую пасть,
Когда бы знать, когда бы знать!
За годом год мне в душу нес
Тяжелый груз позорных мук,
Удавный гнет событий рос,
Судьба душила тьмою рук.
Дряхлела кровь, и голос гас,
И свянул жизни алый цвет,
И с каждым часом ближе час
Ночного зова в горний свет.
Пускай. Я – вот. Я весь готов.
О, там молчать не буду я!
Я помню муки всех веков,
Я знаю Книгу Бытия.
И я спрошу: вот этот шрам,
Вот этот стон. Вот тот удар.
За что? За что? И кто Ты сам?
И жизнь людская Твой ли дар?
И если Твой, будь проклят Ты
И Твой закон. И власть Твоя.
От нашей крови все желты
Страницы в Книге Бытия.
Я шел по улицам, и город громкий
Вокруг выбрасывал прохожих без числа,
Несущих шляпы, палки и котомки,
Невольников безделья или ремесла.
Я был уродлив, мелок и недужен,
Я чьим-то вымыслом был вымышлен дурным,
Но этой жизни городской не меньше нужен,
Чем труб фабричных серый дым.
Был полдень на исходе. Солнце сонно
Слепило окна, зданий пестрые глаза.
Я думал: жизнь чарует неуклонно
И здесь, где конки, лавки и воза.
Как бы в ответ на эти мысли
Из-за угла старуха выставила горб.
Черты – нет, не лица, а кладбища – отвисли,
Но даже их скрывал двойной остроугольный горб.
«На праздник жизни жизнь сама же
Свое уродство кажет мне, глумясь!» —
Подумал я и дальше шел, отважен,
В глаза впивая уличную вязь.
И тотчас же привлек мое вниманье
Старик солдат, заснувший у окна,
Где бегали, теснясь, обложки и названья
На полках, подставлявших рамена.
Он спал. Но глаз один не мог закрыться,
И над белком вверху темнел зрачок.
И в нем не перестала улица кружиться,
И мимо город так же сыпался и тек.
«Война! Несовершенство яркой жизни! —
Ответил мысленно я встрече старика, —
Но сколько блага принесет своей отчизне
Детей, рожденных нами, быстрая река!»
И детское я увидал существованье.
Но лучше б не видать такого бытия!
Рахитиком предстало мне страданье,
В огромном черепе бессмысленность тая.
Как? Ты опять противоречишь встречей
Моим надеждам, мыслям и мечтам?
Так на, смотри: я сам иду предтечей
Желанных дней, смотри – я сам!
Я сам, уродливый, убогий и недужный,
Всю силу красоты в себе несу!
На эти вымыслы твоей тоски ненужной
Грядущего я возношу красу!
Июнь 1906
Городские дети, чахлые цветы,
Я люблю вас сладким домыслом мечты.
Если б этот лобик распрямил виски!
Если б в этих глазках не было тоски!
Если б эти тельца не были худы,
Сколько б в них кипело радостной вражды
Если б эти ноги не были кривы!
Если б этим детям под ноги травы!
Городские дети, чахлые цветы!
Все же в вас таится семя красоты.
В грохоте железа, в грохоте камней
Вы – одна надежда, вы всего ясней!
1907
О лица, зрелища трущобных катастроф,
Глухие карты тягостных путей!
Невольный голос ваш печален и суров,
Нет повести страшнее ваших повестей.
Как рассказать, что рассказал мне тот старик,
Поднявший до виска единственную бровь?
Когда-то в страхе крикнул он – и замер крик,
И рáвны пред его зрачком убийство и любовь.
Взгляни на ту, закутанную в желтый мех,
Подкрасившую на лице глубокий шрам.
Она смеется. Слышишь яркий, женский смех?
Теперь скажи: ты отчего не засмеялся сам?
Вот перешла дорогу женщина в платке.
И просит денег. Дай. Но не смотри в глаза.
Не то на всяком, всяком медном пятаке
В углах чеканки будет рдеть блестящая слеза.
И даже в светлый дом придя к своим друзьям,
Нельзя смотреть на лица чистые детей:
Увидишь жизнь отцов по губкам, глазкам и бровям —
На белом мраморе следы пороков и страстей.
Но и старик, и женщина, и детский лик
Переносимы, как рассказ о житии чужих.
Но что за ужас собственный двойник
В правдивом зеркале! Свой взгляд в глазах своих!
<1907>
Ты помнишь эту лестницу под крышею ворот,
Ступени черной лестницы и грязное окно,
Ночное ожидание: придет ли, не придет?
Глухие наши радости, ушедшие давно?
Любимая, затерянная в мчащихся годах!
Ты хочешь, все прошедшее вернется к нам теперь?
Вот полночь хрипло пробило на кухонных часах,
Вот гулким болтом брякнула внизу входная дверь.
За день-деньской измученный, ослабший и больной,
По этой темной лестнице тяну за шагом шаг.
Зимой, дождливой осенью иль белою весной,
Все тот же изувеченный, душою зол и наг.
Не ты ль бродягу жалкого впускала и звала,
Звала любимым чахлого, дарила поцелуй,
Не ты ли губы серые ласкать-лобзать могла,
Шептала горемычному: «Любимый, не тоскуй».
Я помню милой комнаты убогонький уют.
Да, теплой, тихой комнаты. И ласку грубых рук.
И все, чем жизни бедные влачатся и живут,
И все, чем только терпится судьба, сосун-паук.
Мои седые волосы! Блуждающий мой взгляд!
И там в глуши Смоленского нагнувшийся твой крест!
О, как же люди ждут еще, идут и говорят,
О, как же еще движется такая жизнь окрест?
Март 1906
Ах ты, Ванечка-солдатик,
Размалиновый ты мой!
Вспоминается мне братик
Перед бунтом и тюрьмой.
Вот такой же был курносый
Сероглазый миловид,
Только глаз один раскосый
Да кругом лица обрит.
Вместе знамя подшивали,
Буквы клеили на нем.
Знали: сбудем все печали,
Только площадь перейдем.
Белошвейня мне постыла,
Переплетная – ему.
Сердце волею заныло,
Ну-ка, душу подыму!
Только почту миновали
И к собору подошли,
Серой тучей наскакали,
Словно встали из земли.
Жгли, давили, не жалели,
Вот такие же, как ты…
Прочь, солдат, с моей постели!
Память горше бедноты!
Вот такие же хлестали
Беззащитную гурьбу.
Что глаза мои видали,
Не забуду и в гробу.
Уходи, солдат проклятый!
Вон он, братик, за тобой
Смотрит, чахлый, бледноватый,
Из постели гробовой.
Январь 1907
В уездном городе глухом
Жил старый часовщик.
Колес и стрелок скопидом,
Минуток гробовщик.
Осколок древности самой,
Он был Христу родня
И, часовой замкнут тюрьмой,
Не знал сиянья дня.
За кассой дочь часам любви
Утекшим счет вела.
Бегут часы: люби, лови!..
Ах, если б я любить могла!
Но час настал, ударил гром.
Толпа гудит, зовет:
Вставай, товарищ, мы идем!
Стучатся у ворот.
Что надо вам? – Открой скорей!
Кому открыть? – Открой!
Не смеет дочь открыть дверей,
И прянул вольный рой.
Пробит висок. Коса в крови.
Ушли. Стучат часы.
Часы летят, считай, лови!
Бегут часы трусы.
Сидит старик во тьме дневной,
Сквозь тьму на труп глядит.
Часам кивает сединой,
А в ставни дробь стучит.
Стучит, дробит клочки минут,
Добить, добить слепцов!
Кто жив, сюда! – Кто жив, тот тут.
Слепцы из мертвецов.
1907