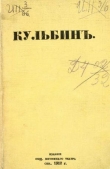Текст книги "Избранные произведения. Том 1"
Автор книги: Сергей Городецкий
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Не раз ты в горестные годы
Стоял пред недругом своим,
Терпел смертельные невзгоды,
Но был всегда непобедим.
Свой лук натягивая туго,
Москва, и Тула, и Рязань
С гостями запада и юга
Всегда выдерживали брань.
Не раз в столетьях быстрокрылых
В лицо врагам бросал Урал
Неисчерпаемые силы
Своих могучих гор и скал.
Не раз ты гордую Европу
Спасал от дерзких дикарей
И взнуздывал их грозный топот
Рукой своих богатырей.
И вновь тебе достался жребий:
Созвав возлюбленных сынов,
На суше, в море и на небе
Бить человечества врагов.
Они хотят все уничтожить,
Чем жизнь прекрасна и добра,
Всю радость мира подытожить
Бандитским взмахом топора.
Они ораву воспитали
Убийц, смакующих погром,
И много стран четвертовали
Кровавой свастики крюком.
И бросился в наш край коварно
Поправший совесть лиходей, —
Туда, где в доле лучезарной
Уж воплотились сны людей,
Где уж лелеяли народы
Свой быт, свой гений, свой язык,
Где каждый азбуку свободы
С ребячьих лет читать привык.
Но встал грозой неотвратимой
На озверелый дикий сброд
Ты, нашей родиной любимой
Взращенный доблестный народ.
Все, что построил, все, что добыл
В суровых битвах и трудах,
Ты бросил в бой последний, чтобы
Был до конца разгромлен враг.
Народ родной, народ мой русский,
Рассеет мрак твоя звезда!
Безумье войн и крови сгустки
С земли ты смоешь навсегда.
Несокрушимою отвагой
В огне неслыханных боев
Ты завоюешь жизни благо
Для всех народов и веков.
1941
СТИХОТВОРЕНИЯ
«Подвал сырой…»«Завяла жизнь. На гобелены…»
Подвал сырой,
Негде уснуть,
У жены больной
Отощала грудь.
Голод – мой брат,
Детям – отец.
Или назад,
Или конец…
Стану к станку,
Выбью тоску.
«Не ходи работать,
Папа, не ходи!
Потерпи заботу,
Счастье впереди!
Я ли не задорна,
Я ль не молода?
В улицах просторно,
Много ли труда?»
«Позабыла бога?»
– «Я не знаю бога,
Знаю голод я».
– «Позабыла стыд?»
– «Нет стыда на свете,
Нет и у меня.
Голодают дети,
Печка без огня.
Не ходи работать,
Папа, не ходи!
Наше счастье впереди».
<1906>
Микеланджело
Завяла жизнь. На гобелены
Похожи краски наших дней.
От гордых замков – только стены,
И алый уголь от огней.
Я не хочу, чтоб жизнь живая
Была жива умершей красотой,
Чтоб, в море сонно уплывая,
По глади стлался парус мой.
Где ветер, ветер быстрый, вольный!
Примчись! И облака примчи.
Коль ночь – так ночь. И мрак бездольный
Милей, чем серые лучи.
<1908>
Пиза
Когда Матвей безумным оком
Из глыбы мрамора взглянул,
Я в строе космоса высоком
Заслышал сил дремучих гул.
Мне показалось, что колонны
Не сдержат здания: такой
Был этот взор неутоленный,
Горящий гневом и тоской.
И показалось мне: трепещут
Несотворенные сердца,
И камни молниями плещут
От мук безвыходных творца.
Вокруг Матвея горы, глыбы,
Едва початые, стоят.
Они быть радостью могли бы,
Но полонила скорбь их взгляд.
Четыре пленника, четыре
Вдруг взбунтовавшихся раба,
Почуяли, что в дольнем мире
Нечеловечья есть судьба.
Они заламывают руки
И рвутся из глухого сна,
Смертельные приемля муки
На мраморные рамена.
Один почти освободился,
И на Зевеса он похож.
Другой спиною в мрамор впился
И в мускулах почуял дрожь.
Ногами третий и руками
Уперся, чтоб свободу взять,
Но неразрывными цепями
Успела жизнь его сковать.
А женщина вся изогнулась
Невероятно, и в локте
Рука бессильно извихнулась,
Скривились губы в маете.
Из плену рвущуюся силу
Я вижу, вечный вижу спор…
Так папе римскому могилу
Украсить замышлял скульптор.
<1912>
Флорентийский рассвет
На Арно каменная риза
Надета вновь. Река течет
Дугой, и призрачная Пиза
Лежит, веков забывши ход.
Пускай взволнованно толпятся
В тени колонн биржевики:
Дремучим, давним сном томятся
Седые берега реки.
Там, под стеной, в конце аллеи,
Уютный домик тихо спит.
В нем Галилео Галилеи
Родился – надпись так гласит.
Там в церкви небольшой знамена
Чуть шелестят о прежних днях,
Мечту свободы немудреной
В шелку изорванном храня.
Там поросла травою площадь,
Где мрамор с бронзою немой
Ведут рассказ библейский проще,
Чем строки Библии самой.
Там молчаливый баптистерий,
Девятый начиная век,
Все тем же эхом звуки мерит,
Когда поет в нем человек.
Там колокольня наклонилась,
Чтоб поглядеть за край земли,
Как будто ей планета снилась,
Где виснуть тяжести могли.
Но видны только Апуаны,
Поляны, взморье, виноград,
Лениво дремлющей Тосканы
Все тот же безмятежный сад.
1912
Триумф смерти и триумф любви [63]63
На Фьезоланские холмы
Туманы алые бредут.
О, как же одиноки тут
С тобой, возлюбленная, мы!
Зелено-млечную струю
Качает Арно в берегах
Высоких. В легких небесах
Последнюю звезду ловлю.
Ты спишь по-детски. Простыня
Родное тело облекла,
Как будто в мрамор ты легла,
Диан изваянных дразня.
Гремит телега под окном,
Возница щелкает бичом.
Стал сам себе я палачом,
Покинув северный свой дом.
О милая малютка дочь!
О замыслов любимых хор!..
За цепи невысоких гор
Бескрылая сбегает ночь.
И бег ее напомнил мне
Твой девичий скользящий бег,
Ломавший звонко-белый снег
В каком-то невозвратном дне.
4 июля 1912, Флоренция
К фрескам на стенах Кампо Санто в Сиене.
[Закрыть]
Море
С сокольничими кавалькада
С охоты мчалась. Легкий путь
Ей колесница преградила
На черно-матовых быках.
Косою Смерть, поживе рада,
Уж собирается взмахнуть,
И скошенное взять могила
Спешит, и к праху никнет прах.
На четырех на белоснежных,
Красиво впряженных конях
Амур везет влюбленных пленных,
В огне танцуя, поднял лук.
О, сладко падать смертью нежных,
Томиться в золотых цепях
И тосковать, в чертах надменных
Утаивая ярость мук!
27 июля 1912, Сиена
Ночь на чужбине
Нахлынули силы
Гремучим прибоем,
С восторженным воем
Несутся, летят,
Пред сонным покоем
Чащобы унылой
О вечном смятенье
Гудят и шумят.
Я в уединенье
Лесов не спасаюсь,
Стою без движенья
Пред пеною сил
И сам себе каюсь,
Что тихо я жил.
Волна за волною,
Кипящие жизнью,
Летят предо мною
На смерть роковую,
И волю живую
Я чую в просторах,
В безудержных горах,
Друг другу на смену
Летящих стеною.
О волны! Я воин!
Мне враг, кто спокоен.
О море родное,
Крести меня пеной,
Смятеньем обрызни!
1912
Флоренция
Море с небом в мутный хаос,
В мглу недобрую слилось,
От земли, воздетой на ось,
Унеслось, оторвалось.
Сбился вниз звезды Полярной
Еле видимый маяк.
Ковш черпнул воды коварной
И упал в бездонный мрак.
Между морем и песками,
Между небом и землей
Колет облако рогами
Месяц, тоненький и злой.
В глубине, где – неизвестно —
Воздух реет иль вода,
Полыхает перекрестно
Жутких молний череда.
Бешено вскипает пена
На беспомощных валах.
Море мчит из бездны плена
В диких воплях старый страх.
Воет темнота: «К победе!»
И песок береговой,
Осыпаясь, бредит, бредит
Маетою вековой.
1912, Марина ди Пиза
Мучения Св. Юстины
Бессмертные в тени Уффиций,
В недвижных мраморных телах,
Обстали светлой вереницей
Мой движущийся смертный прах.
Вам сердце Севера! Что знали
Вы про далекую страну,
Где мы безудержно вздымали,
Как новь земли, свою весну?
Вам отворилось сердце наше
В начале самых давних дней,
И мраморный Давид стал краше,
И Боттичелли стал юней.
В язык певучий и старинный
Бессмертных Дантовых терцин
Вникаем мы душой невинной,
Не подряхлевшей от кручин.
И в схватках с тьмою очумелой
С Боккаччио смеемся мы,
Читая вольные новеллы,
Спасающие от чумы.
И легче птиц в простор и воздух
Мы с Боттичелли молодым,
Стряхая гнет, как с крыльев воду,
Чуть опечаленно летим.
О Микеланджело! Тобою
Богатыри примирены
С своей гигантскою судьбою:
Безмерным меры найдены.
Как ты неодолимый мрамор —
Могучим молотом своим,
Мы вдохновенно и упрямо
Все глыбы жизни победим.
1912, Флоренция
Джинестри
У негра в красном колпаке
Меч в размахнувшейся руке —
Ждет только знака господина.
Пред ним блаженная Юстина.
Она покорна, и ясна,
И воле божьей отдана.
Без гнева, без единой пени
Она упала на колени.
Уж полотно сорвали с плеч.
Неотвратим жестокий меч:
Он отсечет грудь молодую,
Нагую, нежную такую.
Так, крепче пут, тесней желез,
Навеял чары Веронез.
Я долго зрителем единым
Стоял пред муками Юстины.
Хотел уйти – и все не мог,
Мне стыд тяжелый сердце жег.
И вдруг почуял я, что учит
Меня чему-то тот, кто мучит.
Чем грудь казалась мне бледнее,
Тем меч острей сверкал над нею.
Я слышал с уст молитвы лепет
И чуял в теле жуткий трепет,
Но превозмог себя. И вдруг
Я оглянулся: жарких двух
Глаз изможденных за собою
Увидел я сверканье злое.
Высокий, темный и худой,
За мной стоял монах седой,
И, взором палача в картину
Впиваясь, мучил он Юстину.
1912, Флоренция
Савонарола
Веселый Джинестри,
Невестин иль сестрин,
Но девий цветок,
У пиний огромных
На веточках скромных
Зажег огонек.
Он искры острее
На иглах желтеет
И пахнет, как мед.
И к нежным забавам
И ласкам лукавым,
Сияя, зовет.
О южные девы!
Любви перепевы
Запеть в новый срок
Ужели не дивный
Учил вас призывный
Джинестри-цветок.
1912, Марина ди Пиза
Фонтан
Ты исказитель Боттичелли,
Монах, мне страшный, и аскет.
Но отчего всю ночь без цели
Брожу я в горе и тоске
По площади темнопустынной
И к круглой бронзовой плите
Склоняюсь с тяжкою повинной
В неудержимой прямоте?
Как будто я костер багровый
Своей рукою разводил
Под тем, кто с яростью суровой
Любимой правде жизнь дарил.
Как будто я был с той; старухой,
Которой темные уста.
Из пламени кричали глухо
Слова: «Святая простота!»
Ог если б мог поднять десницу
Огромный мраморный. Давид
И вырвать жуткую, страницу,
Что Книгу Бытия чернит!
Брожу в тревоге. Ум двоится.
Безумие из темноты
Грозит крылом своим склониться
И подхватить… Пусты, пусты
Полночных улиц перспективы.
И с круга бронзового в ночь
Вещает профиль горделивый:
«Гори, безумствуй и пророчь!»
1912
Рим
Четыре прекрасных наяды
За полные груди свои
Схватились, и держат, и рады
Приливу жемчужной струи.
Над ними Нептун величавый
Стоит, молчалив и красив,
О девах любви и забавы,
О них навсегда позабыв.
Он бог. Что же помнить о девах?
Им – счастье. Ему – не беда,
Коль в бронзовых трепетных чревах
Четыре он зачал плода.
1912, Болонья
Сорренто
Был день тот задумчиво-хмурым,
И в облако кутался Рим,
Когда вознеслись Диоскуры
Пред медленным взором моим.
Я легкой стопой в Капитолий,
Гробницу истории, шел.
Волчица металась в неволе,
И крыльями двигал орел.
В блаженном раздумье Аврелий
Скакал на могучем коне,
И кудри его зеленели,
Как матерь-земля по весне.
Привет тебе, Рим! Величав ты
В руинах свершенной мечты!
К тебе всех веков аргонавты
Плывут за руном красоты.
И я, издалёка паломник,
Внимая полету времен,
Стою здесь, как будто припомнив
Какой-то счастливейший сон.
1912, Рим
Девушка из Помпеи
В небо дымчатые пинии
Мощным взлетом вгнетены.
Ты скажи мне, море синее,
Что прекрасней тишины?
За примолкшими вулканами
Спит безбурная лазурь.
Я зову устами пьяными
Дни смятения и бурь.
Я на миг душой взволнованной
К тишине морской приник,
Но, плененный, но, окованный,
Только в бурях я велик.
Не для нас покой таинственный,
Созерцанье не для нас.
Извержений дым воинственный
Наш окутывает час.
<1913>
Дума
Душою северной и снежной,
Уставшей в горестях святых,
Я полюбил тебя так нежно,
Как не любил я дев земных.
Прекрасных ног твоих движенье,
Невинный контур легких ног,
Я без волшебного волненья
Ни разу созерцать не мог.
А жест, каким ты защищалась
От изумительной судьбы, —
Мне это сразу показалось —
Был жестом царственной мольбы.
В последний раз взметнулись косы,
Последний раз стеснило грудь,
И пепла жгучего заносы
Всё скрыли в темноту и жуть.
Двух тысяч лет полет спокойный
Твоей не тронул красоты,
И в сером камне стан твой стройный
Навеки обнажила ты.
Так странен этот гроб музейный,
Витрина лучшего стекла,
Когда жива ты – от лилейной
Ноги до чистого чела!
<1913>
В саду у Репина
Я был бесчувственным, как камень,
От горя, муки и кручин.
Но солнце вновь блаженный пламень
Во мне зажгло: я – солнца сын.
Я вновь Италией прекрасной
Средь виноградников лечу
И знаю: в жизни не напрасно
Любви и света я хочу.
Не узам темным, не веригам
Людская жизнь обречена,
А вечным взлетам, буйным мигам,
Причастью алого вина.
Весной безлиственные лозы
По осень гроздья понесут.
Безостановочные слезы
Над миром сети не сплетут.
Ведь в струях слезных многоцветней
Восстанут радуги круги,
Лишь вверься солнцу безответней,
Пред светом в темный день не лги!
<1913>
Какой старинной красотою
Уединенный сад цветет,
Где жизнью мудрой и простою
Художник радостно живет?
Недвижим дремлющие воды,
Красивы ивы у воды.
Содружны здесь с рукой природы
Людские мирные труды.
Там куст сиреневый посажен,
Там брошен камень-великан.
Из-под земли на много сажен
Студеный вверх летит фонтан.
А посредине сада домик —
Как будто сказка наяву —
Стоит и тянется в истоме
С земли куда-то в синеву.
Он весь стеклянный, весь узорный,
Веселый, смелый и чудной.
Его завидев, ворон черный
Летит пугливо стороной.
А певчих птиц семья цветная
Гнездится густо близ него,
Своей игрой напоминая,
Что жизнь – земное торжество!
Разговор с Русью
Выйдет в курточке зеленой,
Поглядит на водомет,
Зачерпнет воды студеной
И с улыбкою испьет.
Светлый весь, глаза сияют,
Голубую седину
Ветер утренний ласкает,
Будто легкую волну.
Семь десятков за плечами,
А как будто ноши нет!
Детски зоркими очами
Он глядит на белый свет.
Не устал он, не измаян,
Полон силы и борьбы,
Сада яркого хозяин,
Богатырь своей судьбы.
Солнце всходит, пышет златом…
Тихо, тихо он стоит
И за облаком крылатым
Взором ласковым следит.
Может быть, он видит детство,
Молодых начало дней,
Озорное малолетство,
Вырезных своих коней?
Иль, черемуху почуяв
В легковейном ветерке,
Видит вешний свой Чугуев
В невозвратном далеке?
Июль 1914
Ландыш
Огни последнего трактира
Ночь подобрала под бурнус.
Дорога вырвалась из мира
В лесную тьму, в ночную Русь.
Еще вдали в селе звенели
Ребят веселых голоса.
Но с каждым шагом глуше нелюдь
И непрогляднее леса.
Ямщик смекнул: «Куда ж мы гоним?
Куда ты едешь?» – «Трусишь? Стой!»
Я слез, и укатили кони,
Укутываясь темнотой.
Один. Родимой тишиною
Лесная дышит чернота.
И высь, где звезды светом ноют,
К земле пригнулась у куста.
«Русь! Это ты? – Истомой слуха
Пытаю мать. – Ты слышишь, Русь?»
– «Да, это я. И я, старуха,
На маленьком не помирюсь.
Да где ж ты был? Да что ж ты делал?»
– «Я был с тобой. В веках. Не в тех,
Где ты под плеткою радела,
В бреду выдумывая грех».
«В каких?» – «В невиданных, в грядущих,
Где ты доныне не была,
Где всех отрады неимущих
Ты в пурпур счастья облекла».
«Да это ты из сказок вычел
Про сласть кисельных берегов
Или подслушал в песне птичьей
В туманном мареве лугов.
Как встарь, я в топях и оврагах,
Как встарь, костьми меня мостят
Пожар и мор, беда и брага,
Как встарь, соловушки мне льстят».
«А ну-ка, мать, привстань немного.
Прислушайся к себе сама!..»
И расхлестнулась вдаль дорогой
Шуршащая лесами тьма.
Я на руках не то у ели,
Не то у матери родной.
И дышит древней силы хмелем
В лицо мне сумрак вороной.
И смотрят шире ночи очи,
Зарницы рвут ресниц покров,
И сердце влажное клокочет
За грудью в волосах лесов.
Мне жутко, и тепло мне. «Что же
Ты видишь? Что ты слышишь, мать?»
И – вихрем вслух: «На то похоже,
Что буду солнце подымать».
1923
Горюшко
О чем вы шепчетесь, кусты?
О бездне синей высоты?
О сумраке у ног своих,
Где ландыш беленький притих?
Уже томит его жара,
И умирать ему пора.
А лето только подошло,
Развеяв первое тепло.
Печален, кроток и красив,
Сухие чашечки склонив,
Последний раз он прозвенит,
Последний раз он опьянит
Вечерний воздух, и земля
Поглотит жемчуг со стебля
В грудь ненасытную свою.
А я ей песенку спою.
Она дала, она взяла.
Она сплела в один венок
И сладость первого тепла
И смерти горький холодок.
13 июня 1937
Послесловие
Без призора ходит горе
От одной избы к другой
И стучит в окно к Федоре,
Старой сватье дорогой:
«Отвори, Федорушка,
Отвори скорей!
Это я тут, Горюшко,
Плачу у дверей».
«Нет с Федорой разговора,
Ты мне, Горе, не родня!
Хлеба горы, денег ворох
Получила с трудодня».
Горе шасть в другую хату,
Где в окошках шум и свет,
И стучится в двери к свату,
Другу прежних горьких лет.
«Приюти, Егорушка,
Сватьюшку свою!
Это я тут, Горюшко,
У дверей стою».
«У Егора с Горем ссора!
Уходи от хаты прочь!
За колхозного шофера
Выдаю я замуж дочь».
Горе плачет, пот струится
По костлявому лицу,
И в окно оно стучится
К многодетному отцу:
«Отвори, Сидорушко,
Пропусти в жилье!
Ты ведь помнишь Горюшко
Вечное свое!»
«В Красной Армии три сына,
В школу отдал дочек трех.
Тут седьмые Октябрины,
Не марай ты мой порог!»
«Что с народом приключилось?
Не видало отродясь!..»
Горе лужицей расплылось.
Солнце высушило грязь.
1937
Нимфе
Достоевский
Последняя страница книги,
Мой друг, закрылась пред тобой:
Огромной жизни нашей миги
В ней сплетены с моей судьбой, —
Борений полной, непонятной
Подчас и мне. Рассудишь сам,
Где родинки – рожденья пятна,
Где сóзвук юным голосам.
Но не к тебе лишь послесловье,
Читатель мой, обращено, —
И к той, чьей верною любовью
Мне было солнце зажжено.
Она, души моей подруга,
В глухие годы тьмы и зла
Из заколдованного круга
Меня в свободный мир вела.
И если что-нибудь живое
Услышишь в повести седой,
Скажи спасибо молодое
Той, кто была моей звездой.
1947
«Струны белые березок…»
Уйдите! Уйдите! Я вас не хочу.
Я вас умоляю, учитель, – уйдите!
Смеетесь? Ошиблись. Я мчусь. Я лечу
В пылающем вихре вам страшных событий.
Вы доктора сын. Вы большой психиатр,
Анатом рубцов изъязвленного мозга.
Людского страданья Эсхилов театр
Вы ставите властно махиной громоздкой.
Поймите меня. Вам легко пожалеть
Проходимца двух эр, двух эпох ледниковых.
Вы построили мне одиночную клеть!
Вы на волю надели смиренья оковы!
Так зачем же вам ночью меня посещать,
Вам, мучителю дум краевых поколений?
Я из клетки бежал, вызволенья ища,
Я не с вами, а с тем, кто свобода, кто Ленин.
Солнцем день закипает. Взрывают гудки
Безделья ночного седое болото.
Я в массе. Я с нею. Гудков кипятки
Мне шпарят израненный череп работой.
А вы истлеваете в блеске труда,
Вы лысым ребенком застыли в тревоге,
В костлявые пальцы зажав повода
Сорвавшейся тройки, чей кучер был Гоголь.
Вы ждете, гранит запахнув на себе,
Немым валуном средь людей притворяясь,
И смотрите вдаль, где идет по Трубе,
Стреляя ресницами, Соня вторая…
Гудки замирают. Кончается труд.
Цепляясь за окна фатой синеватой,
Унылые сумерки в город бредут,
Вся линия улицы ночью измята.
И снова, пугая распухшим лицом,
Вот тем, что в гробу срисовал с вас художник,
Ко мне, соблазняя терновым венцом,
Из Мертвого дома приходит острожник.
Клочок порыжелой в страстях бороды.
Пиджак словно соткан из невских туманов…
Я знаю: колода картишек худых
Взметнется из близкого к сердцу кармана.
Вы мечете банк. Я иду… Проиграл!
Еще… Карта бита. Я нищий!
Со Спасских ворот долетает хорал:
«Вы жертвою пали…»
Вы ищете пищи.
Искусству раскрыв ненасытную пасть,
В нее вы бросаете тему за темой,
И жадная ночь насыщается всласть
Еще не написанной вами поэмой.
– Хотите ва-банк? —
Отвечаю дрожа:
– Хочу! Достоевщина – ставка! —
Но раньше, чем карта, ударом ножа
Рассвет рассекает нас. Кончена явка.
Я к форточке. Воздуху! Ветер, смеясь,
Сдувает губительный пепел свиданья,
И кожу окраски сменив, как змея,
Вдаль улица стройно ведет свои зданья.
И строится город, и пилы звенят,
Прочнейшую гать настилая на омут.
И странная сила уносит меня
За вами идти. Но идти по-другому.
И словом, борьбой налитым, как у вас,
Взвалив вашу страшную ношу на плечи,
Хочу не смиренью учить я сейчас —
Хочу рассказать я про бунт человечий.
1929–1967
«Осень, осень! Золотая!…»
Струны белые березок
Потянулись в синеву,
Всю стряхнул осенний посох
Золотую их молву.
И задумчивые ели,
Гордо вея головой,
Изумрудом засмуглели,
Расправляя бархат свой.
1955
«Настанет час, когда меня не станет,…»
«Осень, осень! Золотая!
Тая в бездне голубой,
Безвозвратно улетая,
Унеси меня с собой!»
«Листьям простеньким приятна
Лётной смерти быстрота,
Но ведь ты, мудрец занятный,
Жил на свете неспроста?»
1955
Моя обитель
Настанет час, когда меня не станет,
Помчатся дни без удержу, как все.
Все то же солнце в ночь лучами грянет,
И травы вспыхнут в утренней росе.
И человек, бесчисленный, как звезды,
Свой новый подвиг без меня начнет.
Но песенка, которую я создал,
В его трудах хоть искрою блеснет.
1955
Арфа
Весь мир мне улыбался,
И улыбался я.
А он, качаясь, мчался
По безднам бытия.
Кругом летят созвездья,
У каждого свой путь.
Умчаться с ними вместе,
На эту жизнь взглянуть?
Но не хочу расстаться
С обветренной землей, —
Уж лучше с нею мчаться,
То ль доброй, то ли злой.
Хотите ль, не хотите,
Но эту благодать —
Житейную обитель
Мне жалко покидать.
1967
Вере Дуловой
Когда из голубого шарфа
Вечерних медленных теней
Твоя мечтательная арфа
Вдруг запоет о вихре дней,
О бурях неги, взлетах страсти,
О пламенеющих сердцах,
Я весь в ее волшебной власти,
В ее ласкающих струях.
И кажется, что эти звуки
На волю выведут меня
Из праздной скуки, душной муки
Ушедшего бесплодья дня.
1967
Комментарии
Все тексты стихотворений, составивших настоящий том, за исключением особо оговоренных случаев, печатаются по изданию: Городецкий Сергей. Стихотворения и поэмы, Библиотека поэта. Л., Советский писатель, 1974.
В комментариях приняты следующие сокращения:
Блок А, – Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, М. – Л., 1960–1963.
ЛН – Литературное наследство. М., «Наука».
ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.
ЯРЬ
Книга «Ярь» в том виде, в каком она почти полностью печатается в настоящем издании, представляет собой первый том «Собрания стихов» Городецкого. На контртитуле тома имеется помета: «Том первый. Книга первая и вторая», но внутри тома разделения на книги нет. На титульном листе издание названо вторым. Объясняется это тем, что еще в конце 1906 года вышла первая книга молодого поэта, также называвшаяся «Ярь». В нее входило 66 стихотворений – далеко не все, написанное и опубликованное Городецким к тому времени. Книга открывалась стихотворным вступлением, в дальнейшем вошедшим в цикл «Рождение». Об обстоятельствах создания этой книги автор позже вспоминал: «Летом (1904 г.) я поехал на «кондиции» (уроки) в усадьбу тогдашней Псковской губернии. Все свободное время я проводил в народе, на свадьбах и похоронах, в хороводах, в играх детей. Увлекаясь фольклором еще в университете, я жадно впитывал язык, синтаксис и мелодии народных песен. Отсюда и родилась моя первая книга «Ярь» («Мой путь», с. 322). Летом следующего года основные стихотворения этой книги были написаны, но только зимою 1906 года (не позже 19 декабря) сборник вышел в свет. Поэт не был удовлетворен им: «Вот и вышла «Ярь», – писал он Блоку 19 декабря 1906 года. – Как далеко от того, что хотелось, даже от укороченной мечты… Книжечка жалкенькая по виду и двойственная по содержанию – такова и должна быть моя Ярь» (Блок А. Записные книжки. М., 1965, с. 533). Но книга была очень высоко оценена многими современниками. В письме к матери от 21 декабря 1906 года Блок назвал «Ярь» «может быть, величайшей из современных книг» (Блок А. Письма к родным, т. I. Л., 1927, с. 161). А в своей записной книжке отметил: «Большая книга… Городецкий – весь полет… Может быть, «Ярь» – первая книга в этом году – открытие, книга открытий». Вяч. Иванов в рецензии писал: «Все, что вытекло в «Яри» из народной песни, лирической и лиро-эпической, подлинно и высоко поэтично… В его языке – подлинная динамика народной речи… Он ничего не воспроизводит исторически точно или этнографически подлинно, но свободно творит так, как ему дано, ибо иначе он и не может». («Критическое обозрение», 1907, вып. 2, с. 49.) В. Я. Брюсов писал: «Своею «Ярью» Сергей Городецкий дал нам большие обещания и приобрел опасное право – быть судимым в своей дальнейшей деятельности по законам для немногих» (Брюсов В. Далекие и близкие. М., 1912, с. 164).
Вторая книжка Городецкого – «Перун» вышла в свет в первой половине 1907 года. В нее вошло 52 новых стихотворения. Сборник открывался вступлением, в дальнейшем не перепечатывавшимся, как заметил сам автор, «по недосмотру»:
Ты знаешь утреннюю ясность
И на заре сиянье рек,
Когда всемерную безгласность
Приемлет в сердце человек.
Ты помнишь ропот мой вечерний
И на заре вечерней взор,
Чело в теснинах алых терний
И сердца нищего позор.
Узнай же ты: восстал я ныне
И руку поднял на Отца:
Моей сияющей пустыне
Не светит око мертвеца.
Мнения критиков об этой книге разошлись. Если Брюсов считал, что «разница между «Ярью» и «Перуном» только та, что лучшие стороны дарования С. Городецкого представлены в «Перуне» слабее, а более слабые черты везде первенствуют» (Брюсов В. Далекие и близкие, с. 165), а Белый прямо утверждал, что «Перун» – «это из рук вон плохая книга очень талантливого поэта» («Перевал», 1907, № 8–9, с. 104), то А. Блок в статье «О лирике» писал: «Вторая книга Сергея Городецкого – «Перун» – не обманула надежд, открытых «Ярью» (Блок А., т. 5, с. 145).
В 1910 году Городецкий объединил сборники «Ярь» и «Перун» в первый том Собрания стихов, дав ему общий заголовок «Ярь». Состав тома был пополнен большим числом (63) новых стихотворений, часть из которых печаталась здесь впервые. Из сборника «Ярь» в том не вошло одно стихотворение: «Ну, поцелуй. А в этот миг…», из сборника «Перун» – тоже одно: «Проклятие ночам и дням…» По поводу последнего в авторских примечаниях сказано, что оно пропущено «за негодностью». На обороте титульного листа тома были факсимильно воспроизведены авторские посвящения: «Посвящены стихотворения: «Перун-Солнце» – К. Бальмонту, «Хаос» – Вяч. Иванову, «Змеюка» – Алексею Ремизову, «Заря» – А. Блоку, «Я захотел, и мир сияет…» – Ф. Сологубу, «Славят Ярилу» – Н. Рериху и другие – другим». В самом корпусе издания некоторые из этих посвящений не отмечены. Не без влияния Блока автор перестроил композицию издания (см.: Блок А., т. 5, с. 145). Теперь Городецкий разделил том на 3 отдела – «Зачало», «Ярь» и «Темь», а внутри отделов одни стихотворения были объединены в циклы, другие печатались самостоятельно. Блок одобрил эту перестройку: теперь «материал расположен лучше, – писал он, – уже нет прежнего, вынужденного обстоятельствами разделения на «Ярь» и «Перун» (там же, с. 412). Предисловие, предпосланное тому, получило отрицательную оценку Блока: «Сколько тут самой прозаической и скучной злобы дня, каких-то дерзновений, которые давно пора забыть», – писал он (там же). Наконец, в начале 30-х годов в предисловии к несостоявшемуся изданию стихотворений Городецкого, А. В. Луначарский писал: «В книге «Ярь» есть много удивительных… вещей… Особенно обращаю внимание на стихотворения «Ярилу ставят» и «Ярилу славят». Луначарский отмечает, что в первый период творчества поэта «у него начинают доминировать ноты, родственные Некрасову, – поэзия печальная, негодующая, в общем народническая, хотя она ближе к Некрасову произведений городских, чем к Некрасову деревни. Я отмечу здесь сильные стихотворения: «Вся измучилась…», «Слепая мать глядит в окно…», «Сын», «Гость» (ЛН,с. 46).
«Я под солнцем беспечальным…»– Это стихотворение было написано Городецким в имении «Молочище» Псковской губернии, где он давал уроки во время летних студенческих каникул. Вместе со стихами «Я далекий и нездешний…», «Вся измучилась, устала…», «Наклонялись головы над страницами…», «Над стеною озаренной…», «Зной» было приложено письмо Городецкого к Блоку от 5 июля 1905 г. (ЦГАЛИ).Вяч. Иванов писал об этом стихотворении в «Критическом обозрении» (1907), что «эти строки безусловной законченности».
«Я как ветер над вселенной…»– Стихотворения молодого Городецкого привлекли внимание многих композиторов. Романсы на его стихи писали И. Стравинский, А. Гречанинов, В. Багадуров и др. Это стихотворение было положено на музыку А. Прохоренко.
«В гулкой пещерности…»– Этим стихотворением открывался первый сборник Городецкого «Ярь».
«Я оплакал себя, схоронил…»– Стихотворение послано в письме Блоку 28 июня 1906 г. Разночтение во 2-й строке – «И могильную речь произнес». В письме, отвечая на несохранившееся послание Блока, Городецкий говорит о «новом периоде», который наступает в литературе и общественном сознании. «Ваше письмо – самое важное, что свершилось за последнее время в историях литературы. Вы – последнее, что надо было своротить с места во что бы то ни стало. Это письмо то, что я неминуемо ждал после «Балаганчика», подведшего итоги. Только я ждал сразу в поэзии, но так еще лучше, решительнее. Я Вам сейчас все расскажу, только напишу сначала одно свое стихотворение (приведено стихотворение «Я оплакал себя, схоронил…» В. Е.). Это к ответу на вопрос «приходили ли мне в голову мысли, подобные Вашим».
«Я захотел – и мир сияет…»– Во втором сборнике Городецкого «Перун» опубликовано под заглавием «Дьявол» и посвящено Федору Сологубу (1863–1927). Творчество Ф. Сологуба всегда привлекало пристальное внимание Городецкого. Он считал Сологуба одним из столпов новой русской поэзии, неоднократно обращался в критических статьях к его творчеству. «Самые простые слова, в самых простых сочетаниях имеют у него неуловимый аромат, остро изысканный… Ведь такие стихи лежат на крайних пределах утонченного человеческого слуха». («Идолотворчество». Золотое руно, 1909, № 1.) Сохранилось несколько книг с неопубликованными дарственными надписями Ф. Сологуба – С. Городецкому. Приводим одну из них на трагедии Ф. Сологуба «Победа смерти»: «Сергею Митрофановичу Городецкому «Книжка за книжкой». Федор Сологуб.
Декабрь 1907»
Зане– потому что.
«И в день седьмой почил навек…»– С шестого дня отплытий– строка восходит к библейскому преданию, что на шестой день бог создал человека.
«Ты пришла, золотая царица…»– Дионис– в греческой мифологии – бог растительности, покровитель виноделия.
«Отчего узнается в глазах…»– Китоврас– в славянской мифологии – получеловек-полуживотное.
«Каждый вечер ткани ткать…»,«Темной ночью в лес вошла…» – составили цикл «Заря», опубликованный в 1907 г. в сборнике «Грядущий день» с посвящением А. Блоку. Это была одна из первых публикаций стихов, посвященных А. Блоку; 1907 год – время наиболее тесного сближения Блока с Городецким.
« Высокую башню построил…», «Приполз к белой башне…», «Трубу к устам твоим…»– В первом сборнике С. Городецкого «Ярь» составили цикл «Поэт», посвященный А. Блоку. К циклу дан в сборнике эпиграф из Библии: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. Аввакум. II, I».
Триптих С. Городецкий приложил к письму Блоку от 4 марта г.
23 августа 1921 г. С. Городецкий, узнав в Баку о смерти Блока, послал в Петроград матери Блока А. А. Кублицкой-Пиоттух тетрадку, куда включил стихотворения цикла «Заря» за исключением стихотворения «Стелет ткани свои, золотые…». На тетради посвящение: «Вашему сыну» (Институт русской литературы).
«Опять, нежданностью смущенный…» Фавн —в древнегреческой мифологии – бог полей и лесов. Дриады– в древнегреческой мифологии – нимфы лесов.
«Хаос».– В факсимильно воспроизведенных посвящениях в начале первого тома Собрания стихов цикл «Хаос» посвящен Вяч. Иванову. Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949) – поэт, драматург, филолог, переводчик, теоретик символизма.
«Беспредельна даль поляны…»Впервые опубликовано в кн. 1, сборника «Факелы», 1906, с посвящением «Вячеславу Иванову, жрецу Диониса». Строка «Мы ведь можем, можем, можем!» стала своеобразным символом молодой поэзии. О ней неодобрительно писал Блок в статье «Противоречия», но приветствовали ее В. Хлебников и Д. Бурлюк…
Рожество Ярилы.Среди других, вошедших позднее в сборник «Ярь», Городецкий послал это стихотворение А. Блоку. Он, вспоминал Городецкий, «один из первых и мудрее многих сказал о них то, о чем через год все кричали» (Воспоминания о Блоке в кн.: Городецкий С. Русские портреты. М., 1978, с. 9).