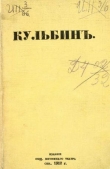Избранные произведения. Том 1

Текст книги "Избранные произведения. Том 1"
Автор книги: Сергей Городецкий
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Вот я вижу, вот я слышу —
И ничем не заглушить, —
Как на Волге дети дышат
В умирающей тиши.
Снег одел их: съели крышу.
Мышь под печкой не шуршит.
Гложет хилую ручонку
Семилетний старичок.
Он прижал к себе сестренку
На костлявое плечо.
Не подобен он ребенку,
Этот высохший стручок.
На его лобишке малом
Голод четко написал,
Как, родимая, устала
Черноземная краса,
Как ногами генерала
Белый бес на ней плясал.
Как в столетьях-лихолетьях
Рабство сéкло спину ей,
Как неслась она под плетью,
Под упряжкой богачей,
Как упал под черной клетью
Неоглядный мир полей.
Все, кого войной убило,
Детским взглядом шлют нам весть.
В этом личике застылом,
В этом плаче: «Дайте есть» —
Все написано, что было,
Только разве вам прочесть?
И в пустой тиши избенок
Так сидит и няньки ждет,
Скорбью старческих глазенок
Избяные бревна жжет,
Так сидит старик-ребенок,
Няньки-смерти тихо ждет.
Тихо нянька поглядела.
Замахнулась… Чьей рукой?
Потрошат ребячье тело.
Чьей рукою и какой?..
А тебе какое дело? —
Материнскою рукой!
Ты живешь, и ешь, и дышишь.
Смертный час свой веселишь.
И в проеденные крыши
Не твоя глядится тишь.
Не твои исчезли мыши,
И не твой убит малыш.
Наш он! Наш! И к нам, усталым,
Крик его издалека
Долетел, и детям малым
От рабочего станка
Встала помощь мощным валом
Из последнего куска.
Что ж, бросайте подлый камень,
От бессилия рыча.
Золочеными клыками
Изнуренных рвите нас.
Смертной Волге жить веками.
Вашей жизни только час.
Март 1922, Москва
Рассказать вам праздничную повесть?
Вот она:
Мужик, голодными метелями обмотанный,
На базар вынес совесть —
Не для того, чтобы торговать,
А чтоб даром ее раздавать.
Много ль вынес, иль мало —
На всех бы сытых достало.
Белоперая метелица
Мягким пухом стелется.
Товары торопятся
В корзины угробиться.
Толпой богатеи
Покупают, потеют.
Мужик в печали великой
Стоит да выкликивает:
«Совести, совести,
Кому надо совести,
Кому надо совести,
Простой человеческой совести?
Берите, прохожие,
Девушки пригожие,
Толстосумы-купцы,
Бумажные молодцы.
Пройди всем базаром —
Ничего не возьмешь даром.
А я о цене не говорю,
Даром даю.
Совести, совести,
Кому надо совести?
Возьмите хоть кусочек для праздника…»
«А что с ней делать, дяденька?»
«Даром товар, даром и совет. Берешь иль нет?
У тебя что к сочельнику зарумянено:
Свинина иль баранина?
Полгуся?
Иль весь порося?
Прежде чем сесть
Да без оглядки есть,
Кусочек совести, с зернышко,
Положи себе в горлышко».
«Это вместо соли,
Что ли?»
«Нет, дитятко, нет,
Дослушай совет:
Нужна соль в избе,
А совесть – в тебе.
А в праздничный ужин
Мой товарец особенно нужен.
Без совести как?
Тебе кусок, а Волге песок.
А с совестью так:
Тебе кусок – и Волге кусок.
Понял, дитятко? Да где ж ты, милый?
Ишь, как ножом его отхватило.
Сгинул, пропал,
Как про Волгу услыхал.
Совести, совести,
Кому надо совести,
Простой человеческой совести?..»
Отшумел базар,
Свернулись лотки,
Расхватали товар
Богачи-едоки.
Стоит мужик голодный,
Метелью обмотанный.
Сытым не нужна совесть.
Вот она,
Праздничная повесть.
1921
МИРОЛОМ
Какая осенняя ночь,
Какая полночная осень!
Все это уж было давно.
И так же был сумрак несносен.
И так же кричал на камнях
Ребенок, голодный, холодный,
Из судорог страшного дня
Заброшенный в мрак безысходный.
И так же сквозь девичий смех
По скверам гнусавила похоть.
И так же легко было тьме,
И так же, и так же мне плохо.
И те же вбивали часы
Двенадцать мертвящих ударов
В пожары созвездий косых,
В огонь этих дальних пожаров.
Но гневно простерлась у стен
Могила того великана,
Который грозой проблестел
И в славу бессмертную канул.
И пела со стоном стена
Не рабскую песню «Коль славен» —
Свободный «Интернационал», —
Тревожа полуночный саван.
И слышал призыв великан:
«Вставай!» И цветы на кургане
Дыханьем своим колыхал.
«Я встану, – шептал он, – Мы встанем».
1922
По ночам из углов, из подвалов,
Из беззубых оскалов домов
Ярче алых каприйских кораллов
Смотрят язвы живых мертвецов.
И кто может, безрукий иль хрóмый,
Гадом ползать по лику земли,
Покидает расселины дóма,
Вылезает из смрадной щели.
Грузно тащит распухшее тело,
Волочит искаженный сустав,
Все, чем сердце здоровое рдело,
В безнадежной тоске отрыдав.
Волос ершится, грязный и дыбкий,
На ладонях мозоли и прах.
Не сыскать человечьей улыбки
В искривленных от злобы устах.
Ни добра, ни участья не надо.
Путь единственный – ниже упасть.
И страшна, как воротища ада,
От ругательств сгоревшая пасть.
В это время богатые люди,
Кто разряжен, и сыт, и румян,
Как плоды наливные на блюде,
В кузовах пролетают в туман.
В этот час к освещенным квартирам
В белых туфлях, в чулочках сквозных
Мчатся Евы, не чуя над миром
Полусгнивших бунтующий вздых.
Стонет в залах оркестр, бьют рояли,
И с лилейных, как снег, скатертей
Запах масла, барана, кефали
Льется в ноздри ползущих смертей.
И тогда поднимаются трупы
На обрубки колен, на живот.
Ярче рампы сияют их струпы,
Громче хора их голос орет:
«Эй, довольно! Мы тоже владыки!
Электричество нужно и нам!
Пусть для всех распахнется великий
Иль разрушится празднества храм.
Пусть для всех будет радость и счастье,
Вспыхнет солнце на каждом челе,
Иль своею бездонною пастью
Ночь пожрет все, что есть на земле».
1919
Ветер весенний ворвался в осенние окна,
Мчится, летит, призывает: «Идите все, кто к нам!»
С ним лепестков абрикосовых, розовых тучи
Самому слабому шепчут: «Иди! Ты могучий!»
Ветер поет: «Я из снега, из северной дали
К вам прилетел, чтоб вы лучшую долю узнали!»
К нищим, убогим, забитым рабам по оконцам
Звонко стучит: «Выходи! Цепи рви! Ты под солнцем!
В стуже, в крови, мы на севере дальнем и белом
Стали свободны – и вам, под плетьми оробелым,
Вам, терпеливо несущим позорную муку,
Вам подаем молодую содружную руку!»
Тонут миндалин испуганных крупные зерна
В черных ресницах. Скрываясь в одеждах узорных,
Девушки ветер весенний как счастие слышат.
Холст белоснежный сердца молодые колышат.
Там, в тростниках, из уютной отцовской лодчонки,
Смотрит старик в синеву, в высоту. Ветер звонкий
Слышит за всех, кто в земле, кто упал, землю бросил.
Радость в морщинах – как солнце под взмахами весел.
1922
ГРАНЬ
Лирика 1918–1928
Рогнеде Рети
«Отдыхай всей грудью…»
ОДИН В ПУСТЫНЕ
Отдыхай всей грудью,
Смотри в этот сумрак,
Слушай эту ночь!
Что было – не будет.
Тому, что ты умер,
Ничем не помочь.
Утро из сумерек,
Радость из бедствий,
Из чернозема рожь —
Не только ты умер,
Но ты и воскрес ведь,
И новым живешь.
<1929>
Напрасно ищешь тишины:
В живой природе нет покоя.
Цветенье трав и смерть героя,
Восторг грозы и вой луны,
Туч электронных табуны,
Из улья вешний вылет роя,
Вулкана взрыв и всплеск прибоя
В себе таинственно равны.
Нирваны нет. Везде тревога!
Ревет у твоего порога
Полночных хаосов прилив.
Не бойся никакой Голгофы.
Весь мир плененной бурей жив,
Как твоего сонета строфы.
Июнь 1918, Тифлис
Из хрусталя незримого фиала
Струя ручьи пленительных элегий,
Как лилия надменная, стояла
Ты, арфа, вестница тоски и неги.
Но мысль творцов преград еще не знала
На вековом пути от альфы до омеги.
И черный гроб воздвигнут в бездне зала
С отливом лунно-синим, как у Веги.
Погребена в нем арфа золотая.
Но не бессмертна гробная печаль:
Из каждой гибели есть воскресенье.
В озера снов бросая гроз горенье,
В гирлянды грома лепет волн вплетая,
Могущественный зазвучал рояль.
24 октября 1918, Тифлис
Уста в уста, смугла и горяча,
Не расстаюсь с тобой среди скитаний.
Под душным шелком от моих лобзаний
Трепещет тело алого луча.
И где б я ни был, иго дней влача,
Без жалобы, без плача, без стенаний,
Горишь и гаснешь от моих вздыханий,
Как жертва под руками палача, —
Ты, ставшая давно моей рабыней,
С кольцом на шее тоненькой стальным,
В безумной бездне дня, пустой и синей,
Под звездно вытканным шатром ночным,
Всегда со мной, как верная голубка,
Моя, в мечтах прокуренная, трубка.
1918, Тифлис
Безумья буйным бременем тяжел,
Тропой зверей в ущелье я сошел.
Холодной лавою по недрам скал
Зеленый яд луны стекал в провал.
И бешенства кипящая струя
Лилась в уста жемчужного ручья.
Я поднял голову: мятежный вид!
Здесь в корчах ярости застыл гранит
Там жутко выветрился известняк,
На допотопный походя костяк.
Как будто в паутине лирных струн
В корнях запутался гигант-горбун.
И хохотом времен оскалив рот,
На корточках пред ним присел урод.
Здесь девушка нежнейших ног овал
Откинула: грызет ей грудь шакал.
Ушастый карлик, преступленьем пьян,
Сквозь лунный пробивается туман.
На красоту и на добро восстав,
В белесых кольцах дыбится удав.
Две жабы животом цветы гнетут,
Выглядывая жертву, замер спрут.
Без счета высятся из-за угла
Тоскою обезглавлены тела.
Возлег мертвец, распухший и немой,
И с пальцев плесень виснет бахромой.
Чье небо здесь к чьему спустилось дну? —
Тревожную спросил я тишину.
Меланхолично отвечала тишь:
Ты эти образы в себе таишь.
1918, Тифлис
От гор ложатся тени
В пурпурный город мой
Незримые ступени
Проходит час немой.
И звон соборов важных
Струится в вышину,
Как шепот лилий влажных,
Клонящихся ко сну.
И тихо тают дымы
Согревшихся жилищ,
И месяц пилигримом
Выходит, наг и нищ.
Птенцов скликают птицы
И матери – детей.
Вот вспыхнут звезд ресницы
Потоками лучей.
Вот вздрогнет близкой ночи
Уютное крыло,
Чтоб всем, кто одиночит,
От сердца отлегло.
12 ноября 1918
О, как больно вспомнить мне
В этой звездной тишине
Всё, что было, что прошло,
Всё, что сам я сделал зло.
Ничего не изменить.
Только тоненькая нить
Не дает мне ввысь уйти
С запоздалого пути.
В темноте один иду.
В чьем-то радостном саду,
За высокою стеной,
Меж деревьев шум ночной.
И доносятся едва
Незабвенные слова,
Что забыли жизнь мою:
«Милый… Милая… Люблю…»
8 июля 1917, Тифлис
Налегла и дышать не дает
Эта злобная, зимняя ночь.
Мне ее ни с земли, ни с высот
Не согнать, не стащить, не сволочь.
Есть для глаз пара медных грошей,
Лихо пляшет по телу озноб.
Мчится в крыльях летучих мышей
Мимо окон измерзнувший гроб.
Золотой чешуею звеня
И шипя издыхающим ртом,
Гаснет в мокрой печи головня,
Холод барином входит в мой дом.
Не стянуть отсыревших сапог
И пальтишком костей не согреть.
Но весны нарастающей рог
Мне трубит, что нельзя умереть.
1919, Тифлис
Я боюсь получасов
Одинокого удара.
В них отмстительная кара,
Гнусный шепот мертвецов.
Их медлительность тупа,
И звучат они по дому
Ужасом всему живому,
Как пустые черепа.
Утром подвиг, днем мечта,
Ночью алая пучина.
В каждом часе есть личина,
В получасе – нагота.
Он бесстыден и безлик,
Безобразно одинаков.
Нет страшней у смерти знаков,
Чем беззубый этот крик.
И когда, друзья, средь нас,
Издевающийся, хилый,
Как со дна гнилой могилы,
Раздается получас —
Знайте: кончен жизни сон,
Если сердце ненароком
Иль обманутое роком,
С ним ударит в унисон.
2 февраля 1919, Тифлис
Ужели умереть вдали
Единопламенных вулканов
И в недра темные земли
Уйти с лицом необожженным?
Нет, я из гроба убегу,
Свой саван выброшу кровавый
В лицо огромному врагу,
Как зарево моей свободы.
Холодный ветер снежных гор
И двух озер кавказских буря
Забросят в северную степь
Раскаты песенного грома.
И миллионами сердец
Со мной созвучная Россия
Сплетет из гроз своих венок
На череп мой, сгоревший в грезах.
20 января 1920, Баку
СТИХИ УШЕДШИМ
Я все ношу в себе отравы,
Что Русь рабов хотела дать,
Чтобы ни радости, ни славы
Мне не изведать никогда.
Но я могу вас, молодые,
Едва блеснувшие лучи,
Провесть сквозь сумраки седые
И ненависти научить.
Чтó нам любить, чтó ненавидеть,
О, если б знал я, если б знал,
Когда сжигал я силы, идя,
Куда слепая шла весна!
Когда искал я по болотам
Какой-то неземной красы,
Беснуясь: «Китеж, вот он, вот он!»
С толпой безруких и косых.
Когда я падал в лес полночный
Сухого трепетней листа
И сладострастья плен порочный
Священным таинством считал.
Когда хотелось мне истаять,
В немой природе изойти,
Когда любая птичья стая
Была мне знаменем пути…
Не выплатить былому дани…
Но груз былого сброшу с плеч,
Чтобы болотища блужданий
Пожаром ненависти сжечь.
1922, Москва
В проулочках, где Чистые пруды,
Где цел еще былой уют московский,
Он жил, в седые погружен труды,
Наш Николай Егорович Жуковский.
Во дворике старинный особняк
Не рушится наперекор Ньютону,
Хоть в щелях стен давно свистит сквозняк
И все оконушки давно уж стонут.
В светелках тесных мир и тишина.
А в кабинете – просто умиленье.
Здесь жизнь числа вселенского слышна,
Здесь в сердце формул спрятано движенье.
Всегда скромны обители идей:
Большой диван, столы, шкафы и книги.
Всё простенько, как у простых людей.
Но вечность здесь разложена на миги.
Отсюда на бескрайние края,
Где движутся небесные светила,
В незримые глубины бытия
Владычной мысли простиралась сила
Отсюда не страшна пространства тьма
И времени поток (часы без боя!).
Здесь смерти нет: она ушла сама.
Здесь шуткой кажется борьба с судьбою.
Быть может, комната еще одна
Найдется средь людских уединений,
Таких же дерзких замыслов полна, —
Та комната, где жил полярный гений.
О крыльях, о круженье вихревом,
О беге волн, о натиске заносов,
О малом и большом, о всем, о всем
Так думал лишь Михайло Ломоносов.
Вечерний час. Уж подан самовар
И песенку старинную заводит.
Душистый запах меда носит пар.
Вот Николай Егорович выходит.
Огромный лоб. Могучие виски.
(Но где резец великого скульптора?)
И бороды библейской завитки,
И глубина задумчивого взора.
Напоминает все какой-то лик родной,
Всем близкого, премудрого пророка.
Отец Адам? Иль корабельщик Ной?
Или иной противоборец рока?
Заговорил… И мысли острие
Простую цифру видит в каждом чуде.
Как стройно в числах наше бытие!
Как хорошо, что есть такие люди!
13 марта 1916
И вечер сегодня дымился и плакал,
И ты за плечами стоял в тишине.
Закат рассыпался кошницами мака,
Про дальнее детство рассказывал мне.
Как «Мальву» читали, и бегали лесом,
И сфинксов ловили, играли в лапту,
И в поле дождливом, под финским навесом,
То к Ницше, то к Марксу гоняли мечту.
Влюблялись, друг другу читали поэмы
И красками бурно пятнали картон.
Над Иматрой пенной, смущенно и немо,
Грядущего слушали бешеный звон.
Зачем же ушел ты, как будто обманом,
И в маске оставил улыбку тоски,
Свой звук недопетый развеяв туманом
Над гипсовой тенью красивой руки?
В задумчивой комнате, в сукнах зеленых,
Не встретимся больше для долгих бесед.
Но светит в извивах ума отдаленных
Потерянной дружбы ласкающий след.
1921, Москва
Увенчан терном горькой славы,
Властитель ритмов дней багряных
Ушел в печали величавой,
В недугах и кровавых ранах.
И пусто лесу у опушки,
И полю в цвете милом убыль.
Ушел туда, где светит Пушкин,
Ушел туда, где грезит Врубель.
И ранит небо грудь лебяжью,
Закатами кровавит дали.
Болотный попик в глубь овражью
Бежит, заплакан и печален.
Фабричных улиц перекрестки,
Ушедшим солнцем озаряясь,
Затеплились слезою блесткой,
И чахлых веток никнет завязь.
А на мосту, вся в черном, черном,
Рыдает тихо Незнакомка
О сне, минувшем неповторно,
О счастье молнийном и ломком.
Ушел любимый. Как же голос
Неизъяснимый не услышим,
Когда на сердце станет голо,
Когда захочется быть выше?
1921, Баку
Вчера, на вьюге, средь жемчужной
Снежинок радостной возни,
С улыбкой нежной и недужной
Со мною рядом он возник.
Все та же русская дорога
Ухабами вздымала даль.
Ямщик над клячей злился: «Трогай!»
И взвизгивали провода.
Метели пьяная охапка
В ногах крутилась колесом.
Его барашковая шапка,
Чуть сдвинутая на висок.
Перчатки, поступь, голос, облик —
Всё, всё как прежде, как всегда.
И только взор лучами облил,
Каких я в жизни не видал.
Обычное рукопожатье,
Литературный разговор.
«Опять предательствуют братья
И критики стрекочут вздор».
Лудили острые пылинки
Околыш шапки в серебро.
«Ну, как понравились поминки?»
«Могила славе нашей впрок».
«Ты знаешь, переводит турок
Мамед Эмин твои стихи».
– «Да, но у нас литература
Еще в плену годов глухих».
«Но знаешь ты, что зреют зерна,
Тобой посеянные в нас,
И песней новой и просторной
В стихах провеяла весна?»
«Всегда ты прытким оптимистом
Был…» Вихрем взвизгнула метель.
И он прислушался лучисто,
Что спела вьюжная свирель.
И недопетых песен гнетом
Болезненно нагрузнул лоб.
А в голос бури, к снежным нотам,
Звучанье солнца протекло.
Полночный вихрь в лицо летел нам,
Но пламя чудилось за ним.
К кремлевским подошли мы стенам,
К могилам мертвых ледяным.
Он шапку снял. «Прощай. Пора мне».
Сжег губы братский поцелуй.
И за высоким черным камнем
Укрылся в снеговую мглу.
И тотчас от реки зарею,
Ручьями, солнцем, синевой
Забунтовало под горою
Весны внезапной торжество.
И поднялось, и налетело
Счастливей звезд, страшнее сна,
Как будто дух свой, песню, тело
Всё отдал он, любимый, нам.
1923, Москва
Ушел. И песня недопета.
И улыбаешься в земле
Улыбкой мудрою скелета
Сгоревших грез седой золе.
И мучит мозг воспоминанье:
«Кресты». Угрюмый каземат.
Ключа в большом замке бряцанье
И рядом ты, нежданный брат.
Ты в триста восемьдесят пятой,
Я по соседству был в шестой.
Но пламя юности распятой
Тюрьму взрывало красотой.
Всю ночь сквозь стенку разговоры
С кувшином-рупором в руке,
Под шаг тюремщика нескорый,
Под взором каменным в глазке.
Потом проклятою дорожкой
Прогулка будто на цепи.
Два слова, брошенных сторожко,
И очи – как цветы в степи.
Ты был бездумный и веселый,
Как звон весеннего дождя,
И маловишерские села
Тебя любили, как вождя.
Барахтались мы вместе в лапах
Литературных пауков
И Волхова мятежный запах
Ловили вместе буйством слов.
Бывало, вместе голодали
И вместе пели за вином…
Как безнадежны эти дали,
Где ты пустым окован сном!
Какая боль, что в этом счастье,
В грозе восторга, в песне сил,
В творящем нашем советвластье
Ты далеко в лесу могил.
<1920>
На львов в агатной Абиссинии,
На немцев в каиновой войне
Ты шел, глаза холодно-синие,
Всегда вперед, и в зной и в снег.
В Китай стремился, в Полинезию,
Тигрицу-жизнь хватал живьем.
Но обескровливал поэзию
Стальным рассудка лезвием.
Любой пленялся авантюрою,
Салонный быт едва терпел.
Но над несбыточной цезурою
Математически корпел.
Тесня полет Пегаса русого,
Был трезвым даже в забытье
И разрывал в пустынях Брюсова
Камеи древние Готье.
К вершине шел и рай указывал,
Где первозданный жил Адам, —
Но под обложкой лупоглазого
Журнала петербургских дам.
Когда же в городе огромнутом
Всечеловеческий встал бунт, —
Скитался по холодным комнатам,
Бурча, что хлеба только фунт.
И ничего под гневным заревом
Не уловил, не уследил.
Лишь о возмездье поговаривал,
Да перевод переводил.
И стал, слепец, врагом восстания.
Спокойно смерть к себе позвал.
В мозгу синела Океания
И пела белая Москва.
Конец поэмы недочисленной
Узнал ли ты в стенах глухих?
Что понял в гибели бессмысленной?
Какие вымыслил стихи?
О, как же мог твой чистый пламенник
В песках погаснуть золотых?
Ты не узнал живого знамени
С Парнасской мертвой высоты.
1921
Отбивая с ног колодку,
Жизнь прошел, как Жигули.
Что ж кладем тебя мы в лодку
Плавать по морю земли?
Только песня загудела
И, как берег, сорвалась.
Или песенное дело
Охромело на крыла?
Видно, в людях много спеси,
Ходят по лесу балды,
Что сказительника песен
В гроб пускаем молодым.
Ты прощай, любимый, милый,
Наш крестьянский соловей.
После смерти песню силы
По народишку развей.
Кроем лодку красной лодкой.
Неужели это гроб?
Неужели умный, кроткий,
Зарываем в землю лоб?
Хоть бы ты зашел проститься,
Почитать еще стихи,
Разве можно сразу скрыться
С наших омутов лихих?
Бьемся мы, как рыбы в сетях,
Заплутались в трех соснах,
И, как ты, такие дети
Торопясь уходят в прах.
Милый друг. Расстаться – слезы.
Но веселым соловьем
С вешней пел ты нам березы.
Голос твой мы переймем.
Нежный. Синью голубою
Руки скрасились твои.
Но сейчас мы все с тобою —
Ты не можешь, – но пойми.
Я не могу – да и никто не может
Над трупом друга в немоте стоять,
Когда огонь застенки мира гложет,
Пустынный пепел и простор тая.
Кому же пепел и кому просторы?
И что насильникам? И что рабам?
Конь революции свой шаг нескорый
Влачит по слишком дорогим гробам.
Но если бьет в пути побед копыто
По мне, иль по тебе, или по нам,
Иди в могилу. Жертва не забыта.
Из мертвых вырастут живые семена.
И кто в живых, тот унесет с собою
Умерших неистраченный порыв
К последнему решительному бою,
К победе в завершенные миры.
Прадедам рассекли спины,
Выдрали прабабкам косы.
Вот откуда в соловьиных
Песнях ненависти росы.
Девушек вели в клоповник.
Псами уськали мальчишек.
Вот какой красой шиповник
Мести в тихих песнях дышит.
Голос крепостного плача.
Волги стон многовековым
Грохотом бичей маячит
В молниях Мужикослова.
Горести деревни старой
К празднику победы вынес.
Праздновать – сил недостало
В песенном крестьянском сыне.
Новою глядит могилой,
Слушает зеленым дерном,
Как неумертвимой силой
Русь в простор идет упорно.
Когда мы волокли к могилам
Твой голубой, покорный труп,
Мне думалось: какая сила
Замкнула песню этих губ?
Не лень, не старость, не природа.
Ты молод был и сильным слыл
И тяжким шагом теплохода
По Волге жизни долго б плыл.
И в горло сжатыми слезами,
В могилу новую колом
Впивалась мысль: «Мы сами! Сами!»
И эта скорбь нам поделом.
Бредем, как стадо кочевое,
Друг другу чуждые в глуби.
И только над усопшим воя,
Начнем в гробу его любить.
1924