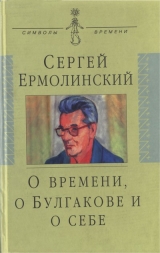
Текст книги "О времени, о Булгакове и о себе"
Автор книги: Сергей Ермолинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Ну, молодцы! Точно таким же способом они вызволили из других казахских захолустий режиссера Художественного театра Василия Григорьевича Сахновского, заподозренного в том, что его намечали в бургомистры Москвы, когда ее займут немцы (!), и художника «Ленфильма» Евгения Евгеньевича Енея, одного из создателей выдающихся фильмов Козинцева и Трауберга («СВД», «Новый Вавилон» и трилогии о Максиме). Он был арестован еще в страшном 1938 году как шпион, ибо имел несчастье родиться в Австро-Венгрии, но затем за бездоказательностью обвинений его, как и меня и В. Г. Сахновского, выслали без суда по заочному приговору ОСО.
Все трое мы появились в Алма-Ате почти одновременно, и нас тотчас определили на высокие посты: В. Г. Сахновского – руководителем мастерской киноактеров, Е. Е. Енея – главным художником студии, а меня – литературным консультантом при дирекции, и, кроме того, я дорабатывал сценарии, поступавшие в производство. Были мы, все трое, как бы повязаны между собой схожими мытарствами и каждую декаду обязательно все вместе двигались в НКВД, где нам ставили загогуленки и печати в квадратики наших паршивых удостоверений, напоминавших, что, какие бы работы мы ни выполняли, являемся всего лишь временно отпущенными рабами…
Я забежал чуть вперед, а нужно рассказать подробнее про то раннее утро, когда поезд мой прибыл в Алма-Ату. Я вышел на широкий проспект, обсаженный высоченными тополями и стрелой прорезавший город до самых предгорий Ала-Тау. Расспросив прохожих, где находится киностудия, я свернул в нужном месте налево. Мне было известно, что дом, заселенный режиссерами – сталинскими лауреатами – находится недалеко от студии, и я без труда его нашел.
В доме, по-видимому, еще спали, и я, постеснявшись, присел в ожидании на скамейку под деревом, пока какая-то женщина в платке и с хозяйственной сумкой не вышла из «лауреатника». Я спросил ее, в какой квартире живет Райзман.
– На втором этаже, за дверью направо, – сказала она, с опаской оглядев меня.
Иногда запоминаются совсем ненужные подробности: у женщины было немолодое, но красивое лицо и ужасающе разросшийся зад: «Это болезнь, – подумал я, – и называется, кажется, степотагия». Впоследствии я узнал, что она прислуживала Эйзенштейну. Между тем женщина еще раз оглянулась на меня и добавила:
– А токо навряд они уже встали. – И скрылась за поворотом.
Я еще посидел немного и затем поднялся на второй этаж и позвонил. Некоторое время никто не отзывался, потом послышались шаги, два раза повернулся ключ, не сразу отодвинулась задвижка, и в приоткрывшейся щели я увидел Сюзанну, наспех одетую, растрепанную.
– Ой! – воскликнула она, отбрасывая дверную цепочку. – Сережа! Юка! Юка! Сережа приехал.
Из комнаты выскочил Юля, на ходу надевая халат. И тут поднялась суматоха в квартире. Из всех дверей высовывались головы ее обитателей.
– В ванну, в ванну его! – кричали они, скорее восторженно, чем испуганно. – Затопите ванну! Он прямо с поезда!
И верно, от моего пальто, от моей одежды несло перепревшим запахом вагонов и тюрьмы.
– Раздевайтесь тут же в коридоре. Пальто кидайте прямо на пол! – распоряжался Райзман. – Сюзанна, колонку зажгла? Уходи в комнату! Снимайте пиджак, штаны, все исподнее. Вши есть? – деловито осведомлялся он.
– Не замечал. Я ехал в спальном.
– Очень хорошо. Теперь ступайте в ванную. А ваши вещи вывесим на балкон и как следует выветрим. Идите, идите. Без вас сделаем.
Я вошел в ванную. Ее слегка подернуло паром. Бог мой, какая необычайная чистота! Рай земной! Я погрузился в теплую воду и закричал в восторге!
– Ура! Да здравствует цивилизация!
В коридоре собралось, по-видимому, все население квартиры. Кричали:
– Мочалка Пырьева слева! На верхней полочке мыло Козинцева! На нижней – Райзмана. Берите какое хотите! Мыло, мыло берите! В углу пырьевская мохнатая простыня! Вытирайтесь ею! А голову – полотенцем Сюзанны, оно с другой стороны. Мойтесь, мойтесь!
Они действовали. Они, по-видимому, перетаскивали мои вещи на балкон. Райзман сунул мне чистую пижаму.
Когда я проходил в этой пижаме, испытывая блаженную чистоту, перекатывающуюся по всему телу, в коридоре уже никого не было, и я вошел в комнату Юли. Запахло яичницей, которую жарила на плитке Сюзанна; Райзман рассказывал, как Черкасов убеждал наркома, а тот говорил: «Так ведь он, дорогой товарищ, обиделся на нас, наверное, а? И не будет вам писать, а?» «Он не будет? – своим срывающимся с баса на дискант голосом прерывал наркома Черкасов. – Да у него карандаш из рук не вырвешь, спросите у Эйзена!» Юля показывал все это в лицах – и узенькие хитренькие глаза наркома, и размахивающего руками Черкасова, и Эйзера, который с важностью богдыхана разводил руками: «Ну что вы, право, не зря же мы просим…»
– Садитесь кушать, – гремя посудой, озабоченно говорила Сюзанна. – Извините, я даже не успела причесаться.
А когда я уже сидел за столом, наслаждаясь ее сказочным угощением, не вытерпев, спросила:
– А все-таки… за что же вас?
– Глупости говоришь, – сердито прервал ее Райзман.
– «Глупости», но не бывает же, чтобы ни за что?
– Перестань! Раз и навсегда запомни: не болтай об этом! Ведь вот он молчит. Ну и правильно. – Юля повернулся ко мне. – Кошмар с ними! Теперь ложитесь отдыхать, пока вытрясут ваши вещи. Вы не представляете, Сережа, когда я вернулся из последней поездки, Сюзанна нашла у меня вошь.
– Это бывает, – сказал я. – Особенно в международном, там она легче задерживается.
Сюзанна, не выдержав, так и покатилась от смеха:
– Вы не стесняйтесь, ложитесь. Юка, поверх одеяла я положила палас.
– Полосатый? Правильно сделала. Вам удобно?
– Не то слово. Блаженство.
Я лег. Усталость, смешанная с сытостью и продолжающимся ощущением чистоты, дымкой и негой, уносила меня куда-то. Юля, подсев ко мне, рассказывал про то, что гостиница «Дома Советов» полностью отдана эвакуированным мосфильмовцам и ленфильмовцам. Это целый Ноев ковчег! И мне там тоже выделена комната – я отдохну, и меня он отведет туда, я увижу много знакомых. Кстати, сценарная студия здесь. Ее возглавляет Коварский [92]92
Коварский Николай Аронович(1904–1974), критик, сценарист, литературовед.
[Закрыть]. Мика Блейман [93]93
Блейман Михаил Юрьевич(1904–1973), сценарист, критик.
[Закрыть]очень обрадовался, как только узнал, что я приеду. Были Зощенко и Паустовский, совсем недавно уехали, но остались хорошо мне знакомые сценаристы-москвичи – Папава, Маша Смирнова [94]94
Смирнова Мария Николаевна(1905–1993), сценарист (фильмы – «Член Правительства», «Сельская Учительница»).
[Закрыть], Гранберг. Вообще как-то все устроилось, терпеть можно… Юля рассказывал, какие фильмы снимаются на студии, об «Иване Грозном» Эйзенштейна, о боевых киносборниках и с юмором изображал Анну Николаевну Пудовкину, изобретательнее всех производившую обмен тряпья на рынке, а я в ответ начал было рассказывать, как ловко обменял его шоколадную трюфельку на пробку, но в этот момент отворилась дверь и в комнату вплыло чудо: златокудрый ангел в голубом появился передо мной.
– Боже мой, Сережа, почему вы смотрите на меня таким диким взглядом? Не узнаете? Я – Софочка, Софочка Магарилл [95]95
Магарилл Софья Зиновьевна(1900–1943) актриса кино, жена режиссера Г. Козинцева. Умерла от сыпного тифа, заразившись от С. А. Ермолинского, за которым ухаживала в больнице.
[Закрыть].
– Конечно, узнаю, – пролепетал я. – Но этого не может быть! Подойдите, подойдите ко мне! Я дотронусь до вашей руки, чтобы убедиться, что это не сон!
Мог ли я объяснить, что потрясение мое было естественно. Я привык видеть женщин в ватниках, неотличимых от мужиков и солдат, говорящих хриплыми, простуженными голосами, торгующих на рынке и на вокзалах, самоотверженных тружениц, забывших, что они женщины, пропахших вокзальной хлоркой, с ожесточенными и вместе с тем готовыми на великую самоотдачу сердцами, загнавшими вглубь остатки нежности, только таких женщин я видел, а тут это «видение» – иной мир! Он как бы воплотился для меня в Софочке, и я сказал ей, что, глядя на нее, жизнь, несмотря ни на что, полна чудес.
– Вот вы это и объясните нам. А то мы забыли об этом, – говорила она смеясь.
Невозможно было не довериться и не подружиться с нею. С женской чуткостью она уловила, сколь много меня унижали. И с той же чуткостью, незаметно, под разными предлогами, подкармливала меня, понимая, сколь высокомерно щепетилен человек, длительно голодавший. Но, какую бы заботу ни проявляли ко мне люди, я продолжал смотреть на них настороженно. Из «Дома Советов» в студию норовил ходить не по главной улице, а боковыми улочками, чтобы не встречать знакомых. Мне казалось, что я поставлю их в затруднительное положение, ибо как-никак я «социально опасный» и могу скомпрометировать их. Она возмущалась и заставляла меня идти непременно по главному, самому оживленному проспекту, сердито говоря, что я не волк, что я не понимаю, что на свете гораздо больше добрых, чем злых и трусливых людей, что сейчас совсем другое время, чем то, какое было до войны. Я еще не знал, что она права, и подчинялся ей, преодолевая свой недостойный страх.
Мы с ней много бродили по Алма-Ате, сидели на камнях над журчащей Алмаатинкой. Она рассказывала мне о разном, в том числе и о том, что несколько раз приезжал Луговской, писавший стихотворные тексты для «Ивана Грозного», и его сестра Татьяна Александровна, художник, с которой Софочка очень подружилась.
– Вы бы перестали слушать мою болтовню, – говорила она, – как только познакомились бы с ней. Удивительная женщина! Такой другой не встречала!
И ее глаза, детские, чуть кукольные, подчеркнутые умелой кисточкой, искрились неподдельным восторгом.
– Вы знаете, – продолжала она, – Таня рассказывала мне, что Елена Сергеевна, вдова Булгакова, давала ей роман «Мастер и Маргарита», который Булгаков писал десять лет и исправлял уже слепой, умирающий.
– Я знаю этот роман, – сказал я.
– Правда, замечательный?
– Правда.
– Говорят, какой-то таинственный, загадочный роман?
– Да.
И я попытался, как мог, рассказать содержание «Мастера» и упомянул про Иешуа, который так же, как и Софочка, был уверен, что все люди добрые, хотя не все знают это. Впервые Софочке, только ей, рассказал подробнее о Михаиле Афанасьевиче, о дружбе моей с ним, о многом из того, что появилось позже в моих записках о нем…
Но я опять забегаю вперед. До этого непременно нужно вспомнить и о том, как в день моего приезда в Алма-Ату меня вселили в «Дом Советов». Верно – «Ноев ковчег» эвакуированных из Москвы и Ленинграда! В коридорах были свалены в угол кадки с пальмами, украшавшие раньше гостиничные холлы, пахло кухонным бытом густо населенного общежития. Я очутился в небольшом номере. Там стояла железная кровать с небольшим матрацем, стол и два стула из прежней стандартной мебели, вот и все. Я присел на кровать, задумавшись, как бы устроиться здесь поуютнее. У меня ничего не было.
Но чудеса продолжались.
Первым появился Эйзенштейн. Этот человек, чуждый какой-либо сентиментальности, принес мне продолговатую подушку (она сохранилась у меня до сих пор) и произнес:
– Подушки у вас, разумеется, нет. Без подушки спать неудобно. А мне навезли их зачем-то целых три. Так что вот – пользуйтесь!
– Во-первых, – начал я, – мне надобно поблагодарить вас, Сергей Михайлович…
– Вы не меня благодарите, а Черкасова, – перебил он меня.
– А Черкасов сейчас здесь?
– Здесь. Но не вздумайте идти к нему. Сахновский сунулся было, так он на него взвизгнул Полежаевским голосом: «Вы что, батенька, смеетесь надо мной? Не забывайте, я царь Иван Грозный! Царь!»
Я не успел ответить Эйзену, как ворвался Пудовкин. Был он, не в пример Сергею Михайловичу, эмоционально взвинчен, что вообще было ему свойственно.
– Простыня! Вы понимаете, Анна Николаевна задумала адский план обмена ее на соль, или сахар, или что-то еще в этом роде, но я вовремя схватил эту простыню.
– Вы поступили правильно, Всеволод Илларионович, – сказал Эйзен, раскланявшись в мою и в его сторону.
– Где он достанет простыню? Смешно! – воскликнул Пудовкин. – Прошу, Сережа, чем, как говорится, богат.
Едва они ушли, пришел Козинцев, слегка напряженный. На его руке был перекинут черный клеенчатый плащ. Свою миссию он выполнял с некоторой неловкостью и сдержанно, с той ленинградской вежливостью, которой всегда отличался, объяснил мне, что пальто мое, по наблюдению Софочки, не подойдет к сезону, а у него имеется плащ, вполне хороший…
Записал все это и подумал, а не выгляжу ли я в этом рассказе хвастунишкой: вот-де какие люди опекали меня! Не был я ни их учеником, ни тем более наставником, да и другом не был, просто у меня с ними сложились хорошие отношения, но никак не близкие (ближе всего, пожалуй, с Пудовкиным), но тогда я был ошеломлен и растроган. А тут еще в дверь просунулась голова Якова Ильича Райзмана, отца Юли.
Мало сказать, что он был человек незаурядный, вся его жизнь подтверждала его необыкновенные способности. Местечковый портняжка, он выбился в одного из самых модных портных дореволюционной Москвы. Разбогател. Революция его разорила. Он стал работать в пошивочных мастерских у железнодорожников, его отметили грамотой ударника. Во время нэпа затеял мануфактурное дело. Опять разбогател и опять разорился. И все свои разорения переносил без сокрушений, ему было весело жить. Когда возник Торгсин, а затем «Интурист», он возглавлял пошивочную мастерскую, заказчиками которой могли быть лишь дипломаты из Наркоминдела или интуристы, владеющие валютой. Мастерская помещалась в «Метрополе». Сам Яков Ильич шитьем не занимался, он лишь руководил примеркой, указывал крой, угадывал нужную линию, точно ее намечал. Он был художник, мастер! Самоучка, не получивший никакого образования, был начитан, собрал прекрасную библиотеку, любил беседы на самые заковыристые философские темы.
– Входите же, Яков Ильич, входите! – восклицал я, увидев его, осторожно приотворившего дверь в мой номер.
– А я сразу и прибежал, как только узнал, что вы приехали, – говорил он, обнимая меня. – Ай-яй-яй, какие дела, какие беды!.. Но крутимся, крутимся. Вот, слава богу, и с вами обошлось! А меня вывезли вместе с Юлечкой, представляете, и я угодил в кинематограф. Так это же кавардак, а не заведение! Правда, я работаю с Сергеем Михайловичем, это интересно. «Иван Грозный», сами понимаете. Но как посмотришь кругом… Это же художественная интеллигенция. Так они же о чем думают? Ой!.. Послушайте, так это же на вас мой костюм?
– Ваш, Яков Ильич.
– Ничего себе, загваздали. Хотя я понимаю, ну… еще бы! Встаньте-ка! А с вас половина осталась. Висит, как с какого-то бывшего человека. Но это разве беда! Это же пустяк! Давайте мерочку снимем. – Говоря это, он быстро обмерял меня и записывал в свою книжечку цифры. – Очень хорошо получится. Посидите в подштанниках, дверь на ключ, потом выспитесь как следует, и утречком я принесу вам вещь! Спокойной ночи. Ах, как я рад, что вы живой!
Я остался один. Впрочем, нет, еще прибежал Мика Блейман и принес мне чайник и стакан, а Надя Бриллианщикова, жена режиссера Корша-Саблина, – электроплитку, сказав: «Только прячьте, комендант не разрешает». Затем я последовал совету Якова Ильича: заперся на ключ и притаился. Надо было разобраться во всем, что произошло за этот суматошный день, полный впечатлений.
Что-то изменилось в людях, что-то перевернулось в них!
Да, общая беда объединила. Они потеплели душой. Но не только это.
В конце тридцатых годов словно все дверные замки были сломаны, и в любую минуту в дом могло ворваться несчастье. Это касалось всех, даже самых благополучных, отмеченных успехами, милостями, признанием заслуг. В этом никто вслух не признался бы, напротив, не чересчур ли старательно славословили, произносили речи, возвеличивая время, в какое жили? От самих себя прятали внутреннее дрожание, но оно притаенно не оставляло никого… И еще: до войны общество все отчетливее расслаивалось на ранги. Одни восходили по лестнице славы, теша свое честолюбие, все больше возвышаясь, и житейские блага, которые они получали, с каждым днем все более отрывали их от остальной массы обыкновенных людей – обывательского быта, серой жизни. А сейчас это стерлось. Вдруг почти совсем потерялось… Те, кто и в военных условиях был наделен лучшими пайками, не только не кичились ими, но, напротив, даже вроде бы стыдясь, старались не подчеркивать этого.
И получалось, что по внешним признакам все жили одинаково.
В этом как бы отразилась чистота тех лет – душевный уют, если угодно, тех трудных, подчас очень трудных дней, а то и прямой беды и горя, потому что редко у кого не было близких на фронте, вдруг обрывались вести о них или приходили похоронки…
Всех это касалось, всех, всех!
Вечером выбегали из своих комнат, стояли тесно в холле «Дома Советов», слушали военную сводку, и сердца людей бились одинаково, в унисон, с одним общим придыханием вникали в каждое слово, произносимое Левитаном.
Когда отодвинулось это время, о нем вспоминалось с теплом, потому что было тогда неповторимое человеческое единение. Потом оно вновь распалось, расслоилось: после войны. И с каждым годом все резче. За высокими заборами вырастали собственные дачи, на престижных машинах катили люди, равнодушно поглядывая на серый поток людей, измученных служебными заботами, дрязгами, очередями, толкучкой в метро. Впрочем, и у них, и у этих пресловутых «винтиков», как по команде, как машина, одинаково аплодирующих тому, у кого в этот момент палка в руках, у них тоже произойдут перемены. Они вселятся в одинаковые квартиры, в одинаковые клеточки, как в соты ульев, в шеренгу выстроенных небоскребов, и усядутся под одинаковыми оранжевыми абажурами перед своими телевизорами. Мещанин удушит революцию, как говорил Герцен. И сочтется это за должное, за достигнутое наконец государственное равновесие, оснащенное умелым карьеризмом прочной, крепкозадой бюрократии. Закономерно зашелестят под окнами машины собственников, вознесшихся на недоступные верхотуры социальной лестницы. Все это мы еще увидим, и не удивимся, и привыкнем, и посчитаем под гром аплодисментов, что жизнь выровнялась, и забудем, как бедовали в военные годы и были равноправны в нашей общей беде…
Да, я ощущал удивительное человеческое тепло в Алма-Ате, посматривая на подушку Эйзена, простыню Пудовкина, плащ Козинцева, и думал, что никакой я не отверженный, не «социально опасный». Словно канули в Лету те совсем недавние времена, когда после моего ареста многие знакомые, даже близкие, старались не встречаться с моей женой, не звонить ей: боялись. Можно было стереть мое имя, обворовать меня безнаказанно, делать со мной что угодно… Э, казалось, было и прошло! Прошло ли?
Я тогда не думал об этом. Сердце мое согрелось. Так началась моя алма-атинская жизнь: радушно! И что греха таить, сперва я даже расслабился. Я просто задохнулся от чувства свободы. И, честное слово, некоторое время даже стал бонвиванствовать!.. Помню, Михаил Папава, входивший в моду сценарист, говорил мне, играя в шахматы:
– А ведь вокруг вас веет романтический ореол! Вы здесь как Лермонтов.
Он показывал мелкие зубы, улыбаясь, и теребил светлую бородку (первый бородач в нашей среде, тогда бород еще не носили), и я отвечал ему:
– Конечно, Лермонтов! Миша! Хотите, поменяемся? Вы даете мне свой паспорт, а я вам свое удостоверение с квадратиками и, в придачу к романтическому ореолу, отыщу вам княжну Мэри для розыгрыша. Полный набор среднеазиатского Пятигорска! Согласны?
– Куда мне! У меня язва. Я и в Грушницкие не гожусь.
Мы шутили. Я все еще был весел. Но вскоре это мое беспечное существование кончилось. Оно стало нестерпимо. Ведь война продолжалась! И я все меньше понимал своих коллег по ремеслу, которые отсиживались в этом алма-атинском инкубаторе как незаменимые специалисты. Мне не стыдно признаться, что я тайком от всех подал заявление в военкомат с просьбой, чтобы меня зачислили добровольцем в армию. Военком принял меня сухо. Он ознакомился с моими документами и сказал неприязненно:
– Хотите укрыться в армии?
– Позвольте, я…
Но он перебил меня резко:
– Даже штрафной батальон вас не пугает? Встречался я и с такими случаями! Впрочем… – Он брезгливо поморщился. – Это меня не касается, вас затребовали сюда по особому распоряжению наркома. Очевидно, вы нужны киностудии. Уберите ваше заявление. Я рассматриваю его как дезертирство с трудового фронта. Щажу вас. А то обязан был бы сообщить об этом куда следует. Также и в дирекцию киностудии. Всего хорошего.
Он привстал, но руки мне не подал. Однако мне показалось (или хотелось, чтобы это было так), он посмотрел на меня с сочувствием. Даже штрафной батальон был для меня недостижимой честью!
Вот почему не просто стыд, а гнетущая депрессия настигла меня. И как всегда в моей жизни, когда сваливались неудачи, спасти могла только работа. Притом такая, в которую можно погрузиться с головой.
Я написал в студию заявку, предложив включить в план сценарий о Чокане Валиханове. Почему именно о нем?
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВАЛИХАНОВЕ
К этой работе я привлек Мику Блеймана. Он, так же как и я, любил рыться в книжных завалах, старых журналах, неразобранных архивах, а это как раз и пришлось делать. Материалов о нашем герое оказалось очень мало. Мы располагали лишь однотомником его сочинений, изданных в 1907 году Императорским географическим обществом с небольшими заметками о нем (Потанина, Ядринцева и других). Биография Чокана восстанавливалась буквально по кусочкам. Мы узнали, что существовал памятник на его могиле в далеком ауле Тезек (почти у самой китайской границы), где он, больной и измученный, прожил последние годы и умер. Этот памятник был сооружен русским генералом Колпаковским, основателем военного городка Верный (будущей столицы Казахстана – Алма-Аты), а разрушен, видимо, сородичами Чокана. Его имя продолжало оставаться в странной тени, даже в 1943 году, когда мы начали работать над сценарием. Почему это происходило?
Он стал чужим в своей стране!..
Его жизненный путь и посмертная судьба поразили меня. Он вырос в первобытных кочевьях северо-восточного Казахстана. Его отец, глава рода, старый Чингиз, сохранял родовую власть и после присоединения к России. Безразлично, был ли это генерал-губернатор Западной Сибири ретроград К. Х. Гасфорд или либеральный К. Х. Гутковский, его советник по делам инородцев, – словом, любую русскую администрацию вполне устраивало такое самоуправление казахов, и кокчетавскому султану Чингизу был даже пожалован чин полковника. Эполеты украшали его халат, а сына приняли в Омский кадетский корпус.
Чокан хотя и стал офицером, но воспользовался этим по-своему. Он возглавлял военно-топографические экспедиции, стал исследователем края, этнографом, фольклористом, ученым, впервые записавшим киргизский эпос «Манас». А его путешествие в Кашгарию, доселе закрытую для европейцев страну Западного Китая, стало сенсационным. Он проник туда под видом кашгарского купца Алимбая, а по возвращении был вызван для доклада в Петербург.
Появление Валиханова в столичных салонах произвело необыкновенное впечатление: степной «дикарь» оказался отнюдь не дикарем, а напротив, человеком изысканно светским, ироничным, даже чуть высокомерным, на него смотрели как на экзотическое чудо. Сам государь император пожелал, чтобы его представили ему! А его доклад в Русском географическом обществе вызвал шумное одобрение, он был единогласно избран в действительные члены Общества, что свидетельствовало о признании его научных заслуг.
Связи Валиханова с передовыми представителями русской интеллигенции возникли еще в Омске. Там он познакомился с прославленным географом и путешественником Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским, краеведом Г. Н. Потаниным, петрашевцем С. Ф. Дуровым и сблизился с Ф. М. Достоевским, когда тот находился в ссылке. Дружбу с Достоевским Валиханов сохранил на всю жизнь, хотя по взглядам примыкал к более радикальным кругам, близким к некрасовскому «Современнику». Он был демократ, просветитель, ратовавший за культуру и цивилизацию, дабы всколыхнуть, сломать вековую отсталость своего народа. В Петербурге же в это время шумел полковник Черняев, снаряжавший экспедицию в Туркестан. Он должен был проложить путь на Ташкент с востока, в то время как отряд Веревкина шел на соединение с ним с запада, через Кзыл-Орду. Со стороны Кокандского царства не ожидали серьезного сопротивления, и Черняев рассматривал свой поход прежде всего как изучение края и военную поддержку русским торговым караванам, проникавшим в глубь новых туркестанских земель. В штабе Черняева появились географы и топографы, этнографы и энтомологи, среди них такие известные ученые, как Северцев, Лерхе, и многие другие. Говорились речи о просвещении, строились самые широкие научные планы. И, конечно, Валиханов был среди выступавших.
Однако это была не мирная экспедиция, а война. С русскими сражались фанатики кокандцы под зелеными знаменами ислама. Они были примитивно вооружены, но отчаянны и коварны, и расправа с ними была жестокой. В первой же битве под Аулие-Ата Валиханов с ужасом убедился в этом. И ведь на стороне кокандцев воевал Кенисары Касымов, его дядя, и Садык, его двоюродный, брат. Воочию он увидел, как под ударами черняевских пушек пылают обезумевшие степные аулы. От петербургских гуманных речей ровным счетом ничего не осталось. Да и время вдруг резко перевернулось, страшные вести приходили из Петербурга: арестован Чернышевский, закрыт «Современник», не стало единомышленников, друзей. Его отец, старая лиса, сидя в своем Сырамбете, умело лавировал, поддерживая тайную связь с кокандцами и сохраняя верноподданнические отношения с омским начальством. У Чокана не было поддержки – ни дома, ни в Петербурге, и после резкого объяснения с Черняевым он подал рапорт об отставке и, уже совсем больной, уехал в Тезек.
Таков был конец первого казахского ученого, просветителя, писателя, стойкого и ясного в своих убеждениях и непонятого современниками. Но только ли современниками?
В начале двадцатых годов, в разгар националистических страстей, некоторые казахские писатели говорили о нем как о человеке, враждебном духу национальной самобытности, прислужнике самодержавия, изменнике родины. Понадобились десятилетия, чтобы понять значение Валиханова для всей будущей культуры его народа. В работе над сценарием мы с Микой столкнулись с этим еще невнятным и противоречивым отношением к биографии Чокана. А для меня драматизм его судьбы вплотную приблизил тему о мужестве первопроходца, идущего впереди своего времени, вступающего в неравный бой с косностью мысли, непоколебимо отстаивающего свои идеалы. Эту тему я развивал в дальнейшем, изучая русскую литературную историю, и рядом с моим Грибоедовым, Львом Толстым, Блоком возникал передо мной булгаковский Мольер, булгаковский Пушкин, булгаковский Дон Кихот и, наконец, сам Булгаков!
АЛМА-АТА (продолжение)
В разгар нашей работы в Алма-Ату приехал министр кино Иван Григорьевич Большаков, чиновник, вынырнувший из недр молотовских канцелярий. Он был обучен умению улавливать то, что от него требовали сверху, и коль скоро его назначили командовать киноискусством, то он тотчас посчитал себя всепонимающим в этом деле и прибыл к нам проруководить Эйзенштейном, Пудовкиным, Козинцевым и другими мастерами, а также навести канцелярский порядок в производстве и обследовать сценарный портфель.
Натолкнувшись на договор, заключенный со мной на сценарий «Чокан Валиханов», он с гневом разорвал его. Фридрих Эрмлер [96]96
Эрмлер Фридрих Маркович(1898–1967), режиссер.
[Закрыть], в ту пору художественный руководитель студии, прибежал ко мне бледный.
– Что я мог сделать, что? – оправдывался он, боясь взглянуть на меня. – Большаков кричал, возмущался, как я мог проглядеть, что к нам в авторы пролез человек, высланный по подозрению в антисоветской деятельности. За такой либерализм надо крепко бить!.. Ну? Что теперь мне делать?
– Н-ничего особенного не с-случилось, – раздался голос Мики Блеймана, он чуть больше обычного заикался. – Ф-фри-да, ты перезаключишь договор только со мной, а мы с Сережей будем с-сотрудничать на тех же условиях, как раньше.
Я стал тайным автором, и мы продолжали работу.
Впрочем, история с этим сценарием имела анекдотическое продолжение. Сценарий был закончен, принят студией и пролежал до незабываемого 1949 года. Разумеется, он был надлежаще «отредактирован», уложен в привычную схему тогдашних биографических фильмов. Постановка его была поручена молодому казахскому режиссеру Мажиту Бегалину, он с энтузиазмом принялся за работу, но его вызвали в министерство, и Большаков заявил, что сценарий не может быть запущен в производство с такой фамилией автора, как Блейман, к тому же ему, Большакову, известно, что сценарий писал в основном другой человек, вполне, так сказать, «подходящий».
Этим «подходящим» был теперь я, и мы с Бегалиным отправились к Блейману – как быть?
– Ничего особенного не случилось, – сказал Блейман с усмешкой. Примерно неделю тому назад его имя поносили на специальном заседании в Доме кино как злостного космополита, и особенно упражнялся в этом направлении перепуганный насмерть режиссер Марк Донской, будущий Герой соцтруда, если не ошибаюсь, первый в кинематографии получивший это звание. Блейман иронически улыбался, объясняя Бегалину:
– В-вычеркните мою фамилию, замените ее Сережиной и садитесь за режиссерскую разработку. Все будет в п-по-рядке.
Теперь тайным автором стал Блейман, а представительствовал я. Но лишь появилось сообщение, что «Казахфильм» совместно с «Ленфильмом» ставит сценарий о Валиханове, как в «Казахстанской правде» появилась разгромная статья, разоблачающая автора, то есть меня, как байского приспешника, исказившего противоречивый образ Валиханова, действовавшего вместе с царской военщиной против освободительного движения в Туркестане. Я тогда уже находился в Москве, хотя положение мое продолжало еще оставаться шатким и такое политическое обвинение могло иметь для меня роковые последствия, а к тому же статью полностью перепечатали в «Правде». Мухтар Ауэзов [97]97
Ауэзов Мухтар Омарханович(1897–1961), казахский поэт.
[Закрыть], прекрасно понимая это, немедленно прилетел в Москву, в тот же день добился приема у главного редактора «Правды» П. Н. Поспелова и отправился к нему вместе со мной.
– Петр Николаевич, поймите, – говорил Ауэзов, – статья, перепечатанная в центральном органе партии, направлена не против Ермолинского, а против меня. Я защищал и защищаю этот сценарий. Вокруг Валиханова еще до сих пор ведутся споры. В Алма-Ате у меня много завистников, и они воспользовались случаем, чтобы припомнить мои прошлые политические ошибки…
– Ваше имя, как одного из крупнейших наших писателей, не нуждается в защите, – перебил его Поспелов. – А кроме того, я уже до вашего приезда удостоверился, что статья ошибочная, и наш алма-атинский корреспондент уже снят с работы.
Обычно малоподвижное лицо Ауэзова, похожего на бронзового будду, дернулось, глаза из-под припухших век гневно сузились.
– Позвольте! – воскликнул он. – Корреспондента сняли, а в каком положении автор сценария? Надо, чтобы «Правда» сообщила о допущенной ошибке.








