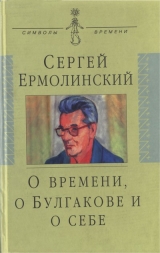
Текст книги "О времени, о Булгакове и о себе"
Автор книги: Сергей Ермолинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Булгаков с необыкновенной живостью слушал Фадеева, рассказывающего о делах в Союзе и об отдельных писателях. Фадеев, говорил доверительно, дружески, вы-де свой в нашей семье. Поймите…
– Послушайте! – прервал его Булгаков, вдруг возмутившись одной из названных фамилий. – Ведь это же негодяй! – И тут же просительно складывал руки. – Ох, но, может быть, он вам приятель? – И грозил весело: – Тогда тем более должен предупредить! Вы с ним встречаетесь чуть ли не каждый день, а я его в глаза не видел, но знаю его насквозь. А вы не знаете! В том-то и штука, что не знаете. Эх, эх, сидя в кабинете, можно и ослепнуть. Не отличишь, кто друг, а кто только и ждет, чтобы подставить подножку…
– Это правда, что вы говорите, – произнес Фадеев, прервавши смех. – Вы не представляете, как мне бывает трудно. А главное, я все время мешал себе как писателю. Понимаете? Писал урывками, на бегу. Вот и «Удэге» до сих пор лежит неоконченное. А я ведь не ленив. Тогда как же это назвать? Самопредательство? Фу, черт возьми, писателю все можно простить – двоеженство, пьянство, кражу, даже убийство, – только не это, не самопредательство. Вы согласны? – Он смотрел на Булгакова вопрошающе. – Вы понимаете, о чем я говорю?
Булгаков продолжал подшучивать над Фадеевым, над тяжелыми веригами его министерского положения в Союзе писателей. Фадеев смеялся своим тонким хохотком, когда Булгаков изображал, каким должен быть литературный сановник.
– Но все-таки – как же быть, а? – восклицал Фадеев, смеясь.
Ответа не последовало. Последовал рассказ о палешанах, неудачно вылезших из своей лакированной коробочки.
– Все дело в женах, Александр Александрович, – вдруг сурово сказал Булгаков. – Жены – великая вещь, и бояться их надо только при одном условии – если они дуры. А вообще – как по Шекспиру: терзать могут, но играть на вас ни в коем случае!
– Эти басенки стоят черта! Ну-ну, что еще?
Но Булгаков лежал, затихнув, прикрыв глаза. Его утомила беседа, и уже нельзя было скрыть этого. Надо было уходить. В передней Фадеев спросил меня:
– Неужели врачи считают, что положение безнадежно?
– Да, они так считают.
– Невероятно! Он полон жизни!
– Но тем не менее это так. И он сам это знает лучше врачей.
– Не могу поверить. В нем столько силы. – Фадеев задумался на секунду и вдруг сказал: – Чудовищно, что я до сих пор его не знал! Я не имел права его не знать!.. Нет, не верю! Убежден, врачи ошибаются и он тоже. Он выздоровеет! И тогда все будет по-другому.
– Если бы его здоровье зависело от врачей, а его литературная жизнь от того, что вы узнали его чуть ближе…
– Вы думаете? – Он рассеянно попрощался со мной и вышел.
Потом он звонил еще два раза, справлялся встревоженно, не нужна ли еще ссуда от Союза, нужно ли еще что-нибудь?
– Я думаю, уже не нужна.
– Неужели? – шепотом спросил он и, помолчав некоторое время, подышав, положил трубку.
Ссуда была уже не нужна. Ничего уже не могло ему помочь.
Весь организм его был отравлен, каждый мускул при малейшем движении болел нестерпимо. Он кричал, не в силах сдержать крик. Этот крик до сих пор у меня в ушах. Мы осторожно переворачивали его. Как ни было ему больно от наших прикосновений, он крепился и даже тихонько, не застонав, говорил мне одними губами:
– Ты хорошо это делаешь… Хорошо…
В те последние дни подозрительность его развилась до крайности. Он уже не доверял даже таким вернейшим своим друзьям, как Дмитриев и Эрдман. Шептал мне:
– Ты не очень-то болтай обо мне, даже с ними… И уже никого, кроме Лены и меня, к себе не подпускал.
Он ослеп.
Когда я наклонялся к нему, он ощупывал мое лицо руками и узнавал меня.
Лену он узнавал по шагам, едва появлялась она в комнате.
Он лежал голый, лишь с набедренной повязкой. Тело его было сухо. Он очень похудел.
Все последние ночи со мной вместе (в комнате маленького Сережи, на полу) ночевали Дмитриев и Борис Эрдман. С утра приходил Женя, старший сын Лены, Булгаков трогал его лицо и улыбался. Он делал это не только потому, что любил этого темноволосого очень красивого юношу, холодновато-сдержанного, по-взрослому отвечающего за каждое свое душевное движение, он делал это не только для него, но и для Лены. Быть может, это было последним проявлением его любви к ней – и благодарности.
10 марта в 4 часа [80]80
В 4 часа 39 минут.
[Закрыть]он умер. Мне почему-то всегда кажется, что это было на рассвете.
На следующее утро – а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти, но кажется, на следующее утро, – позвонил телефон. Подошел я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил:
– Правда ли, что умер товарищ Булгаков?
– Да, он умер.
Тот, кто говорил со мной, положил трубку. Поздно вечером приехал Николай Эрдман, проживавший тогда в ссылке в Вышнем Волочке. Мы провели с ним вдвоем почти всю ночь. И даже разговаривали мало. Лена, не раздеваясь, прикорнула на диване. На рассвете он уехал. Пахло формалином. Меркуров снимал маску. Копию этой маски мне подарила Лена, но в военные годы, когда меня уже не было в Москве, ее бросили в дровяной сарай, а потом она куда-то исчезла. Очень много народу перебывало в квартире. Меньше всего было литераторов. Не пришел и Фадеев. Но написал письмо Лене. Впервые оно напечатано в «Новом мире» в 1966 году. Письмо помечено 15-м марта 1940 года. Он объяснял, что лишь дела неотложные не позволили ему зайти к ней и в Союз. Он писал, что, к сожалению, некоторые люди (думаю, намек на меня) рассматривают это как проявление его осторожности в связи с тенденциозным отношением к Булгакову. И далее, подчеркивая свое уважение к Елене Сергеевне, возвышенно отозвался о Михаиле Афанасьевиче как о человеке поразительного таланта, с которым, даже тяжелобольным, было интересно разговаривать, как редко с кем бывает. Фадеев заверял Лену, что все связанное с памятью Булгакова, его творчеством «мы поднимем и сохраним, и люди будут знать его все лучше по сравнению с тем временем, когда он жил. По этим делам и вопросам я буду связан с Ермолинским и Маршаком и всегда помогу». Он писал: «И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременявший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, путь его был искренен и органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом не было ничего удивительного, хуже было бы, если бы он фальшивил».
Это были первые прямодушные строки о Булгакове, но тогда прочитать их могла одна Лена. Время писателя Булгакова еще не пришло.
Да, в те траурные дни заходили попрощаться к нему не только его близкие знакомые, но и неведомо кто, и было тесно в доме. Дверь настежь, на лестнице люди. А когда его гроб перевезли в Союз писателей, то оказалось, народу совсем немного. В большом, полутемном зале стояли группки людей. Многие подолгу. Многие уходили и приходили опять. К вечеру собралось людей побольше. Было тихо. Музыки не было. Он просил, чтобы ее не было.
По дороге в крематорий заехали в Художественный театр. Вся труппа и служащие ждали его у подъезда. Затем проехали к Большому театру – у колонн стояло много людей – тоже ждали его. Я думаю, он не удивился бы. Я думаю, он знал: что бы ни приключалось с ним в этих театрах, его любили там искренне.
21 марта Правление Союза писателей СССР утвердило комиссию по его литературному наследию. По указанию Фадеева в нее ввели: Е. С. Булгакову, Всеволода Иванова [81]81
Иванов Всеволод Вячеславович(1895–1963), прозаик, драматург.
[Закрыть], Леонида Леонова [82]82
Леонов Леонид Максимович(1899–1994), писатель, драматург.
[Закрыть], Я. Л. Леонтьева [83]83
Леонтьев Яков Леонтьевич(1890–1948), заместитель директора Большого театра.
[Закрыть](зам. директора Большого театра), С. Я. Маршака [84]84
Маршак Самуил Яковлевич(1887–1964), поэт, переводчик.
[Закрыть], П. А. Маркова, П. С. Попова, А. М. Файко, Н. П. Хмелева, В. Я. Виленкина [85]85
Виленкин Виталий Яковлевич(1911–1995), заместитель заведующего лит. Частью МХАТа.
[Закрыть]и меня. Таков был состав нашей первой булгаковской комиссии. На первом ее заседании (Марков, Маршак, Файко [86]86
Файко Алексей Михайлович(1893–1978), театральный драматург.
[Закрыть]и я) наметили к изданию сборник его пьес. Правление ССП поддержало нас. В «Вечерней Москве» сообщалось, что «Советский писатель» включил в план издание драматических сочинений Булгакова. Докладывал на редсовете Ю. Юзовский. Однако на этом дело застопорилось. Помнится, мы поднимали вопрос о сборнике булгаковских пьес и в «Советском писателе», и в «Искусстве». Но время ли было для «воскрешения» Булгакова? Грозные события неотвратимо надвигались. В июне 41-го разразилась война. И естественно, тема войны, тема воинской доблести и всенародного подвига стала главной, единственной темой в нашей литературе. Враг был на подступах к Москве. Москва эвакуировалась. Членов нашей булгаковской комиссии развеяло по всей стране – у каждого было свое место, своя судьба в общем потоке дел и событий. Единственно, что нам удалось, – сохранить за семьей Михаила Афанасьевича его квартиру.
Лена с младшим сыном Сережей уехали с писательским эшелоном в Ташкент, а старший – Женя – находился в артиллерийском училище в Мары (в Туркмении), окончив которое получил назначение в Действующую армию.
Годы ее жизни в эвакуации прошли вне поля моего зрения. Меня кидало совсем по другим местам, но эта моя личная жизнь вряд ли представляет интерес. Могу только сказать, что я не забывал о своем друге, и пример его писательского мужества, человеческого достоинства и чести немало помог мне и в моих жизненных испытаниях.
Лена вернулась из Ташкента в растерянности. Она очутилась в нужде, с какой раньше не сталкивалась. Ее квартира на улице Фурманова показалась неживой – тень прошлого.
Мне она писала (я был тогда уже в Тбилиси): «Милый Сереженька, прости, что не писала так долго. У меня голова кругом идет от разнообразнейших и бесплодных хлопот. А я тем временем сижу без копейки. Вставая утром, прежде всего смотрю кругом, что еще можно продать. Оля сегодня, по своему несчастному обыкновению, принесла мне на хвосте неприятные новости: „Мертвые души“ не пойдут долгое время, так как спектакль разболтался, а приводить его в порядок некогда. „Пушкин“ („Последние дни“) идет очень редко, и Оля советует мне скорее искать себе работу по переписке на пишущей машинке, чтобы иметь какой-нибудь верный заработок. Женя принят в Академию Фрунзе, находится сейчас в лагерях Академии. Бывает в Москве каждую субботу вечер и днем в воскресенье. Сережа готовится к экзаменам в Полиграфический институт на редакционно-издательский факультет. Меня очень волнует мысль, что у тебя будут сложности с твоей пьесой (я писал о Грибоедове. – С.Е.), потому что сейчас нужны пьесы только на современную тему. Сереженька, милый, ты пишешь о приезде в конце сентября. Ничего не изменилось? Целую тебя крепко».
В 1949 году в связи с приближающимся десятилетием со дня смерти Булгакова она напомнила Союзу писателей, что еще 21 марта 1940 года Правление ССП постановило издать сборник его пьес, а теперь просила также и об издании «Белой гвардии» и биографии Мольера («Жизнь господина де Мольера»). «Если Секретариат, – писала она, – не может самостоятельно разрешить вопрос о литературном наследстве Булгакова, то прошу ходатайствовать об этом перед Правительством».
Выписка из постановления Секретариата ССП от 21 апреля 1950 года гласила: «26, п. 10. Об издании произведений М. А. Булгакова. Постановили: Воздержаться в настоящее время от переизданий избранных произведений М. А. Булгакова». Речь, однако, шла не о переизданиях, а об издании сочинений, не известных советскому читателю.
На заявление Лены откликнулся К. А. Федин. «Дорогая Елена Сергеевна! – писал он. – Получил копию Вашего заявления в ССП. Постараюсь непременно повидать Фадеева и поговорить с ним. Но вы знаете, как это хитро… он очень занят… Без него ничего не выйдет, а встретиться с ним я никак не могу.
Скоро будет пленум Правления, тогда, надеюсь, удастся поговорить. Я лично с большим желанием поддержу вашу просьбу».
Позвонил Маршак: «Говорил с Фединым, говорил с Сурковым, с Тихоновым. Мне очень горько». Маршак всплакнул в телефон, бормоча невнятные утешительные слова.
Судить о поведении Фадеева не берусь. Встречался с ним редко. В течение ряда лет он был всевластным руководителем Союза. Он него, должно быть, зависела и судьба многих репрессированных писателей, он не помог им. И все же я вспоминаю о нем как о запутавшемся и мучающемся человеке: не случайно он, послушный слуга Сталина, в конце концов сам себе вынес приговор… Но тогда я был раздражен на него, потому что так же, как другие, безуспешно пытался переговорить с ним о Булгакове.
Наступали пятидесятые годы. Недолго уже было и до антисталинской бури, но дела у Лены не шелохнулись: мертвая зыбь.
«Если бы ты знал, – писала она мне, – как трудно добиваться, что Мишу надо печатать».
Ей порекомендовали обратиться в издательство «Искусство», и она отправилась туда с бумажками от Союза писателей и Министерства культуры.
Секретарша не пускала ее к директору, сообщив, что его нет и неизвестно, когда он будет. Лена уселась чуть поодаль и терпеливо ждала, выказав неодолимое упорство во что бы то ни стало добиться встречи с директором. Секретарша попросила ее выйти в коридор, не скрывая раздражения возмутительной настойчивостью «дамочки». И все же директора она дождалась. Насколько помню, директором был тогда Евгений Евгеньевич Северин. Он внимательно ознакомился с бумажками, некоторое время поразмышлял и затем, отобрав две пьесы – «Дни Турбиных» и «Последние дни», – сказал: «Выпустим книжку с этими двумя пьесами и постараемся сделать это поскорее, так сказать, вроде бы к десятилетию со дня…» Вышла тощая книжка его двух пьес, проверенных и перепроверенных, шедших в МХАТе.
Таким образом, когда я уже находился в Москве, в делах Лены ничего не переменилось. Но я сам был не устроен. Жизнь моя разладилась. Все надо было начинать сначала. Довоенной квартиры в Мансуровском переулке я лишился. Там поселились чужие люди. И пока я получил жилище и возник наконец мой новый дом, некоторое время я жил у Лены.
Что касается меня, то я был достаточно натренирован жесткими передрягами тех суровых лет, и близостью смерти, и голодом, и холодом, а Лена испугалась жизни – любую катастрофу перенесла бы, но не нищету. Мне иногда кажется, что есть люди, которым не к лицу бедность. Лена принадлежала к их числу. Ощущение бедности угнетало, давило ее, хотя прожила она в таком положении недолго. Редкие гости, приходившие к ней, наверно, не замечали, что у нее плохо. Только мне, живущему с ней рядом, это было видно. Но в тот год я мало чем мог ей помочь. Кроме того, я был болен, кашлял. Чувствовал, что кашель, ночами душивший меня, раздражал ее. Но утром мы пили жиденький кофе с тоненькими ломтиками пайкового хлеба и старались говорить весело, и подбадривали друг друга. Она, несмотря ни на что, верила в меня и в мои силы. Мог ли я ее обмануть? А главное, удивительная встреча моя с Татьяной Александровной Луговской, которую Лена близко узнала и подружилась с ней в Ташкенте (раньше меня), удвоила энергию – тоже «несмотря ни на что». Нет, унывать было нельзя! Без нее все в мире стало бы для меня черным! И теперь, за дальностью лет, я особенно остро вижу, что в моей тогдашней жизни, вопреки всему, появилось что-то прекрасное.
Весна в августе! Уже лил безнадежный дождь, а мои прохудившиеся башмаки пропускали сырость… В сорок лет заново начинать жизнь! Эх, эх, Миша бы меня понял…
Как раз в это время возникло его первое «собрание сочинений».
Первоиздательницей была Лена. Но об этом никто не знал. «Величайший секрет!» В ее распоряжении имелась пудовая, бесшумно действующая пишущая машинка американского происхождения, когда-то давно по случаю приобретенная Михаилом Афанасьевичем. Я приволок из Литфонда желтоватую бумагу в рулонах, мы нарезали ее по размеру книги, а не на обычные листы. Лена печатала целый день. Никто не торопил, но не терпелось скорее закончить. Перепечатывались все пьесы и романы, выуживались из газет и профсоюзных журнальчиков двадцатых годов его старые фельетоны и рассказы.
Именно тогда я впервые внимательно вчитывался в них и обнаружил, что в работе Булгакова-фельетониста содержится немало сатирических сюжетов и образов, которые получили впоследствии развитие не только в рассказах из «Дьяволиады», но и в «Белой гвардии» и, несомненно, в «Мастере и Маргарите». Тут неожиданно отыскиваются истоки его творчества, литературоведам небезынтересно обратить на это внимание. Но при чисто формальном анализе этих истоков исследователь, на мой взгляд, неизбежно создает одностороннюю и неверную картину его творческого развития. Если фельетоны писались на основе рабкоровских писем, «сигналов из жизни», если очерки и рассказы возникали в результате столкновений с житейскими, бытовыми обстоятельствами, превращаясь в булгаковские фантасмагории, если, наконец, «Белая гвардия» написана под впечатлением пережитых и непосредственно увиденных картин, то его более позднее творчество, в особенности же «Мастер и Маргарита», создавалось в результате обобщений и размышлений. К тому времени он все более замыкался в стенах своего кабинета. Но это был не отрыв от жизни. Это было ее постижение. Из фантастического реализма, к которому он был всегда склонен, вырастали его трагическая сатира и его раздумья о «вечном». Тема Понтия Пилата с его мертвенным отстранением от «добра и зла», тема духовной трусости, страстно осужденной, как и тема Мастера, не заслужившего «свет», ибо опустились руки, погасла воля и роман «не окончен», и, наконец, вскрик «свободен! свободен!» – все это, постепенно наслаиваясь, находило свое окончательное выражение…
В первом «собрании сочинений», создаваемом Леной, его фельетоны и очерки составили отдельный томик. Разумеется, мы нашли лишь небольшую, далеко не полную часть из того, что было напечатано в «Гудке», в «Накануне», во множестве других мелких изданий. Вопросами раннего творчества Булгакова стали заниматься, по сути, совсем недавно. Появляются все новые и новые публикации. Тут не все равноценно, но многое оказывается совершенно неожиданным. Уже в ту давнюю пору, когда я перебирал старые газеты, меня почему-то преследовала мысль, что «Записки на манжетах», опубликованные в газете «Накануне», всего лишь отрывки из романа, скорее всего незавершенного. Если допустить, что этот роман существовал, то он явился бы необыкновенно живым документом времени.
Тогда, естественно, мы с Леной были увлечены перепечаткой «Мастера и Маргариты», его окончательной редакцией, то есть с последними поправками уже слепого, умирающего автора. Лена волновалась, перепечатывая внесенные ее рукой под его диктовку изменения… И вот роман лежит стопкой аккуратных листков!
Перелистываю страницы и читаю знакомые строчки, воспринимая их по-новому остро:
«– Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?
И тут прокуратор подумал: „О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном… Мой ум не служит мне больше“…
И вновь он услышал голос (тихого, обреченного Иешуа):
– Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает…»
Это один из самых главных томиков, а сколько всего получилось, не помню. Но каждый, как принято во всамделишных изданиях, был помечен: «Михаил Булгаков, т. 1, т. 2, т. 3» и т. д., и каждый переплетен в матерчатый переплет. Указан был год издания, не указана лишь цена, ибо, как вы понимаете, издание было поистине бесценно. Вот какое это было издание – единственное в своем роде! Бесшумный труд Лены был завершен.
Для заработка она перевела книгу Андре Моруа о Жорж Санд по договору с издательством «Молодая гвардия» (для серии «Жизнь замечательных людей»). По иронии судьбы книга вышла, когда у Лены уже не было нужды в гонораре.
В писательской судьбе Булгакова вдруг круто все перевернулось. Внезапностью своей это напоминало чудо, но не было тут никакого волшебства: в жизни нашего общества произошли стремительные перемены…
Первым громко заговорил о нем с трибуны Второго съезда писателей Вениамин Александрович Каверин. Произошло это в декабре 1954 года, то есть через четырнадцать лет после смерти Булгакова. Романы его, как и все остальные сочинения, продолжали лежать в машинописных копиях. Напечатанное в двадцатых годах забылось. Но Каверин, безусловно, знал – и, видимо, хорошо – его пьесы и то, что с ними происходило при жизни автора.
В конце своей речи, говоря о будущем нашей литературы, он сказал: «Я вижу нашу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позором и преследуется в уголовном порядке, которая помнит и любит свое прошлое. Помнит, например, что сделал Юрий Тынянов для нашего исторического романа и что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии». Каверин не знал Елену Сергеевну, не знал и не видел Михаила Афанасьевича, но на следующий день получил от нее большую корзину цветов, а вместе с ней аккуратно перепечатанные машинописные томики прозы Булгакова. Позже, познакомившись с Еленой Сергеевной, Каверин сказал мне: «Боже мой, какая женщина! И как сохраняет она каждый листок, имеющий к нему отношение! Я увидел, что делается это такой трепетной рукой, что у меня сжалось сердце».
Он был прав. То, что составило архив Булгакова, ныне находящийся в рукописном отделе Ленинской библиотеки, прежде всего дело ее рук.
Конечно, выступление Каверина, встреченное с молчаливым напряжением, еще ничего не решало, но оно подтолкнуло, обнажило тот скрытый интерес к таинственному писателю, который давно назрел.
Буквально на глазах переворотилась картина нашей литературной истории: многое из того, что шумело, искусственно воздвигаясь на вершины, оказалось всего лишь сиюминутным, конъюнктурным и лопнуло как мыльный пузырь. Неправдоподобными кажутся времена, когда уничтожали Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, шельмовали Ахматову и Зощенко, изгоняли из Союза писателей Пастернака. Неужели это могло произойти? Никто даже голоса не поднял в защиту. Напротив, тянулись руки, голосуя за клеймящие резолюции. Знаю, многие потом, стыдясь, зарывали головы в подушку. Неужели было?.. И так же неправдоподобно выглядит судьба Михаила Булгакова, его пьес и прозы. Время это прошло. Общепризнаны стали те, кого отвергали как чужеродную силу. Имена их – каждый их знает! – стали неотъемлемой частью нашей культуры. И не они ли воочию показали, что нас не сокрушили никакие беды и мы не обнищали духом? Вот почему, не страшась правды, нам – и никому другому! – надобно беспощадно рассказать о том, что мы пережили. Нет ничего сильнее правды. Тогда не приоткроется даже щели для клевет и злорадства недругов, да и сами мы хоть немного научимся противостоять злу – лицемерию и чиновничьей трусости.
Вокруг Булгакова до сих пор полно кривотолков и недомолвок: прищурен глаз охранителей нашей идеологической благонамеренности. А он, между прочим, мог бы повторить известные строки Ахматовой, и повторить – как свои:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам,
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
На Западе, особенно после появления «Мастера и Маргариты», Булгаков стал не только художественной сенсацией, но и политической, вернее, политиканствующей. Ну, это дело временное. Тут повинна его биография. Вот о ней-то не все у нас любят вспоминать, хотя она неотрывна от его творчества.
У нас любят ясность. Но, как ни старайся, литература не подчиняется правилам ГАИ. В иных случаях надобно идти и на красный свет. Булгаков сам себе расставлял светофоры, ему свистели, поэтому понадобилось время, чтобы распознать, кто он таков и какая ему цена.
Он не дожил до своего полного признания, до своего торжества, а Лена, к счастью, дожила. И не удивилась. Она была уверена, что иначе быть не могло.
Сразу объявилось много «друзей». Среди них были тихие сплетники, которые еще недавно считали его неудачником, случайно прославившимся единственной пьесой «Дни Турбиных». (Завистники: «еще бы – МХАТ!») Были преуспевающие дельцы, считавшие его подозрительным типом, от которого лучше всего держаться подальше. Нынче это почитатели его, восхвалители, и, оказывается, втайне всегда были такими! Знал я одного льстящего и трусливого человека, который, казня себя, публично кается, что, находясь рядом, по соседству, в той же писательской надстройке на улице Фурманова, не распознал, что за стеной у него жил гений… Все они (и этот человек, преуспевающий сверх меры) без промаху, по «черному списку» мечены Леной. И как бы сладкоголосы они ни были, она держалась с ними с королевской недоступностью.
А вокруг нее хлопотали, старались проникнуть к ней в дом, охаживали ее, почитали за честь быть знакомыми с ней. Был и такой «модный» момент в московской литературной жизни. Ее с поклоном приглашали на родину Шекспира, на родину Мольера, в Италию, в Рим, из прекрасного далека которого Гоголь вглядывался в свою необъятную Русь…
– Я же говорил, – воскликнул бы Булгаков, – мой роман еще сотворит сюрпризы!
Ей было уже больше семидесяти, но она была привлекательна, как всегда, как прежде, и не преувеличив скажу – молода!
Когда ее жизнь сказочно переменилась, она жила уже не на улице Фурманова, а в новой, небольшой, очень уютной квартире на Суворовском бульваре, у Никитских ворот. После войны булгаковских вещей сохранилось немного, почти вся библиотека была распродана, но все равно он царствовал в ее доме. Огромный портрет его в овальной раме, сделанный по фотографии, лишь в общих, внешних чертах напоминал его образ, но он оживал в ее рассказах. Она с живостью передавала его юмор, его интонации. Смысл ее жизни был наполнен им, может быть, глубже и сосредоточеннее, чем при его жизни. Даже почерк ее изменился. Я улавливал в ее письмах знакомые мне строчки, написанные крупно, плотно, чуть наклоненные, без нажима. Она оставалась все той же Леной, но она необыкновенно раскрылась.
Его смерть была для нее неподдельным, охватывающим всю ее горем. Не утратой, не потерей, не вдовьей печалью, а именно горем. И оно было такой силы, что не придавило, а напротив, пробуждало к жизни.
В этом нет ничего странного. Любви без воображения не бывает. Когда растворяется неизбежный житейский сор, возникает возвышенная чистота отношений, и они незаметно вырастают в легенду, которую отнюдь не следует разрушать. Внутренне сильные натуры, как она, подвластны такому самотворящему чувству, когда игру уже нельзя отличить от правды. Тут не было ни лжи, ни фальши. При нем она искренне притушевывала себя, готовая на повседневное подчинение. Отходила на второй план, иногда, быть может, молчаливо бунтуя и опять смиряясь.
Она отнюдь не испытывала женского рабства, ибо он зависел от нее не менее, чем она от него. Это было добровольное и радостное подчинение. Когда оно вдруг кончилось, она вместе с потрясшим ее горем не могла не почувствовать… какого-то высвобождения! В этом тоже не было ничего странного. Что-то, все время сдерживаемое внутри, прорвалось. Она стала еще более общительной. Произошло что-то похожее на взрыв. Замкнутые в последнее время двери ее дома распахнулись, и сперва она была даже неразборчива в выборе новых друзей, случайных привязанностей, шумно нахлынувших знакомых. Осторожность и отбор их пришли позже, особенно когда поднялась волна интереса к творчеству Булгакова, к его биографии, а вместе с этим и к ней…
Я поражался, с каким умом и тактом она вела булгаковские дела. Он никогда не смог бы вести их так, как она. Множество деловых людей стало появляться в ее доме. Засуетились и представители зарубежных издательств, иностранные корреспонденты, разный пестрый народ. И почти все ожидали встретить чуть ли не старуху, а их встречала женщина изящная, легкая, остроумная. Гостеприимство ее было обворожительно. Если надо было, она могла по-женски обхитрить кого угодно, притворяясь то беззащитной и милой хозяйкой, то лукавой хищницей. «Ты лисичка, – говорил я. – Ты похожа на лисичку». «Вот и Миша говорил, что похожа», – соглашалась она. И верно – похожа. Особенно в меховой шубе, чуть высунувшись из пушистого воротника.
Некоторые жены ее знакомых, скрывая озабоченность, говорили, что она неравнодушна к их мужьям, а мужья эти намекали мне не без самоуслаждения: «Она удивительно ко мне относится. Нет, правда. Я чувствую. Н-да…» И многие, весьма многие наши литераторы, не лишенные прозорливости, легко попадались на ее «булгаковские провокации», принимая их за чистую монету, и полушутя, а то и всерьез рассказывали о ее внезапных появлениях, говоря, что она, ей-богу, «ведьма», способная летать на метле… «Ты думаешь, что ты ведьма?» – дразнил я ее. «Не ведьма, а колдунья и Маргарита», – строго говорила она.
А почему бы, в самом деле, хоть чуточку и не поверить в возможность «сверхъестественного»? Ведь с Булгаковым, как и с сочинениями его, непрерывно происходили чудеса. Их закономерностям мы находили объяснения позже – разве так не случалось?.. Вот и в Лене вдруг что-то появилось от Маргариты или у Маргариты от Лены? Именно так и произошло. В первых редакциях романа не было ни Мастера, ни Маргариты. Они появились в процессе дальнейшей работы, но и в окончательной редакции они возникают лишь в 13-й главе, которая так и называется: «Явление героя» (ее имя еще только упоминается). Роман развернулся и был завершен, как известно, когда Булгаков уже жил на улице Фурманова с Леной. И характер ее то и дело начинает угадываться в его героине. Не только с Маргаритой, но и с ней, с Леной, на моих глазах происходили удивительные перемены, словно он видел их скрытые черты – предвидел их.
И она не раз спрашивала меня:
– Объясни, почему Миша полюбил меня? В «Записках покойника» («Театральный роман») им написан юмористический портрет хорошенькой дамы с лисой на плечах, которая появляется в конторе проницательного администратора театра – Фили.
«– Филенька, у меня к вам просьба. Одну старушку не можете ли вы устроить куда-нибудь на „Дон Карлоса“? А? Хоть в ярус. А, золотко?
– Портниха? – спрашивал Филя, всепонимающими глазами глядя на даму.
– Какой вы противный! – восклицает дама. – Почему непременно портниха? Она вдова профессора и теперь…
– Шьет белье, – как бы во сне говорил Филя, вписывая в блокнот: „Белошвей. Ми. боков, яр. 13-го“.
– Как вы догадались? – хорошея, восклицала дама».
Это – Лена, еще когда она не была его женой. Благополучная, капризная дамочка!
А вот Маргарита, летящая в бездны над ночной Москвой, врывается через окно в квартиру критика Латунского, оболгавшего роман Мастера, и учиняет там полный разгром. Это тоже Лена. Она и в жизни готова была бы поступить так с каждым, кто наносил удары ее Мастеру. Память ее сохраняла черный список его недругов, как он ей завещал. «Нет, я не добренькая, – говорила она сама про себя. – Я не размениваю рубль на копейки, чтобы раздавать их как можно большему числу людей. Я полностью отдаю свой рубль неразмененным тому, кого люблю».








