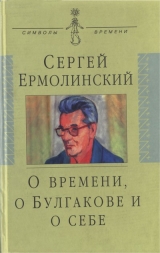
Текст книги "О времени, о Булгакове и о себе"
Автор книги: Сергей Ермолинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Впоследствии я узнал, что в нашем вагоне стоял, может быть, почти вплотную рядом со мной, такой же безликий, такой же, как все, не отличимый ни от кого, гениальный русский ученый Николай Иванович Вавилов.
Мне рассказал об этом Келлер, написавший несколько научно-популярных книг. Он вернулся в Москву в пятидесятые годы. Оказывается, он тоже находился в моем эшелоне: все признаки совпадают, ибо нельзя было предположить, что картина ночного пылающего Перова могла еще для кого-нибудь повториться. Картины, как и сроки этапа, совпадали.
Келлер, уже свободный (реабилитированный), съездил в Саратов, надеясь отыскать могилу ученого. Ему посчастливилось встретиться со старушкой, которая была в те годы санитаркой в тюремной больнице. Она с двумя могильщиками-вертухаями провожала великого человека в последний путь, и она одна поплакала над его могилой – такого кроткого, тихого, вспоминала она. Его захоронили на задворках тюрьмы. Она указала чуть всхолмленное место, но его ли это могила, утверждать трудно.
Келлер пришел ко мне, заинтересовавшись судьбой Булгакова. Я рассказывал ему о моем друге, мы разговорились, и вдруг выяснилось, что, незнакомые, прошли вместе нелегкий путь этапа в Саратов, и уже теперь я слушал его рассказ о Николае Ивановиче Вавилове, о трагическом его конце.
САРАТОВ
Не сразу можно было узнать, в какой город нас привезли. Как всегда, где-то на подъездных путях отцепили наш вагон. Ранним утром ковылял по окраинным улочкам караван измученных людей. Всего несколько конвойных подгоняли нас, а больше и не требовалось. День выдался солнечный, безветренный, с легким морозцем.
Кое-как дотащились мы до тюрьмы и расположились на дворе, ожидая, пока нас распределят по камерам. Мы расселись прямо на земле, опьяненные свежим воздухом, а пеший переход вконец лишил нас сил. Заснеженная земля подмерзла за ночь и оттаивала под нами. Тюремщики, суетясь, выбегали из здания и, отобрав очередную группу и не выкликая никого по имени, не сверяясь ни с какими списками, уводили, а затем возвращались за новой партией. Все смешалось, перепуталось… И я попал в камеру уголовников.
Это была большая камера. На двухъярусных нарах лежали люди. В углу, при входе, стояла зловонная параша. Меня втолкнули, и здоровенный, заросший щетиной, с низколобой головой, втянутой в плечи, огромный детина возник передо мной и указал мне на темный угол внизу, то есть у этой самой параши. Оглядев меня сверху до башмаков, хриплым голосом распорядился:
– Вон твое место. Можешь лечь.
Я забрался в свой угол, а он расположился рядом, придавив меня к стене широкой, как глыба, спиной, пропахшей потом и мочой. Но я ничего не чувствовал. Я уснул.
Невозможно даже примерно вычислить, сколько времени я спал, и проснулся как после тяжелой операции, лишь постепенно приходя в себя и начиная понимать, где я. Но, боже мой, пока я спал, меня переодели в лохмотья, и я даже не почувствовал: вместо полуботинок на каучуке (в ту пору вошедших в моду) – расхлябанные парусиновые туфли, вместо брючного костюма – ветхие широкие штанины и драная куртка. Сколь же крепок был мой сон, если ухитрились проделать все это? Может быть, подсыпали снотворного? Да оно было и не нужно. С некоторым недоумением я оглядывал себя. Рядом сидел низколобый дядя, искоса наблюдая за мной. Я молчал, понимая, что взывать – «Обворован. Ищите вора!» – было по меньшей мере бессмысленно. Сидевший рядом со мной, отнюдь не в моей одежде и не в моих ботинках, а в том же наряде, в каком встречал меня, гостеприимно засунув в самый вонючий угол, свернул из клочка газеты цигарку и закурил. Я продолжал молчать.
– Курить хочешь? – спросил он.
– Давай, коли не жалко.
Он не спеша извлек из кармана еще клочок смятой газетной бумаги, аккуратно насыпал щепотку табака:
– Это как же ты тут очутился?
– Так же, как и ты, – ответил я, склеивая цигарку и прикуривая у него.
– Херня. Кем же ты был на воле?
– Я? Сочинял.
– Чего-о?
– Стихи сочинял.
Почему я так сказал, не знаю. Стихов я никогда не писал. В тюрьме, в одиночке, складывал строки, подыскивал рифмы, этим способом отвлекая себя и как бы разговаривая сам с собой, в рифму и запоминалось лучше. Получалось нечто вроде стихотворной самоделки, и я много раз повторял ее, выучивал.
– Стихи? – переспросил мой приятный собеседник. – То есть, как это? Сам?
– Я же сказал – сочинял. Значит, сам.
– Это что же, и деньги тебе за это платили?
– А как же? И немалые. 100 рублей за стих.
– Херня. Чего только на свете не бывает. А ну-ка, почитай.
Я втянул носом воздух (ой, вонища, вонища!) и негромко прочитал о том, как в неволе губят человека и пропадает он ни за что.
– Складно. Во! Мать твою…
Я еще прочитал в том же роде. Между тем вокруг меня собралась уже группа слушателей, а я читал, подвывая по всем правилам поэтической декламации. Голос издали прервал мое чтение:
– Эй, говнюки, что там у вас?
– Стихи вот читает.
– Давай его сюда! – последовал приказ. И я, сопровождаемый своими слушателями, зашлепал спадающими парусинами в противоположный угол, самый роскошный, самый светлый, у окна. Там, на втором ярусе, возлежал человек, моложавый, поросший рыжеватыми кустами волос от уха до уха, округло, и такими же усами, сливающимися с бородой. Это был пахан. Это был царь, король, которому подчинялась вся камера. Рядом с ним примостился его «премьер-министр», первый слуга и помощник, визирь.
– Читай, – сказал пахан, разглядывая меня жесткими, оловянными глазами.
Я решил, что такому величеству надобно выдать что-нибудь покрепче собственных самоделок, и прочитал из Есенина. Сначала – что «если б я не был поэтом, то был бы разбойник и вор», потом – что «каждая задрипанная лошадь знает мою легкую походку», потом – «я не знаю, мой конец близок ли, далек ли, были синие глаза, в кабаках промокли», а когда дошел до «ты жива ль, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет», то увидел, что глаза пахана увлажнились. Истинные бандиты и убийцы слезливы и чувствительны.
– Еще давай! – кричали мне.
– А ну, мразь, не видишь, может, человек устал? Может, он не хочит? Может, он спать хочит?
Тут последовало легкое многоточие, но в сравнении с виртуозным многоэтажием моего голубоглазого это, пожалуй, и многоэтажием не назовешь.
Все разбрелись по своим нарам, а меня с моим узелком и пальто перетащили поближе к пахану, то есть я возлег третьим, сразу после визиря.
Эх, эх, никогда не достигал я таких вершин, такой близости к высоким сферам: ни до тюрьмы, ни после нее! Вообще-то подальше, подальше надобно от вельмож, от этой пляски по канату над пропастью. На меня даже начальнички среднего ранга смотрели косо. Подлизывайся, не подлизывайся – все равно. Чем-то я им, как правило, не нравился, хотя, право же, был тих, скромен и редко взрывался (ну, тогда все!). Зато тут, в этой своре подонков, которых побаивались даже тюремщики и вертухаи, мне повезло: а то, говорят, они не только обворовать могут, но и полоснуть ножичком ни за что ни про что. Нет, мне чертовски повезло! Анекдот! Я занял положение неприкасаемого, однако сразу сообразил, что нельзя допускать ни малейшей фамильярности, сохранять дистанцию. Мне даже тыкать перестали, говорили «вы».
Бог мой, какими привилегиями я пользовался! Например, при раздаче хлеба мне вручалась третья, лучшая пайка, и никто не возражал. А однажды, когда разыгралась у параши драка и кто-то кричал, что его опять обделили довесками, я вмешался и предложил:
– Пожалуйста, возьми в обмен на мою.
Это произвело потрясающее впечатление даже на пахана, и с тех пор меня почитали как справедливейшего человека. Я был им – суд праведный, когда возникали ссоры. А когда нас гнали в баню и нары растаскивались на доски, их тащили все, кроме нашей верхушки – пахана, визиря и меня. В бане эти доски ошпаривали и под зорким наблюдением вертухаев старательно терли. В тюрьме больше всего боялись, чтобы не завелись вши. Эпидемия тифа, как и всякая другая эпидемия, при перенаселенности камер грозила бедствием, за которое строго взыскивали с тюремного начальства (вплоть до расстрела). Наша камера проделывала санитарную процедуру на совесть, придраться было не к чему. Но в остальном – жила своей жизнью.
Шмоны производились не реже чем раз в неделю. Шарили по нарам, заглядывали в задницы – все как положено. И тем не менее тотчас после шмона невесть каким образом снова появлялись карты, иголки, ножички для бритья и даже страшные ножи-самоделки. Не удивлюсь, если узнаю, что был тут тайный сговор с тюремщиками. Повторяю, уголовников побаивались. Они, если угодно, были нашим стражам свойские ребята, намного ближе по духу, чем «враги народа», вроде меня. В темном царстве действовал особый, никому не подчиняемый закон уголовного мира. Тут шла азартная игра в карты, проигрывали даже человеческую жизнь, убивали легавого и нельзя было доискаться, кто убил. Нашему брату здесь погибельно. Это я выскочил!
Не знаю, впрочем, долго бы еще продолжалось это мое удивительное положение? В конце концов, мог возникнуть ропот, почему я выделен в барины, могла возникнуть зависть – это ведь неизбежно при приближении к высшим сферам. А на воле разве не так?
Кончалась зима, был, по моим расчетам, февраль, как вдруг меня вызвали на допрос, а я уже как-то свыкся с мыслью, что обо мне забыли. Оказывается, не забыли, а потеряли.
Я сидел в каменной каморке у следователя, постарше годами и званием моего голубоглазого, и он мне сказал без обиняков:
– Знаете, в некоторой спешке при эвакуации не обошлось без накладок. Многих подследственных смешали с осужденными. Вот и вас мы не сразу нашли. Вы очутились в камере уголовных. Но сами понимаете – война.
Он говорил вежливо и доброжелательно, но я уже не верил ничему, ожидая подвоха. Однако начало было мирным и как будто не предвещало угроз.
– Вам выдадут книги, – сказал он. – Библиотека тут плохая, но все-таки… А от себя могу предложить вот это. – Он подал небольшой, в мягком переплете, русско-английский словарь. – Может, заинтересуетесь изучать.
– А в каком состоянии мое дело? – спросил я.
– Дело? – Он посмотрел на меня, немного подумал и ответил. – Мне кажется, оно в благоприятных обстоятельствах. – И с этими словами протянул мне знакомую, все такую же тоненькую папку.
– Ознакомьтесь и распишитесь.
Что же там оказалось, в этой папке? Ордер на арест, подписанный прокурором, рядом с его подписью закорючка Петра Андреевича Павленко. Затем шли бумажки – ходатайства голубоглазого о необходимости продления следствия с соответствующими положительными санкциями. Этих бумажек накопилось много. И, наконец, я прочитал довольно длинную «экспертизу» Всеволода Вишневского, в которой была охарактеризована моя деятельность, главным образом на кинофабрике Госкино («Мосфильме»), где я допускал на художественном совете антисоветские высказывания и препятствовал прохождению подлинно революционных произведений. В частности, он указывал на то, что именно по моему настоянию был отвергнут сценарий «Мы – русский народ». Написанное, заявлял я, еще не сценарий, а бесформенная патетика. Мое же творчество (это слово было взято в кавычки) представляет собой не более чем ловкое приспособленчество, скрывающее мое истинное лицо. Он приводил примеры, не припомню какие, из моих сценариев и моих выступлений. Многие строчки этой «экспертизы» были густо подчеркнуты красным и синим карандашами. Вслед за Вишневским неожиданно оказались показания Ильи Захаровича Трауберга, удивившие меня. Илью Трауберга, ленинградского кинорежиссера, вызвали в Москву и назначили начальником сценарного отдела нашей кинофабрики, там я с ним и познакомился. Он написал коротко, примерно так: «Знаю С. А. Ермолинского как высококвалифицированного сценариста, отличного работника и не сомневаюсь в его честности». Если припомнить те времена, то это был поступок на редкость благородный, причем поступок человека, никак не связанного со мной дружбой.
Перевернув последнюю страничку «дела», я с некоторым недоумением посмотрел на следователя.
– На предыдущих допросах, – сказал я, – моим следователем неоднократно упоминались свидетельства целого ряда лиц. Приводились слова, якобы сказанные мною, в которых я издевался над выборами в Советы («какие выборы, если один кандидат, бери и механически опускай бюллетень»); что известны мои ехидные насмешки над некоторыми деятелями искусства и литературы, которые готовы распластаться, лишь бы по головке погладили, Сталинскую премию выдали; что я глумился над произволом цензуры и т. д. и т. п. (Добавлю в скобках для читателей этих записок, что я мог высказывать подобные мысли и даже припомнить имена людей, которым или в присутствии которых высказывал их, но промолчу, потому что заодно с доносчиками легче легкого ошельмовать и безвинных людей. Закрываю скобки.) В Саратове же я подчеркивал другое. На каком основании, говорил я, мой московский следователь утверждал, что на квартире Булгакова происходили антисоветские сборища и я участвовал в них? У него, у следователя, грозился он, имеются показания моих близких друзей и друзей Булгакова, подтверждающие это. Где они?
Новый, саратовский следователь нахмурился. Однако же он и тут ответил мне без обиняков:
– Допускаю, что следствие располагало и такими показаниями, но не все показания, хотя и учитываются, прилагаются к делу.
– Понимаю. Тайные показания, – сказал я.
Он пропустил мимо ушей это мое замечание и сказал:
– А цензуры у нас нет. Это вы напрасно.
– Понимаю. А как насчет булгаковских сборищ?
– Это отпало, – чуть повысив голос, ответил он.
На этом разговор, скорее беседа, чем допрос, окончился. Но к уголовникам я уже не вернулся, я очутился в маленькой камере. Кроме меня там было еще трое: худой, изможденный, как оказалось позже литовец, он читал книгу, а на койке лежал мрачный черноволосый человек, не то еврей, не то армянин. Оба они хмуро, ничего не произнеся, посмотрели в мою сторону, а третий, помоложе их, белобрысый, сохранивший бодрость, тотчас накинулся на меня с расспросами, но сначала представился:
– Песочинский. Вы откуда?
Я отвечал кратко. Я научился относиться к людям с осторожностью, но зато он распахнулся сразу, со всей откровенностью:
– Это жаль, что вы не принесли никаких новостей. Нам известно, конечно, что немцы подбираются к Волге. Ничего в этом удивительного нет. Что уже давно произошла катастрофа, это только они не понимают.
Они – это, по Песочинскому, мы, русские, советские. Сокамерники – черноволосый и литовец – молчали. Должно быть, уже наслушались его речей, а кроме того, явно побаивались его; один читал, другой лежал, прикрывши глаза, лишь изредка приподнимал веки, желая рассмотреть меня.
– Бодрее, бодрее, господа, – говорил Песочинский. – Недолго осталось нам сидеть! – Он грыз сырую картофелину. – С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я их обвел вокруг пальца. Вот!
Сырая картофелина! Лучшее средство от цинги! А здесь, наверно, все болели цингой. Зубы у многих просто вынимались из десен. У меня были крепкие – они лишь пошатывались, правда, десны припухли и побелели, а на ногах появились нарывы. Сырая картофелина! Ее почему-то получал один Песочинский. Грыз ее и говорил:
– Надо уметь, а то сгниешь! Я не следователя, а врачиху охмурил. У вас, думаю, не получится. – Он произнес заборное слово из трех букв и плюхнулся на койку. – Ха! Врачиха раздела меня, увидела и… клянусь честью, если бы не вертухай за дверью, то…
Слушать это было противно. Все молчали. А он глядел в потолок и продолжал:
– Терпежу нет… Отсюда прямо махну в Москву… Немцы вмиг поставят Россию на ноги… Москва-а!.. Колокола!.. А ко мне буквально на карачках приползет одна известнейшая артистка императорского театра. (Он, подлец, назвал ее имя.) Они липнут ко мне…
– Замолчите, – сказал литовец.
– Ладно, ладно, – отмахнулся Песочинский, зевая. – Поспать, что ли?
Воцарилась тишина. Я тоже прилег, как и остальные. И здесь, в этой камере, бок о бок с этим циником, с этим хамом – не знаю, провокатором или фашистом? – в этом каменном мешке, я впервые услышал, как там, далеко, где-то на улице, солдатские голоса пели, и песня эта пронзила меня:
«Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война…»
Нестерпимо стало на сердце! Обида, нет, злоба обожгла меня! Почему я нахожусь здесь? Почему меня вырвали из жизни? Я не хочу! Я не могу! Хоть колотись головой! Хоть бейся о камни! Господи, что делать?..
О, с какой ненавистью я думал тогда о своих тюремщиках. Словами Данте мог бы выразить эту ненависть: «Мучители, в чьем сердце минул последний стыд и все осквернено, зачем ваш род еще с земли не сгинул». Они осквернили Россию еще до прихода гитлеровцев! Россия в огне, а я бессилен, руки мои скручены. Не это ли мой самый страшный адов круг?
Дверь приотворилась:
– На допрос!
Я вскочил, но вызывали не меня, а Песочинского. Он лениво поднялся и не спеша вышел.
– Его часто вызывают, – сказал черноволосый и сел. – А ведь правда, что подходят к Волге.
– С нами, с нами-то что будет? – сказал литовец и уставился на меня светлыми, странновато-неподвижными глазами, озерная, водянистая прозелень словно виделась в них. – А вы кто? Вы, вы, вы откуда?
– Московский, – ответил я.
– А!.. Так же вот, как и Осип Ефимович, – кивнул литовец на черноволосого. – А я из Каунаса. Вы бывали в Каунасе?
– Нет.
– Ах, какой там был музей Чюрлениса! – И вдруг неестественно оживился. – Вы слыхали про Чюрлениса?
– У меня была небольшая монография, еще в дореволюционном издании Кнебеля, с репродукциями.
– Но он был не только живописец! Он был композитор. И так же, как художник, ни на кого не похожий! Если бы вы послушали его симфоническую поэму о рождении янтаря!.. – И зашептал, зашептал: – Знаете ли вы, что такое наш литовский янтарь?
– Но если немцы подходят к Волге, – сказал Осип Ефимович, – то с нами надо же что-то делать?
– Да ведь тя-анется! – вдруг очнулся литовец. – Но ведь справедливость есть? Свет, свет впереди есть?
– Ой, что вы! Если не расстреляют, то закруглят, – возбужденно заговорил Осип Ефимович. – По-быстрому закруглят, оформят и в лагерь! В лагерь, в лагерь! – говорил и говорил он. – Только в какой, куда? – И повернулся ко мне: – Слушайте, а у вас в каком положении?
Я хотел было ответить, но ввели Песочинского, и Осип Ефимович приподнял палец, сделав чуть заметное движение губами, чтобы я примолк.
Песочинский вошел в камеру по-хозяйски, сгримасничав, оглядел нас, достал начатую пачку «Казбека», чиркнул спичкой и закурил.
– Ничего папиросочки, довоенные. Уловил момент и смахнул со стола следователя. Он не заметил. Но вы бы видели, как он суетится! Знает, собака, что скоро посадят его на кол, если не успеет смыться. Да я бы его самолично пристрелил, только б представился случай! Они еще узнают, что такое Песочинский! – Он пыхнул ароматным дымом в сторону литовца.
– Вы хам! – вдруг вздрогнул тот.
– Тихо, тихо, тихо, – остановил его Песочинский, однако же не без испуга.
Но литовец отвернулся от него и опять словно выключился из жизни. Осип Ефимович уткнулся в книгу.
Песочинский разлегся на койке и продолжал:
– Сейчас главное – выжить. Вали подписывай любое, что подсовывают. – Он взглянул на меня. – Не имеет никакого значения. И вывезти не успеют. Армия-то разваливается. Пора бы давно. Здесь, на Волге, всю эту красную сволочь окончательно придушат… Выжить, выжить, другой задачи нет! Здоровье сохранить! – Он головой показал на литовца и покрутил пальцем у виска. – Нет, теперь уж ждать недолго.
– Заткните рот, вы мешаете читать, – сказал Осип Ефимович.
– Конечно, вам-то все равно. Немцы вас повесят, с жидами у них разговор короткий.
– Я сказал, заткнитесь! – вскочил Осип Ефимович. – Я инженер, но не забывайте, я начинал грузчиком в Одесском порту!
– Ой, ой, как страшно. Извиняюсь за «жида». Это так – нервы. Хочу сказать, что, с другой стороны, и большевики стали понимать, что такое евреи. Так что у вас положение незавидное.
– Сейчас я вам в морду дам! – Лицо интеллигентного Осипа Ефимовича пошло пятнами.
– Успокойтесь, – отмахнулся Песочинский. – В драку я не полезу, карцер мне не нужен. И вам тоже, между прочим. Не те силенки, чтобы валяться на каменном полу и хлебать воду. А разговариваю я не с вами, а вот… – Он повернулся ко мне.
– Но у меня тоже нет ни малейшего желания разговаривать с вами, – сказал я.
– Боже ж мой, какие все замордованные, – продолжал как ни в чем не бывало Песочинский. – Внутри-то со мной согласны, а притворяются, даже тут, в тюрьме.
Он говорил, а все угрюмо молчали, и остановить его было нельзя. Я опять задавал себе вопрос: кто он? Подсадная утка, которая должна была «расколоть» нас, чтобы мы стали «послушными на следствии», или просто распоясавшийся человек, который безнаказанно вываливал наружу все свои внутренности, потому что был уверен, что война проиграна и он расцветет при немцах… Впрочем (замечу в скобках), я наблюдал, как после войны такие типы, как Песочинский, понемногу расцветали и в наших условиях, да еще как расцветали! Не знаю, что с ним произошло в дальнейшем, но тогда, в камере, слушать его бессовестные высказывания, длившиеся часами, было поистине невыносимо. Словно издеваясь над нами, он жрал свои картофелины, курил следовательские папиросы и от рассуждений на общественно-политические темы переходил к циничным рассказам.
Литовец оставался безучастным, чаще всего находясь в блаженном отупении. Осип Ефимович с трудом сдерживался и только поглядывал на меня и начинал тяжело дышать, словно его удушала астма. Да и я чувствовал, что еле сдерживаюсь. А он, обращаясь ко мне, говорил:
– Вот вы литератор, вам может быть интересно. Был такой писатель Булгаков, его сейчас мало кто помнит. Написал всего одну пьесочку – «Дни Турбиных», про белых офицеров, в свое время модную. Потом вскоре умер. Понимаете? Этот писатель абсолютно не чувствовал ни обстановки, ни будущего – все время пальцем в небо!..
И это тоже я должен был терпеть. Не вступать же с ним в разговор, не объяснять же мне ему, кто такой Булгаков и о чем роман «Мастер и Маргарита». Я терпел. На допрос никого не вызывали.
Пробыл я в этой камере недолго. Меня вызвали «с вещами». Все всполошились, как это обычно бывает в таких случаях. Куда выводят человека? На свободу? В лагерь? На расстрел?
Меня перевели в одиночку.
А это что означает? Неужели снова Лефортово? Человек в черном халате, похожий на могильщика, такой же, как на Лубянке, словно вывезенный оттуда, принес мне книги. Я выбрал «потолще». Это был том Шеллера-Михайлова – роман «Гнилые болота». Я читал про каких-то людей-нулей и людей-деспотов и про ловких дельцов, в которых автор изображал нигилистов. Когда мне надоедало читать, я раскрывал англо-русский словарик, подаренный следователем, и старался запоминать слова: проверял, могу ли запомнить, не потерял ли память… Я больше лежал, потому что очень ослаб. На ногах мокли цинготные нарывы. Я знаю, что такое одиночка. Все то же. Невозможно вычислить, сколько времени находишься в этом промозглом погребе, неотличимо сливаются дни с ночью. В камере круглосуточно полутемно. Окно густо замазано синей краской, днем светился уголочек окна, находящегося под потолком, – кусок стекла был выбит, а ночью загоралась желтоватая, слабого накала, лампочка. Глазок редко приоткрывался. За мной перестали наблюдать. Два раза в день мне всовывали баланду, в которой было подмешано нечто вроде какой-то крупы и плавали селедочные объедки. Пайка состояла из сырого, глинистого мякиша весом не более двухсот граммов, а если больше, то ненамного больше. На прогулку я не выходил: мне трудно было встать. Это было большой ошибкой: во что бы то ни стало нужно было выходить на эти десять минут… И казалось, что обо мне окончательно забыли, хотя вдруг стали выдавать три сырые картофелины, дополнительное питание, подобно тому, какое получал Песочинский. Значит, кто-то обо мне подумал. Мои силы решили поддержать. Но зачем? Да и много ли значили эти картофелины? Через дежурного надзирателя я послал несколько записок следователю с просьбой, чтобы он меня вызвал, но вот…
В тот знаменательный день ко мне в камеру, в краешек отбитого стекла, влетела синичка. По существующему суеверию – это не к добру. Однако я обрадовался живому существу, вдруг испуганно забившемуся рядом со мной. Синичка кружилась, кружилась, не находя выхода. Я смотрел на нее, замерев. И вот наконец она нашла чуть светлеющий уголочек в оконном стекле и выпорхнула на свободу. Я пожелал ей счастья и уткнулся в «Гнилые болота». А к вечеру меня вызвали «с вещами» – не к следователю, не в другую камеру, а к начальнику тюрьмы.
Там мне было зачитано постановление ОСО (Особого совещания), согласно которому я подлежал высылке на три года.
Я был ошеломлен. Хотел спросить, на каком основании, почему ссылка, но не успел слова вымолвить, как мне сказали:
– Обжалованию не подлежит.
В каком-то столбняке я выслушал это. Я не понимал тогда, что меня подвергли (по тем-то временам!) «легчайшему наказанию»! Могли влепить и пять, и десять лет, и не ссылки, а отправку в лагерь. И это тоже «не подлежало бы обжалованию». Думаю, со мной поступили так не потому, что не оказалось в моем «деле» никаких улик (подумаешь, улики, юридические обоснования – считались ли с ними тогда?), а потому что просто-напросто я не был нужен, от меня надо было отмахнуться. И все-таки просидел почти два года под следствием – не зря же? Все же в чем-то виноват, но можно и проявить «гуманность». В удостоверении, выданном мне вместо паспорта, было только сказано, что я, такой-то, «социально опасный», что подписью и печатью удостоверяется.
– Получай дорожный паек, и чтобы в двадцать четыре часа тебя не было в Саратове, – сказал мне человек, объявивший мне приговор ОСО.
– А куда я должен ехать? – наконец выдавил я.
– Поедешь в Кзыл-Орду, там тебе укажут место ссылки.
Я взял комок хлеба и селедку, положил в мешок, где находились две сорочки, кальсоны, носки, носовой платок, полотенце, словом, все мои вещи, прихваченные еще в Москве, а также русско-английский словарик, подаренный следователем, и вышел.
Ворота тюрьмы отворились передо мной: пожалуйста, ты на воле.
Я передвигался с трудом. Ноги едва держали меня. Куда я шел? Мне надобно было идти на вокзал, но в каком-то беспамятстве я шел куда-то напрямки. Улицы были пустынны, безлюдны. Я очутился на окраине города. Передо мной была черная, свинцовая Волга, противоположный берег терялся во тьме. Ни одного огонька не было вокруг. Темным-темно. Я продолжал идти, спотыкаясь, иногда падал. Я уже думал о тюрьме как о счастье, как о возможности лечь, забыться, заснуть, прошел какой-то мостик над канавой, зачем-то карабкался по небольшому всхолмью и затем остановился перед деревянным крыльцом. Идти дальше не хватало сил. Приподнявшись, я дотянулся до двери и постучал. Мне ответили не сразу. Дверь не отворилась, но женский голос испуганно спросил:
– Кто там?
– Пустите переночевать.
– Много вас тут шляется! Убирайся. А то позову мужа, он тебе покажет!
– Да ты не бойся. Посмотри на меня.
– Проходи, проходи откуда пришел.
– А мне некуда идти, некуда…
Голос мой был, очевидно, столь жалок и беспомощен, что дверь все же приотворилась. В тусклом свете, обозначившем образовавшуюся щель, я увидел женщину, стоявшую с кочергой наготове. Она только взглянула на меня и, не вымолвив ни слова, втащила меня в дом.
– Господи, – произнесла она. – Да кто же ты? Я судорожно поправил очки, они были целы, и пробормотал:
– Я… я… Я писателем был… Для кино сочинял…
– Писателем? – сказала она, не то недоумевая, не то угрожающе.
– Я из тюрьмы, – сказал я, пытаясь подняться.
– А! – сказала она.
И далее я ничего не помню.
Впоследствии мне вспомнилась эта сцена, когда я работал над сценарием «Саят-Нова». Вот так же, как я, приполз избитый Арутин, бродячий ашуг, к дому вдовы Mapo, и она, с опаской впуская его, спрашивала, кто он, а он отвечал: «Я – Саят-Нова, царь песнопений». «Тоже мне – царь! – вздыхала она. – Здорово тебя отделали, несчастный». И с трудом поднимала его, укладывая на свою вдовью постель и шепча молитвы.
Если вы читали «Саят-Нова», то вы поймете, что приключение, случившееся с моим романтическим героем, бродячим поэтом, весьма похоже на то, что произошло и со мной.
Я нашел приют у своей вдовы Mapo, то есть у Прасковьи Федоровны Новиковой, уже немолодой, рано состарившейся женщины, потерявшей на войне мужа и сына. Она жила одиноко, работала на оборонном заводе в Саратове и ухаживала за мной, совсем разболевшимся. У нее был скудный паек, кое-что ей удавалось раздобыть на базаре в обмен на сохранившиеся от мужа и сына вещи, и она, как могла, подкармливала меня. Но даже не то, что я обделяю ее, мучило меня. Я тревожился, что мое пребывание грозит ей серьезными неприятностями, ведь она укрывала «социально опасного» человека, которому предписано в двадцать четыре часа покинуть город. А время было грозное, немцы подвигались к Сталинграду. Плохо бы ей пришлось, если бы меня обнаружили в ее доме. Я постоянно твердил ей об этом, говорил, что уже здоров, что мне надо уходить.
– Ну куда ты такой пойдешь, Ермолов? – Она называла меня Ермоловым. – Лежи, – говорила она. – Вот привязался. Разве ты мне мешаешь? Мне даже с тобой весело. А сделать со мной – и что могут? Только лежи тихо.
Раненько утром она уходила на завод, замыкала дверь дома на наружный замок и возвращалась, когда уже темнело. Она, рассказывая мне новости, шустро и ловко, по-молодому, готовила ужин из того, что бог послал ей в этот день. Потом, подперев рукой щеку, смотрела на меня, как я ем, а я каждый раз стеснялся, отодвигал миску.
– Ой, хватит, уж до того сыт.
– А ты ешь! Тебе бы поболе надобно, исхудалый весь. А разве это пища? Невесть что, а не пища. Ешь, ешь, Ермолов! Ну и рассказывай про Москву. Про свои картины, которые, может, и я, случаем, видела. Кино-то снимать, поди, уж как интересно! Про артистов рассказывай! И про то, как писал! Ведь надо же – не просто писать, а для кино!..
А иногда сообщала:
– Сего дни отметили меня за ударный труд. Наградили овсянкой. С пол кило будет, ей-богу. Такую кашу сделаю из этого самого овса, какую до войны, может, и лошадям не давали.
И был в доме праздник, и на сердце было тепло от человеческой доброты. Эта женщина спасла меня.
Разумеется, в тех житейских условиях она и сама-то полуголодала, а тут еще накормить меня, беспайкового, и ухаживать за мной. Но вместе с тем вряд ли я ошибусь, если скажу, что наполнил ее трудные, одинокие будни оживляющим содержанием, ее неистраченная материнская энергия как бы нашла выход. После непосильной работы на заводе она спешила домой, озабоченная, раздобыв что-либо сверх скудного пайка, и появлялась, стараясь казаться неуставшей, даже веселой, с живостью орудовала у керосинки, рассказывала новости. Разговаривали мы шепотом, она понимала, что жилец я опасный, хотя если и заговаривал с ней об этом, то отфыркивалась: «Подумаешь, опасный! Да ну их! Что с меня взять, Ермолов, побойся бога!» Однако если вдруг постучится соседка (это бывало редко, потому что все поголовно были до темноты на работе), то она, хитрюще на меня поглядывая, отвечала расслабленным голосом: «Ой, Анютка! Да и не впущу даже! Усталая я. В смерть усталая. Лежу».








