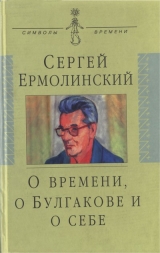
Текст книги "О времени, о Булгакове и о себе"
Автор книги: Сергей Ермолинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
А иногда бабий голос кричал ей:
– Э! Прасковья! Да ты не одна! Любовника завела на старости лет?
– А может, и любовника! – прыскала она. – Тебе-то что? Завидно?
И, веселясь, говорила мне:
– Вот в какое положение ты меня поставил, Ермолов. Пойдет теперь несусветная молва про меня. Ну, Ермолов. Дела!
Она закатывалась от смеха, а я хмурился:
– Смеешься? А если они меня заметили?
– Да ну их! Никто не заметил, – отмахивалась она.
Новости с фронта поступали грозные: немцы неудержимо подкатывались к Волге. В Саратове заблаговременно был введен комендантский час, и теперь по улицам начали ходить усиленные патрули, вылавливая всех мало-мальски подозрительных. Поэтому пребывание мое у Прасковьи Федоровны с каждым днем становилось рискованнее. И как только я стал передвигаться более-менее твердо и мои цинготные нарывы на ногах чуть подсохли, я сказал категорически:
– Завтра еду, Прасковья Федоровна.
– С чего это вздумал, Ермолов? Ты эк еще хилый.
– Надо, надо, Федоровна. Дело военно-ссылочное.
– А, наплюнь на них.
– Нет. Ни к чему мне беды ждать. Да и тебя подведу.
– Ну уж, обо мне-то и вовсе слов нет.
– Еду. Не держи.
Выстирала она мои московские сорочки, когда-то фасонистые, все мое исподнее, напекла невесть из чего лепешек, собрала крохи затвердевшего хлеба, которые сберегала, оказывается, потихоньку от меня, мне на дорогу, и сунула все это в мой мешок. Встали мы затемно, еще до того как ей надобно было идти на завод, и пошли на вокзал. Ковылял я с трудом. Она несла мой нетрудный мешок, поглядывала на меня, вздыхала:
– Ну с чего ты сорвался, Ермолов? Ведь еле ходишь!..
Улицы были почти совсем безлюдны, но зато вокзал кипел народом. Это бросалось в глаза уже при подходе к нему.
– Давай прощаться, Прасковья Федоровна. Дальше пойду один. Тебя там зазря затолкают, – сказал я.
Мы остановились. Она обняла меня, перекрестила.
– Спасибо тебе за все, – сказал я.
Она заплакала и еще, и еще перекрестила меня.
– Христос с тобой, Ермолов.
Уходя, оглянулся, она продолжала стоять, махала рукой, вся в слезах, как мать, провожавшая сына. Я тоже помахал ей, чувствуя, что в горле моем сжался комок, и вошел в толпу [89]89
Т. А. Луговская в комментариях к изданию книги 1990 года писала: «Отсутствие нормального паспорта у Ермолинского не давало нам возможности находиться вместе, поэтому каждое лето мы садились на волжский пароход, брали с собой работу и ехали до Астрахани и обратно. У нас две одноместные каюты и общая крыша над головой – счастье и свобода, в которые трудно поверить. Подъезжаем к Саратову, и вдруг Сергей Александрович очень твердо говорит мне: „Я выйду один“. Переполненная недоумением, остаюсь на пароходе. Стоянка недлительная. Первый звонок. Второй. Готовый к отплытию пароход начал дрожать (он колесный). С тревогой смотрю на пристань. Третий звонок. Среди редких людей показалась светлая голова Сергея Александровича. Стук в мою дверь. И вот рассказ Ермолинского: „Я решил попытаться найти Прасковью Федоровну. Постоял, подумал: в какую сторону идти? Кажется, река была слева? Пустое поле поднималось перед глазами то выше, то ниже – холмы. Ни дерева, ни строения. Время уже на исходе, мне нужно возвращаться на пароход. Вдали показалась фигура с громоздкой поклажей на плече. Она то исчезала в низине, то опять появлялась на холме. Уже ясно было видно, что идет женщина. Я остановился с надеждой спросить у нее, где же тут могут быть хибарки и куда они делись? Или я пошел в другую сторону? Приблизившись ко мне, женщина вдруг бросает поклажу на землю и с криком „Ермолов, жив?!“, начинает обнимать меня. Передо мной стояла сама Прасковья Федоровна. Все, что я успел, – это расцеловаться с ней и записать ее адрес“. Невероятно! В жизни такого не бывает! С этого времени в течение нескольких лет во взаимоотношения с Прасковьей Федоровной Новиковой вступила я. Пошли посылки из Москвы в ее адрес. А потом пришло печальное известие, что адресат выбыл. Смерть прервала эту связь с Прасковьей Федоровной, женщиной, спасшей жизнь Сергею Александровичу… Вот такой необыкновенный случай был с нами, когда мы в 1949 году плыли на колесном пароходе „Радищев“ в Астрахань».
[Закрыть].
Пробиться к кассе или тем паче к очереди, сгрудившейся у входа на посадку, не было никакой возможности, да мне и не надобно было. Я пробился к вокзальному уполномоченному НКВД. Глянув на мою бумажку, уполномоченный остолбенел. Да он бы на месте расстрелял опасную контру, если бы был вправе, или, во всяком случае, тотчас потащил бы меня в тюрягу, но я-то ведь был прямо оттуда. И он, потерши вспотевший лоб, гаркнул:
– Малофеев!
Тотчас появился человек в военном тулупчике и в фуражке с малиновым околышем.
– Проведешь этого, – уполномоченный ткнул в меня пальцем, – ну, вот этого прямо на перрон и посадишь в вагон. До Кзыл-Орды. И чтобы – по-тихому, слышишь!
Меня вывели служебным проходом. На перроне было пустынно, состав уже был подан, но посадка еще не началась. Малофеев подвел меня к купейному вагону и сказал проводнице:
– До Кзыл-Орды. И чтобы – по-тихому.
– Усаживайтесь в среднем купе, а то в крайнем задушат, – сказала проводница, обращаясь ко мне испуганно, как к наипривилегированному командировочному.
И вскоре начался штурм поезда полуобезумевшей толпой. Я сидел в углу, притаившись, а народ валил и валил.
КЗЫЛ-ОРДА
Этот город, в прошлом бывший кокандской крепостью Ак-Мечеть, разрушенной русскими при завоевании Туркестана, в советское время был переименован в Кзыл-Орду и стал столицей Казахской ССР. В 1928 году столицу новой республики перенесли в Алма-Ату, а Кзыл-Орда и поныне областной центр Южного Казахстана. Стоит он среди степей на правом берегу Сыр-Дарьи. Я побывал там однажды, путешествуя по Средней Азии известным сценаристом, и никак не предполагал, что попаду туда еще раз, но уже отверженным, ссыльным.
Поезд прибыл вечером. Тьмущая тьма упала на город сразу, и я брел по улице почти ощупью, боясь оступиться, дабы не попасть в арык или в рытвину. Идти по своему начальству, то есть в НКВД, было поздно, предстояло как-нибудь скоротать ночь. Я зашел в аптеку, присел на деревянную скамейку, словно бы ожидающий, когда изготовят мое лекарство. Было тепло и уютно. Хорошо бы так просидеть до утра. К прилавку еще подходили люди. Затем помещение опустело. Кассир закончил подсчет выручки за день. Сотрудники аптеки снимали халаты.
– А вы чего ждете, товарищ? – обратился ко мне один из них.
Слово «товарищ» приятно согрело меня.
– Я проездом, товарищ, – заволновался я. – Мой поезд не ранее утра, а на вокзале, сами понимаете… – И добавил, вдруг солгав из желания как можно лучше подать себя:
– Видите ли, меня вызывают в Ташкент, в военкомат.
– Да, но вот аптека закрывается…
– Ничего, ничего, я у вас немного передохнул, так что можно вернуться на вокзал, может, найду местечко, – заспешил я.
Выйдя из аптеки, остановился у крыльца в раздумье. Один за другим выходили служащие аптеки. Они оглядывались на меня. Я услышал, как кто-то сказал:
– Ох, боже мой, как из тюряги. Даже и таких стали призывать.
Когда они скрылись, я присел на ступеньку и задремал. Ночь была не очень холодная, но к утру я здорово промерз. Когда рассвело, я побрел по улице. У магазинов, где выдавался хлеб, уже выстраивались очереди, а затем стали появляться совслужащие с авоськами и портфелями, преимущественно женщины, торопившиеся на работу. Я спросил у одной из них:
– Не скажете ли вы мне, где находится НКВД?
Не знаю, вид ли у меня был пугающий или название учреждения испугало, но она торопливо ответила:
– Да вон там, видите, на той стороне.
Около двухэтажного здания похаживал часовой, и я пересек улицу. На всю жизнь сохранилось настороженно-боязливое отношение к такого рода учреждениям и к милиционерам. И к малиновым околышам заодно (я плохо разбираюсь в военных формах и отличиях).
Начальник в Кзыл-Орде, принявший меня, отнесся ко мне равнодушно. Должно быть, они тут еще и до войны привыкли к таким, как я. Он глянул на мою отвратительную бумажку, не удивился, потом оглядел меня и затем вышел в соседнюю комнату. Там поговорили шепотом, должно быть обо мне. Начальник вернулся и сказал:
– Да-а, доходяга ты. Ну ладно, в глушь я тебя не заткну. Направишься в Чиили. Это городочек в нескольких часах отсюдова. При железной дороге. Жить можно.
– Благодарю вас, товарищ. (Боже, мой, как я был унижен и жалок!)
– Я тебе не товарищ, – грубо оборвал он. – Вот тебе листок с квадратиками. Будешь отмечаться каждые десять дней, что не сбежал. И катись от нас без промедлений. Прицепишься к товарному или втиснешься в пассажирский. Но чтобы духа твоего здесь не было, чтобы завтра я тебя не видал, а то заткну.
ЧИИЛИ
Знаете ли вы, что такое Чиили?
Когда-то неприметная станция, мимо которой с минутной остановкой проходили поезда Москва – Ташкент и обратно, и было пустынно на ее железнодорожных путях. А в сорок втором и сорок третьем все эти пути были забиты до отказа. Сутками простаивали пассажирские («скорые» с международным коричневым посередине), эшелоны с ранеными, эшелоны с эвакуированными, товарный порожняк или с неспешным грузом, с недолгой задержкой пропускали воинские составы, из теплушек которых выглядывали безусые мальчики-солдаты и лейтенантики, наспех окончившие военные училища где-нибудь в Мары и направляемые прямо на фронт, и уж совсем без остановок проходили цистерны с нефтью, они шли и шли. То был тогда единственный путь для переброски нефти из Баку, через Каспий, Красноводск, Ташкент и далее по главной среднеазиатской магистрали в Россию, так что Чиили стали точечкой в этой цепи, и она должна была справиться с этим потоком, ибо, оборвись одна такая точечка, и вся цепь разорвется.
Таким образом, вокзал в Чиилях со всеми его железнодорожными службами был неотрывно связан с напряженным нервом всей страны. И только там, на вокзале, вечером и ночью зажигались электрические огни. А далее начинался городок, дома которого освещались керосиновыми коптилками, экономили энергию. Далее, за вокзалом, возникал быт, копошились люди, бившиеся за то, чтобы выжить, не умереть от холода и голода, сберечь детей, сохранить семью. Это были женщины. Мужчины находились на фронте, лишь небольшая часть их, железнодорожники, оставалась дома, да и то главным образом пожилые, старики да инвалиды…
Я приехал днем и, узнав, где находится эвакопункт, отправился туда. Там, как и в кзыл-ординском НКВД, не удивились моему «удостоверению», потому что в Чиилях кроме наплыва эвакуированных граждан было много высланных из-за немецкой фамилии. В эвакопункте мне дали ордер на жительство по улице Щорса, в доме некоей Ивановой, предупредив, что я могу рассчитывать лишь на угол, потому что гражданка Иванова уже «уплотнена». И я потащился на улицу Щорса. Было скользко. Чуть подтаяло, и снег смешался со скользкой глиной.
Меня встретила нестарая женщина, из-за спины которой с любопытством выглядывала девчонка лет двенадцати, а за ней – мальчуган.
– Ганя Иванова, – сказала женщина, протягивая мне руку лодочкой. – А это моя дочка Настька, а это мой младшенький – Витюшка. Значит, у вас ордер?
– Мне сказали, что вы уже уплотнены. Может, попросить другой? – сказал я, стесненный ее приветливостью.
– Ну, раз ордер! Теперь у нас все уплотнены. Боюсь только, неудобно вам будет. Заходите, заходите. Видите, у меня еще комната, наружный замок висит, будто уворую я, там у меня жилица из Киева, такая грымза, не приведи бог, на базаре своим барахлом торгует… ах, подумаешь, завидую, у нее этого барахла вагон, такие платья, кофты, бюстгальтеры разные… Так куда же вас дену? Вот разве что в этот закуток?
Правда, иначе не назовешь узкий угол, отделенный русской печью от комнаты, в которой жила Ганя с детьми.
– А мне больше и не надо, – сказал я.
– Скажите! Ну, конечно, такое время. – И засуетилась. – Столик у меня небольшой есть. Он сюда втиснется. Топчан притащу. А у вас что имеется? – спросила она, поглядев на мой мешочек. – Вещи на вокзале оставили?
– Да это все, – ответил я, слегка смутившись.
– Ну, так оно и легче по теперешним дорогам ездить, – ободрила она меня. – У меня сенничек найдется, набитый соломой. Солома умятая, так что спать вполне даже можно.
– Царское ложе, – сказал я.
– Это только грымза Галина Васильевна, вишь ты, будто на одних пуховичках привыкла. А ведь все врет, хвастается. Настька, помогай, чего стоишь?
Она рассказывала про свою эвакуированную, которая корчит из себя графиню, а на самом деле паразитка и потаскуха, думает, позарятся на ее поганое добро, это же как в лицо человеку плюнуть, и, рассказывая, втащила с помощью Насти и столик, и топчан, и сенник с соломой.
– А кто же вы сами будете? И откудова? – спросила она, чуть запыхавшись.
– Москвич я.
– Вон что, – чуть прихмурилась она.
– Как интересно, – сказала Настенька. – Москвичей тут у нас мало, почти совсем нет.
– Видите ли, Ганя, – произнес я затрудненно, боясь вспугнуть ее и испортить такие вдруг сразу наладившиеся отношения. – Ведь я, Ганя, не эвакуированный, я ссыльный.
– Проживал у меня еще до войны ссыльный, – понимающе закивала Ганя. – Ох, какой обходительный человек, а только его забрали, и пропал он невесть куда. А вы чем же до этого были?
Я назвался.
– О, так вы знаменитый были! – воскликнула она. – Да еще и в кино! Настька, слышишь?
– Никакой не знаменитый, – сказал я сердито. – Пустым делом занимался.
– Скажете! Смех, ей-богу. Грымза моя так и ахнет. А вы на нее ноль внимания.
– Конечно, – сказал я.
– Чего же мы стоим, – всполошилась Ганя. – Идемте ко мне. Настька, чайник подогрей. – И обернулась ко мне: – Только без сахара.
– Какой уж сахар, – сказал я весело.
– Да уж теперь так, – согласилась Ганя. – Хорошо, когда разживешься сушеной дыней.
– А у нас тыквенная каша осталась, – вдруг сказала Настенька и испуганно посмотрела на мать.
– Давай, давай, – обрадовалась Ганя.
– А у меня лепешки, – сказал я, извлекая из мешка три сохранившиеся лепешки. Одну вручил Гане, другую – Настеньке, а третью – Витюше. Ребята отгрызали кусок за куском с наслаждением, а Ганя откусывала стесненно.
– А себе не оставили? – спрашивала она.
– Да я наелся ими в дороге. А вот от каши не откажусь. – И подумал: «Уж то-то порадовалась бы моя Прасковья Федоровна, сколько радости доставила своими лепешками, не только мне одному».
Мы сидели у Гани в комнате, прихлебывали кипяточек, заваренный не пойму чем.
– Ох, в Москве-то, говорили, было до войны разливанное море, – вздыхала Ганя. – А у нас тут кое-как перебивались. Скажу, что с карточками даже как-то полегче стало, если бы не эти эвакуированные, которые вздули цены на базаре до невозможности. Ну, мне, конечно, особо нелегко было. Муж помер, еще когда Витюшка по полу ползал. Одна с двумя, сами понимаете. И затруднения с продуктами.
Мне было стыдно за «разливанное море», в каком я жил, хотя она отнюдь не в упрек мне говорила, а как о самом обыкновенном, и то, что я из Москвы, не унижало, а, пожалуй, даже украшало меня, не то что «грымзу» из Киева.
– А я видела Москву в кино! – восклицала Настенька. – И Красную площадь, и Кремль, и Сталина! Это не вы снимали?
– Нет. Я писал сценарии для художественных фильмов. «Танкер „Дербент“», «Дело Артамоновых», «Машенька». Впрочем, последнюю даже не посмотрел в готовом виде, меня забрали.
– Так ведь мы же видели! – вскричала Ганя. – Надо же!
– Видели, видели, – приговаривала Настенька, с восхищением глядя на меня.
Мне было очень неловко, даже нехорошо внутри, что эти мои ремесленные работы, как и другие сценарии, оказались тем, что составляет мое «лицо». Я не писал подхалимских подлостей, тем не менее вся работа моя в кино, как, впрочем, и всех, тем паче преуспевающих сценаристов, была в той или иной мере конъюнктурной поделкой, это неизбежно для самого важного, то есть массового, из искусств. Прошлое мое зияло для меня ужасающей пустотой, а мне приходилось, пряча стыд, отвечать на жаркие расспросы Настеньки, что я знаком с Марецкой, Жаровым, Любовью Орловой. Я боялся выглядеть хвастуном, но мне верили с восторгом. Я говорил правду, а чувствовал себя Хлестаковым, рассказывающим даже не о небывалом Санкт-Петербурге, а о мире примитивном, дешевом, картонном, и – что греха таить – именно это расположило ко мне и, увы, возвысило меня. Однако скажу без похвальбы, что, всеми способами преодолев мишурный блеск своего прошлого, приглушив его, я сдружился с семьей Гани искренне.
Но надо было не копаться в себе, а думать, как жить дальше. Не мог же я оказаться иждивенцем у этой труженицы, работавшей вокзальной уборщицей и выбивающейся из сил, чтобы прокормить себя и своих ребят! А у меня за душой ничего не было – ни денег, ни вещей. На работу меня никуда не возьмут, на это нельзя было рассчитывать. И первое, что я сделал, – отправился на базар.
Базар! Он был жизненным центром нашего городка! Великое торжище! Оно было спасением для приезжающих эвакуированных. Из окрестных, а то и более дальних колхозов привозили горы риса, сюка (пшена), сушеной дыни, мяса. С охотой торговля производилась не на деньги, а в обмен на городские вещи, и это как раз устраивало приезжих. Ганя правильно сказала: «Эвакуированные здорово вздули цены на рынке». Местным – не подступиться! Чего только ни оказалось в Чиилях: и крепдешины, и модные ботинки, и старинные вуали, и необыкновенное белье, и бритвы, и портреты Качалова, и разные соблазнительные финти-флюшки. Сперва колхозник был особенно падок на эти невиданные чудеса. Товар привозили самолично колхозные короли, председатели, знатные бригадиры, социалистические богатеи. В округе расположились рисовые плантации корейцев, задолго до войны выселенных сюда с Дальнего Востока и успевших создать крепкие колхозные хозяйства. Государство выжимало из них все соки, а все равно достаточно прикапливалось и для личной пользы. Словом, шумел наш базар! И как всегда бывает в годины народных бедствий, тотчас объявились умелые дельцы-спекулянты. Они наезжали из Ташкента и производили крупные закупки риса, а на рынке появлялся сахар, чай, канцелярский и иной городской товар. Заметьте, всегда (и до сих пор) мгновенно появляются оборотистые люди, которые наживаются при любом «дефиците», они тлетворной сетью пронизывают экономику страны, и обыватель хватается за них, как за спасение. Ну а в годы войны и говорить нечего! Образовывалась незримая цепочка вокруг тех, кто стоял у кормила заготовок и распределения. Вся эта страшная саранча, не слишком скрываясь, – от них зависели! – жила припеваючи. А кругом голодали, выбивались из сил… Ташкентские спекулянты, время от времени налетавшие на наше, в общем-то, скромное торжище, были общими врагами и местных, и эвакуированных. Тут население инстинктивно объединялось. Но тогда из глубин его стали возникать собственные дельцы. То был особый вид «просвещенного» хозяина и торгаша, борца за индивидуальную наживу, провозглашавшего будущее развитие России, которая после войны, по его мнению, в содружестве с союзниками Запада неизбежно встанет на капиталистический путь…
Впрочем, здесь не место рассуждать об этом. Я рассказал о таком человеке в своей повести о Чиилях («Джулекский гражданин и его душа»). Рассказал и о простых обитателях нашего городка, об их нищей, трудовой жизни. Написано было без прикрас, достоверно. Повесть под названием «Пещерный человек» напечатали в журнале «Наш современник» лишь в 1974 году, но и тогда ее встретили грубой бранью за то, что я осмелился принизить героические тыловые будни. Не увидели подвига в этих воспроизведенных мною буднях, не поняли гнева и боли, с которыми был написан образ идеолога-торгаша. В писании моем усмотрели не только мелкий обывательский угол зрения, но и клевету на Великую Отечественную, на энтузиазм ее тыла. Упоминаю об этой критике без всякого раздражения. Она действовала в нормах отпущенного ей казенного оптимизма, да и имя мое было еще одиозным.
Да, я начал свое ознакомление с Чиилями с базара, и это было правильно. Я увидел здесь «цвет общества», то есть всех, кто приходил сюда каждый день, как на службу, как в клуб. Бывший часовщик Меерович из Черкасс шел, еле передвигая ноги, полуслепой, обвешанный тряпьем и с круглым будильником на груди. Семейство Мнацакановых из Одессы (сам Аветис Мартынович интендантствовал на фронте с начала войны) вынесло белоснежные простыни, кружева и ленты. Айзик, фотограф из Гомеля, торговал старой обувью и галошами. Жена и сын военфельдшера Трофима Петровича Дробатенко тащили самовар. Семья архитектора Бандримера предлагала патефонные иголки, швейцарские виды в красках и детскую цинковую ванну. Колонисты из Одессщины Шмидт и Копф расположились с паяльником и на ходу чинили керосинки и примусы. Наконец, увидел я здесь и свою соседку Галину Васильевну, отрекомендованную мне Ганой Ивановой как грымза и воображала. Она вертляво похаживала меж мешков с рисом и грудами сушеной дыни, заплетенной в косу, предлагая крепдешинчики, пестрые шарфики и дамское исподнее. Все это было интересно, кое с кем я переговорил, и ведь это была жизнь, жизнь! Кроме того, я познакомился с очень старым зубным врачом из Полтавы Соломоном Лазаревичем, человеком нежнейшей и потрясенной души, который помог мне продать одну из сорочек, выстиранных и выглаженных Прасковьей Федоровной.
Получив деньги (по тем временам довольно много), я купил килограмм риса на первое обзаведение и с оставшимися деньгами выбрался из толкучки. По дороге меня обогнал целый ишачий караван, его возглавлял старик в казахском малахае, с выщипанной седой бороденкой. Позже я узнал, что это был сам Нуртазы Касымов, знаменитый звеньевой колхоза «Вперед», пожертвовавший 105 тысяч при сборе на сооружение славного бомбардировщика «Красный Казахстан». На ишачьих повозках, похожих на игрушечные, с колесиками от старых жнеек и веялок, была навалена груда вещей, среди которых виднелись цинковая ванна, граммофонная труба и какая-то картина в золоченой раме.
Я брел на вокзал, передвигаясь на неокрепших ногах, и обдумывал свое положение. Где моя жена, где Лена Булгакова, где мои друзья? Их всех, должно быть, развеяло по стране, когда немцы подходили к Москве. И обо мне никто ничего не знает, я исчез. Как подать о себе весть? Куда писать? Кому?
И тут мне пришла в голову счастливейшая мысль. В наклеенной на вокзале газете я вычитал, что Художественный театр эвакуирован в Куйбышев. МХАТ в Куйбышеве! Значит, и Немирович-Данченко в Куйбышеве! Правда, с ним я знаком весьма мало, но его ближайшая и энергичнейшая секретарша – Ольга Сергеевна Бокшанская – родная сестра Лены Булгаковой. Решено: трачу все оставшиеся деньги на телеграммы. Первую – Немировичу. Без сомнения, она попадет в руки Ольги и она тотчас сообщит обо мне Лене. Вторую направляю в Москву, в Управление по охране авторских прав, директором которого был Хесин, человек ко мне расположенный и обязательный. Эту телеграмму я послал «на авось», потому что, скорее всего, Хесина в Москве не было. В первой же – был уверен. Но телеграммы в то время шли долго, и мне надо было, не дожидаясь ответа, как-нибудь устроиться.
При содействии Гани мне удалось подрядиться к одной из местных хозяек расчистить колодец, затянутый кольцами льда, и прокопать в огороде арычки, стертые за зиму степными ветрами (к весне надобно готовиться заранее). Работа несложная, и я, попотев, с ней справился. За первым приглашением последовали и другие, хотя работник я был плохой. С тем, на что в умелых мужских руках ушло бы от силы полдня, я возился неделю. С трудом сбивал каменный лед, почти совсем закрывший отверстие колодца, а затем ковырялся в замерзшей земле, пробивая канавы у огорода. Но хозяйки были ко мне милостивы, не сердились на меня, а может, даже жалели. Я приходил рано, получал тарелку борща, наполненную до краев, а к вечеру, уходя, получал вторую, такую же. Лицо мое затвердело, задубилось, сморщилось от ветров, ибо огороды, как правило, выходили в степь, а оттуда задувал иногда нестерпимо резкий, не щадящий ветер.
Возвращался я усталый, волочил ноги, согнувшись, – до того замирала поясница, казалось, не выпрямиться, – а подходя к дому Гани, старался идти бодрее. Но она видела, что я измучен, и говорила:
– Ну, для вас ли эта работа? Прямо совестно смотреть. Хотите, чайку согрею?
– Спасибо, я и чайку попил, и поужинал. Нынче чудная хозяйка попалась.
– Скажете! А то лампу зажгу? Может, почитать хочете?
Лампу зажигали редко, керосин берегли, как редкую роскошь, и если зажигали, то ненадолго. Я отказывался и от чая, и от лампы. По правде сказать, не до чтения было: я заваливался в своем углу, за печкой. Но уснуть сразу не удавалось. Вечер был длинный-длинный. И тянулись мысли обо всем и ни о чем.
Раз в десять дней я приходил к оперуполномоченному. Он находился в одном из привокзальных флигелей, окна которого были зарешечены. Узкий и грязный коридор вел в его полутемный кабинет. Он сидел за столом с двумя телефонами. Он говорил то в одну трубку, то в другую.
– Да… Нет… А в этом я сам разберусь… А ты понимаешь, что за это по головке не погладят?.. Что? Засрали пути?.. Уйдет воинский, объявишь мобилизацию населения по расчистке. За антисанитарию ответишь со всей строгостью. Пока. – Положил трубку и посмотрел на меня. – Жив еще, контра?
Я протягивал свой листок, в одном из очередных квадратиков которого он ставил свою закорючку и прикладывал печать.
Я ненавидел этого человека со сросшимися, нависающими на глаза бровями. В нем как бы воплощалось все зло, направленное против меня, и каждый раз являлся к нему с нарастающим отвращением.
Однажды после короткой процедуры с печатью и подписью, сопровождаемой коротким замечанием «Жив еще, контра?», он вдруг задержал меня:
– Постой. Запрос тут насчет тебя.
Достал бумагу, прикрыв ее ладонью, чтобы я не подглядел, что там написано, и, пробежав ее сверху донизу, наконец прочитал:
– Вот. «В соответствии с изложенным и на основании указаний вышестоящих инстанций, предложить ему дать письменные показания о связях писателя Булгакова с власовцами. При наличии полезных сведений – вызов в Москву». Опер посмотрел на меня, ободряюще подмигнув:
– Понял?
– Понял.
– Садись пиши. За дачу неверных показаний по головке не погладят. Ответишь по всей строгости.
Я написал: «Вопрос о связях писателя Булгакова с власовцами считаю глупым, ибо власовцы появились в войну, а Булгаков скончался 10 марта 1940 года».
Опер исподлобья посмотрел на меня:
– Что это за ответ?
– А что?
– Убери слова «глупый вопрос».
– Не уберу, – сказал я, почувствовав, что злость сейчас так и хлынет из меня, но я сдержался.
– У, мразь, – произнес опер. – Тебя Советская власть, можно сказать, щадит, а ты…
– Больше вопросов не имеется? – как можно более спокойно спросил я.
– Можешь идти. А только дождешься – заткну в дыру.
Я ушел, понимая, что сказал он это не попусту, потому что здесь он полновластный надо мной хозяин. Но время шло, и пока что он мне не мстил, хотя в любой момент мог загнать куда-нибудь подальше, в глушь. С опаской я появлялся у него на отметку и выслушивал тот же равнодушно-брезгливый вопрос: «Жив еще, контра, паразит?!»
Паразит – это верно. Ковырялся в промерзших огородах за две тарелки борща – какая от меня еще польза? Спасал свою бессмысленную жизнь. Раздобыл ученическую тетрадку, намереваясь хоть записывать свои наблюдения, ведь как ни ничтожны Чиили, но и отсюда видна война, ее малые отсветы (и по-своему немаловажные), но и этого не успевал сделать: валился с ног, проработав весь день на промерзших огородах. Не мог выполнить даже этот долг свидетеля, литератора – что еще мог сделать, а обязан был сделать, коли забросили меня сюда, но не делал, строчки не написал… От этих язвящих меня мыслей уводили усталость, полудрема, сон. Я стал угрюм, мрачнел.
И вдруг – радость! Посылка от Лены из Ташкента! Мешочки, аккуратно сшитые «колбасками», в них были насыпаны крупа, сахар, чай, махорка, вложен кусочек сала, и все это завернуто в полосатенькую пижаму Булгакова, ту самую, в которой я ходил, ухаживая за ним, умирающим. И развеялось щемящее чувство одиночества, заброшенности, повеяло теплом, любовью, заботой, домом. Я возбужденно рассказывал Гане о Михаиле Афанасьевиче, о Лене, и она слушала меня, радуясь моему счастью, вздыхая и умиляясь.
Впоследствии я узнал, как сооружали эту посылку.
К Татьяне Александровне Луговской вбежала Лена (их поселили в одном дворе на улице Жуковского, 54, и они очень сдружились):
– Таня! Сергей нашелся!
– Какой Сергей?
– Ах, боже мой, я же вам рассказывала! Сергей! Ермолинский! Друг Миши. Оказывается, он где-то в Чиилях. Представляете? Как помочь? У меня ничего от пайка не осталось! Что делать?
– Сейчас раскулачим Цолю, – деловито отозвалась Таня.
Она знала обо мне лишь по рассказам Лены и не подозревала, что мы встретимся, когда я вернусь в Москву, и будем вместе навсегда. В Ташкент ее эвакуировали с братом Володей и разбитой параличом матерью, Ольгой Михайловной. А делами хозяйственными командовала Поля, эта уже состарившаяся женщина смолоду служила у Луговских, стала членом семьи, но лишь авторитет Ольги Михайловны был для нее незыблем. Тане и Володе (хотя его величала «хозяином») не доверяла – их легкомыслию и расточительности. Поэтому все, что получали в пайке или раздобывалось на рынке, припрятывалось ею, и она расчетливо распределяла продукты, они были под ее строгим учетом. О себе не заботилась – о них. В тот день она, к счастью, действовала на рынке, производя очередные операции, и Таня с отвагой забралась в ее закрома и, как преступница, извлекла все, что было нужно для моей посылки. И потом сидела и шила «колбаски», а я и не чувствовал, что «колбаски» эти делали руки, которые станут к концу моей жизни самыми родными…
Вот какая это была посылка! Кроме того, Лена сообщила мне, что студии «Мосфильм» и «Ленфильм» эвакуированы в Алма-Ату, а жена моя Марика, обучившись на курсах сестер, работает в военном госпитале.
Жизнь моя с Марикой, как выяснилось немного позже, разладилась [90]90
Марика (Мария) Артемьевна Чамишкиан-Ермолинская(род. 1904), первая жена Сергея Александровича.
Марика Артемьевна была родом из Тбилиси, где Булгаков и Белозерская и познакомились с ней в 1928 году. В надежде получить образование и работу она приехала в Москву и остановилась в доме Булгакова и Белозерской. Именно в этом доме Ермолинский сделал ей предложение. То обстоятельство, что Ермолинский в своей первой публикации 1966 года в журнале «Театр» только упомянул о Марике Артемьевне, первой жене, которая, как и он, была тесно связана с домом Булгаковых, вызвало резкое неприятие Л. Е. Белозерской и позволило поставить под сомнение достоверность «Записок» в целом. По всей видимости, Ермолинский, рассказывая о Булгакове, не считал необходимым посвящать читателей в подробности своей личной жизни. Полагаем, что в упреках Любови Евгеньевны сквозила ревность и обида: Ермолинский стал близким другом не только М. А. Булгакова, но и его жены Елены Сергеевны.
В результате с легкой руки Белозерской воспоминания Ермолинского стали восприниматься некоторыми булгаковедами как «недостоверные».
Посмеем утверждать, что Сергею Александровичу не в чем было себя упрекнуть. Их супружеская жизнь с Марикой Артемьевной была подвергнута серьезнейшему испытанию: 10 октября 1940 года Ермолинский был арестован, и их отношения надолго прервались. До 1943 года Ермолинский фактически исчез из жизни, о его местопребывании не знал никто из родных и знакомых.
В 1946–47 годах Ермолинский стал тайно (он был еще в ссылке) наезжать в Москву и пытался восстановить свою семейную жизнь, но, видимо, прежние отношения так и не наладились. В 1947 году он встретил Т. А. Луговскую и с этого времени его связи с Марикой Артемьевной фактически прекратились, но все годы, до самой своей смерти, Сергей Александрович помогал ей материально.
[Закрыть]. Но, избави бог, не надобно думать, что ее можно в чем-либо винить. Может быть, она мало любила меня или, может быть, любила, но не понимала, что возвращается к ней другой человек, совсем другой! Разве мы до этого плохо жили? Посчитать прошлое ошибкой? Нет, не нужно, неправда это, обидная для обоих. Но жизнь потребовала иных душевных усилий, и мы очутились уже на разных сторонах дороги. Впрочем, такое случается нередко, и для этого совсем не нужно быть в долгой разлуке. Часто люди живут вместе и продолжают жить, хотя живут уже отдельно друг от друга. Снаружи вроде бы ничего не произошло – счастливая, благополучная пара, – а оказывается, никакой близости давно нет, и произошло это незаметно. Боясь признаться в случившемся даже самим себе, примазывают трещинку, а она все расширяется и расширяется… А если разлука долгая-предолгая, может быть, вечная, а если испытания переворотили душу человека – что тогда? Кого винить?.. Преклоняюсь перед вами, верные жены! Верю в твердокаменные сердца мужей. Но беда-то приходит все-таки изнутри? Не надо никого винить.
Вскоре после Лениной посылки я получил письмо от Марики. Она писала, чтобы я не беспокоился о ней: устроилась хорошо, работает, даже почувствовала, что нашла свое призвание. Немного трудно было тотчас после того, когда я исчез. Она рассчитывала на «Машеньку», потому что сценарий утвердили наконец во всех инстанциях и мне причитались в окончательный расчет последние 25 %, но их ей не выдали. Эти деньги получил мой соавтор, которому пришлось одному, без меня, вносить все поправки. Кроме того, Марика писала, как много горечи пришлось ей испытать, когда она смотрела готовый фильм, а моей фамилии в титрах не было – только соавтора. И, наконец, вовсе ударило ее по сердцу, когда «Машенька» получила Сталинскую премию и я опять не был упомянут, опять один соавтор.
Я ответил Марике, что огорчения ее по поводу «Машеньки» напрасны, я напишу еще сто «Машенек» и въеду в Москву на победном коне. Именно так и написал, что «въеду на победном коне», но этот бравый (и глупый) тон был вызван отнюдь не самонадеянностью, а напротив, желанием скрыть свое постыдное бесправие. Оказывается, со мной можно делать все что угодно! Меня буквально поразило, что мой соавтор не только не помог моей жене, но «на законном основании» лишил ее возможности получить мой гонорар. Я уже не говорю о деньгах за Сталинскую премию. Хотя… позвольте, позвольте, ведь часть-то моей работы в картине осталась? Я не знаю, какая часть, велика ли, но она осталась? Не знаю, в каких размерах признавали ее, но даже в самой малой степени не могли не признавать! Впрочем, позже я узнал, что поправки по требованию Комитета были не столь значительны, сценарий подвергся изменениям главным образом в режиссерской разработке. Но не в этом дело и не в деньгах тоже! Моего имени нельзя было упоминать, я понимаю: я был под следствием. Но как мог человек, считавший меня своим другом, воспользоваться моей бедой и присвоить себе труд полностью, даже при любых оговорках, ему не принадлежащий? Нет, хуже, гораздо хуже! Как мог человек, считавший себя другом, не подумать о жене друга? Испугался? Или попросту, закрыв глаза, заткнув уши, решил нажиться на такой беде, какая случилась со мной? И это в то время, когда уже почти все понимали, что такое эта беда!.. Я думал об этом действительно в потрясении. Добро бы случайный соавтор, случайная совместная работа… Как стыдно! Как страшно!.. У меня заболело сердце. Не было нитроглицерина. Я лежал плашмя.








