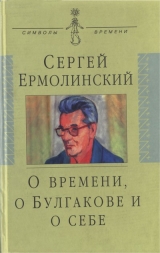
Текст книги "О времени, о Булгакове и о себе"
Автор книги: Сергей Ермолинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
В своей игре с людьми она была естественна – и в корысти, и в беспечности… В ней была легкость, которая омрачалась лишь настигавшей ее старостью. В минуты откровенности она жаловалась: «Если бы ты знал, как иногда трудно бывает утрами, не хочется вставать, болит поясница… Гадость…»
Но совершенно так же, как раньше, интересовалась нарядами. Это было ее постоянной страстью, не побоюсь сказать – творчеством. А теперь возможностей стало много, как никогда, потому что жизнь ее феерически изменилась. Булгаков, при всем его воображении, не возомнил бы, что может оказаться «золотым» автором и так одарит ее. Впрочем, по его же словам, «никто не знает своего будущего».
Она приходила к нам и, остановившись в передней, кричала: «Таня, где вы? Посмотрите мое новое пальто! Идите скорее, а то я еле стою на этих проклятых шпильках, кто их только выдумал?! Не могу, упаду!» Ей до крайности важен был суд моей жены. Она вообще любила поговорить с ней – с юморком – о модах и обо всем на свете. Но это обычно было вторым отделением программы ее визита. Повертевшись, как манекенщица, снимала пальто, бросала его роскошным жестом на пол и, сразу преобразившись, строгая и деловитая, появлялась у меня в кабинете. Новостей всегда было много. «Театральный роман» безусловно будет напечатан в «Новом мире». Заходил Александр Трифонович Твардовский и, смеясь, показал послесловие В. О. Топоркова. Звонили из «Прометея» с намерением опубликовать в ближайшем сборнике отрывки из древних глав «Мастера и Маргариты», скоро пришлют гранки. Несколько звонков было из «Москвы», тоже по поводу «Мастера»… Словом, хороших новостей через край, и Лена волновалась, решала, что делать, как поступить.
Нежданно-негаданно именно «Москва» заявила твердо, что будет печатать роман. Удар молнии! К ней пришел представитель редакции с договором!
– Печатаем. Имеем основание думать, что это реально. Здесь указаны условия, 300 рублей за лист – наш обычный гонорар. Прошу подписать.
– «Обычный гонорар»? – высокомерно подняв голову, произнесла она. – Михаилу Афанасьевичу? За «Мастера и Маргариту»? – И вдруг – как в полубреду – 400.
– К сожалению, я не уполномочен сказать, возможно ли это, – ответил представитель редакции. – Для этого понадобится особое разрешение.
Он ушел, и едва затворилась за ним дверь, как она метнулась за ним. Его уже не было. Он исчез. Господи, как же она так? Да ведь она даром, без всякого гонорара отдала бы этот роман, лишь бы напечатали! В любом журнале! Хоть в «Пожарном вестнике». И она примчалась ко мне.
– Бей меня, – говорила она, швырнув сумку и даже не раздевшись. – Дура, дура! Что я наделала! Знаю только одно, что наплевать на самолюбие и бежать, звонить, умолять, завтра же, только бы не раздумали!..
Но звонить не пришлось – позвонили из редакции и сказали, что на ее условия согласны. Роман впервые (с некоторыми купюрами) был напечатан (в «Москве» в № 11 за 1966 год и в № 1 за 1967-й), и успех его был подобен взрыву. Полностью его опубликовали в однотомнике («Художественная литература», 1973 г.), в который вошли «Белая гвардия», «Театральный роман» и «Мастер и Маргарита». Этой прекрасно изданной книги она уже не увидела…
Уже без нее я получил письмо из Киева. Мне написали, что в его родном городе начали реставрацию дома на Андреевском спуске, где жила когда-то семья Булгаковых («Дом Турбиных», куда стихийно тянутся, и не один уже год, толпы экскурсантов). Прошло еще немного времени, и весь Андреевский спуск преобразился. Все дома как будто родились заново, один краше другого. И во всей красе вновь воссияла церковь, построенная Растрелли! Впрочем, не следует преувеличивать. Делалось это в связи с подготовкой к празднованию 1500-летия Киева. Сообразили, что приедет множество зарубежных гостей и немалое количество их хлынет посмотреть на дом Булгакова. На доме была установлена мемориальная доска с барельефным портретом Миши и доска с указанием, что дом охраняется как памятник истории и культуры. Торжества в Киеве позволили вдруг осуществить все эти необыкновенные вещи! Но чудеса продолжались. Недавно я получил квитанцию киевской горсправки, присланную бескорыстными поклонниками Булгакова (а значит, моими друзьями), в которой сообщалось, что в районе Южной Борщаговки существует улица, названная его именем. Это новый жилой массив. Она проложена между улицей Семиренко и улицей Академика Королева, а проехать к ней можно на трамвае № 1 до конца и далее автобусом № 83. Там все еще перекопано, перевыворочено бульдозерами новостроек, но на углу уже имеется табличка: «Ул. Михаила Булгакова».
Я плохо знаю Киев и собрался было поехать, чтобы проверить, так ли это? Но вслед за тем меня уведомили, что эта новая улица названа не воображением поклонников, а постановлением Горисполкома с подписями и приложением печати за № 583 от 3 апреля 1981 года, то есть получилось, что как раз к 90-летию со дня его рождения. (Булгаков родился 14 мая 1891 года.) Фантастика?
Лена, помнишь, я рассказывал тебе сон? Мишу несут на руках как триумфатора, хотя он голый, в одной набедренной повязке, но лица у всех сияют от счастья. Я спросил у санитара: «Куда его несут?» – «Неужели не понимаешь? В Дом скорби». – «Я знаю, что это такое, но ему туда совсем не нужно. Он здоров». – «Он болен». Тут я вскрикиваю и ноги мои становятся каменными и прирастают к полу, как это бывает во сне. «Это ошибка! – вскрикиваю я. – Это опять, опять, опять ошибка!» – «Но-но, не болтать, – обрывают меня. – Он болен опасной болезнью. Не кипятись. Смотри, уже приближаются генералы, чинопочитаемые звездоносцы и лауреаты, в их руках испытанное лекарство». – «Какое лекарство?» – «Изволь, я не буду забивать тебе голову латинскими названиями и переведу по-русски: закруглять и не думать». – «Что-о? То есть, как это?» – «О боже мой, – раздается голос Главного санитара. – Ты, кажется, остался таким же дурачком, каким был». И все исчезает – я просыпаюсь в поту.
Ты помнишь, я рассказывал тебе об этом сне? Ты всегда серьезно относилась к снам, а тут, сердясь, сказала: «Плохо выдумал, видны белые швы сочинительства». Я никогда и ни на что не обижался на тебя, а теперь и подавно. Сочинительство, конечно, было, как всегда оно бывает, когда мы рассказываем сны. Но все равно, он был вещий, этот сон. Он говорил о том, как засуетятся вокруг Булгакова, как только он войдет в нашу литературу, – и придется выстроить стражу, чтобы не слишком много толковали о нем, начнут умалчивать, замалчивать, как это уже было, или приглаживать, «округлять»… Ах, многого ты не знаешь! А дело-то движется, вопреки всем «санитарам».
Наша комиссия добивается издания Полного собрания сочинений М. А. Булгакова, куда войдут все его сочинения – и те, которые не переиздавались с 1925 года, и те, которые не издавались никогда. Может, и вправду помогут «генералы», потому что предстоят немалые трудности. Планы издательств буквально забиты собраниями сочинений. Ведь нынче платят за них полным рублем, и кто только не лезет, не толкается, не работает локтями, как в метро в часы пик! Кого только не издают!.. И все же я убежден – пробьемся. Не уверен лишь в том, доживу ли сам до выхода первого тома?
«Друг мой милый, слышишь ли меня?..»
Урну ее захоронили на Новодевичьем кладбище, в его могиле. И теперь там выгравирована единая надпись:
писатель
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ
(1891–1940)
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА БУЛГАКОВА
(1892–1970)
Я служил ей всем, чем мог.
Мой неотягчающий долг.
1966–1981
ЧАСТЬ ВТОРАЯТЮРЬМА И ССЫЛКА
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
Борис Пастернак
В моих записках о Булгакове упомянуто, что, назначенный после его смерти в булгаковскую комиссию при Союзе писателей, я проявлял «излишнюю активность, пытаясь добиться опубликования его произведений, хотя бы пьес, и что это ни к чему хорошему не привело». Начальники, коим надлежало отвечать за мою рукопись, вычеркнули этот абзац, опасаясь, как бы читатель не догадался, что я был арестован. Что верно, то верно – читатель нынче догадлив. Тем не менее я обязан (и не намеком) рассказать о том, как узнал изнанку нашего существования, а вместе с этим раскрылась передо мной суть так называемого булгаковского дела, которого не было, но которое существовало, как существует до сих пор…
История беспощадна, сколько ее ни фальсифицируй. На глазах летят в бездну страшные кумиры на глиняных ногах, еще вчера обожествляемые. Избави бог, я всегда был далеко от них. Цари того времени еще царствовали, когда меня схватили за шиворот. Не сразу разобравшись, а лишь по ходу следствия, постепенно, я понял, что поступили со мной правильно: преступления не было, ни за какую веревочку не схватишься, но был – дух. Вот именно дух, и от него чадило неотвратимым возмездием…
Дом не может стоять на трех ногах. Не будь слепым! Молись о тайне истолкования. Это, кажется, сказал апостол Павел.
Тяжело писать о себе. Слова, ворочаясь, падают пудовыми гирями.
АРЕСТ
В начале октября 1940 года я стал замечать, что возле моего дома в Мансуровском переулке прохаживается парочка – чаще всего он и она. Иногда они заходили, словно прячась, и в наш дворик. Я решил, что идет слежка за каким-то домом по соседству. Волна арестов тридцать седьмого – тридцать девятого годов чуть схлынула, но в городе было тревожно и нехорошо. Почти совсем исчезли «черные вороны». Днем по городу катили фургоны с надписью «Хлеб», хотя вместо хлеба, рассказывали, под такой вывеской перевозили арестованных. Впрочем, слухов стало чуть поменьше и спать можно было чуть поспокойнее…
Странно, что я забыл точную дату. Кажется, 29 октября мы с женой провели вечер у Шапошниковых [87]87
Шапошников Борис Валентинович(1890–1956), художник, искусствовед.
[Закрыть], то есть по соседству, в Большом Левшинском. Возвращались около двух часов ночи. Парочка прогуливалась по другой стороне переулка, напротив нашего дома. «Гуляют, – сказал я, – и какой-то несчастный не подозревает, что вот уже месяц охотятся за ним». Эта картинка стала для нас привычной, и мы спокойно вошли в калитку. В голову не приходило, что этим несчастным был я.
Лишь только мы легли спать и погасили свет, как раздался резкий звонок и нетерпеливо забарабанили в дверь. И вот в нашу крохотную квартирку вдвинулись люди. У окон и двери тотчас встали конвойные, а человек в штатском пальто протянул мне бумагу: «Вы арестованы».
Позже я узнал, что ордер на мой арест был подписан вторым секретарем правления Союза писателей Петром Андреевичем Павленко [88]88
Павленко Петр Андреевич(1899–1951), советский писатель.
[Закрыть]. В те беззаконные времена почему-то соблюдалась формальность, по которой член ССП мог быть арестован только по ордеру, «завизированному» одним из секретарей Правления. А еще позже мне стало известно, что Фадеев отказался дать свою подпись, заявив, что он знает меня и ручается за мою политическую благонадежность. Представитель органов безопасности (тогда НКВД) отнюдь не настаивал, вежливо откланялся и, пройдя приемную, вошел в соседний кабинет второго секретаря. Там нужная подпись была им тотчас получена и таким образом формальности соблюдены.
Обыск у меня начали без промедлений. На мои вещи набросились сразу, как будто они могли исчезнуть, ускользнуть, раствориться в воздухе. Впоследствии я узнал, что обыск продолжался более суток. Ну еще бы! Это была поистине трудоемкая работа, потому что мой узкий, как пикап, кабинет был завален книгами и бумагами. Я видел лишь, как начали вываливать на пол книги, рукописи, бумаги, папки. Во время этого динамитного разгрома у меня пересохло во рту, захотелось пить, и я потянулся к графину, но тут же был остановлен человеком в штатском: «Нельзя». Я отдернул руку, как от электрического тока, и вдруг сразу почувствовал, что уже не принадлежу себе…..
Меня вывели из дома. Начинало светлеть. Запомнил розовеющее, предрассветное небо, свежий, пробирающий ознобом холодок. Я еще не понимал, что прощаюсь с прежней жизнью навсегда. У калитки ждала легковая машина, а не «черный ворон» и не фургон с надписью «Хлеб». «Везут, как важного преступника», – подумал я, усаживаясь сзади, а с двух сторон, зажав меня, уселись конвойные, два безусых розовощеких парня.
Улицы были пустынны. Обогнув Лубянскую площадь, мы свернули в переулок, и там огромные тяжелые ворота беззвучно открылись и впустили нас во двор внутренней тюрьмы. И Лубянка поглотила меня.
ПЕРВЫЕ ОШЕЛОМЛЕНИЯ
Остаток ночи и утро следующего дня я провел в «боксе», размером чуть больше кабины телефона-автомата, в котором можно было стоять или сидеть, поджав ноги. Окон не было, высоко наверху тлела лампочка слабого накала. Состояние у меня было шоковое, невозможно припомнить, сколько времени я там находился. Тут действовали, как я теперь понимаю, по одной и той же нехитрой, но хорошо отработанной системе. Выдержав положенное время, меня сразу провели в чей-то просторный ковровый кабинет. В его режуще-солнечном свете (я стоял против окон) передо мной возникли силуэты военных в энкаведистской форме, мне показалось, что их очень много, и все они почему-то, едва я вошел, стали громко кричать на меня. Они кричали негодующе, перебивая друг друга, словно нарочно создавая сутолоку из голосов, но из их крика я все же понял, что меня обвиняют в наглой пропаганде антисоветского, контрреволюционного, подосланного белоэмигрантской сволочью, так называемого писателя Михаила Булгакова, которого вовремя прибрала смерть. Как я ни был сбит с толку, но все же пытался объяснить, что ни я, ни Союз писателей не считаем Булгакова контрреволюционером и что, напротив, мне поручили привести в порядок его сочинения, имеется специальное постановление, и что я… Несвязные обрывки моих объяснений вызывали всеобщий хохот, меня тотчас прерывали и опять, словно состязаясь друг с другом, кричали, пока кто-то коротко не приказал: «Уведите его. Пусть подумает».
После этого безупречно разыгранного спектакля меня повели по коридору. Не помню подробностей. Я был оглушен. Лестничные проемы с висящими сетками (чтобы подследственные от отчаяния не кидались вниз). Этаж – один, другой, потом ступени – все темней и ниже. Полуподвал, наверно, или так показалось? Меня привезли в баню. Одежду отобрали, приказав: «Мойся». Сунули обмылок и кусок мочалки. Я стоял голый, в легком пару, ползущем как из преисподней. Очки с меня сняли. Я растерянно потер руки и помыл лицо, после чего меня вытолкали в предбанник и положили передо мной комок моего белья и смятый, как тряпка, костюм – то и другое горячее, только что вынутое из парилки. «Живей, возиться с тобой!» Ремня на брюках не оказалось, но тогда я еще не похудел и брюки не спадали. «Иди, иди, руки назад!» Очков не вернули. Я шел подслеповатый и словно бы очищенный от всех миазмов так называемой вольной жизни. Тут путь был короток, меня подняли на лифте, а затем я перешагнул железный порог контрольного пункта, и это была уже другая половина таинственного мира, шепотом произносимого – Лубянка, – ее внутренняя тюрьма. Я очутился в камере.
КТО ОНИ?
Не стоит удивляться тому, что я, погруженный в себя, все еще одурманенный, не разглядел ни одного лица, хотя все уставились на меня испытующе. Я стоял, без очков, беспомощно озираясь. Кто-то спросил, давно ли я с воли. Я ответил. Переглянулись. «За что же вас?» – «Должно быть, по недоразумению, сам не пойму». – «Понятно». – «Думаю, вот-вот вызовут, и все разъяснится». – «Безусловно». – «Да, конечно». – «А пока вызовут, ложитесь, вон там свободная койка». Я лег, чувствуя, что они продолжают рассматривать меня. Я не знал еще, что к каждому новенькому относились всегда подозрительно – не подсадная ли утка?
В этот день со мной больше не заговаривали. Я находился все в том же тяжелом полусне, а жизнь в камере текла в своем обычном однообразии. Кто-то играл в шахматы. Кто-то читал. Переговаривались шепотом.
Оживление возникло при раздаче обеда. «Сегодня овсянка!» – радостно возвестил кто-то. Из рук в руки передавали миски. «Садитесь», – пригласили и меня. Все уселись за стол и не спеша, расчетливо обедали, и я поковырял ложкой свою кашу и отодвинул тарелку. «Сперва всегда так бывает, но это скоро пройдет, – произнес старик, обросший седой щетиной, и суетливо добавил: – Но ежели вы не будете, то я воспользуюсь?» «Пожалуйста», – сказал я, и тонкие, артистические руки быстро придвинули к себе мою миску. «Быстрота и натиск», – сказал кто-то с усмешкой, но, пожалуй, с некоторой долей зависти. «Опыт», – прогнусавил чей-то голос. Старик, выскребав ложкой кашу, вылизывал мою миску, и все смотрели на него.
К вечеру, когда уже улеглись спать, громыхнула дверь. Тотчас испуганно приподнялись головы. «На букву Е? – шепотом произнес надзиратель. – Имя? Отчество?»
Все успокоились – на допрос вызывали меня, сердце мое колотилось.
Коридор. Железная дверь, проходной пункт. Коридор. Лифт. Тишина. Коридоры, коридоры. Меня привели к следователю.
ПЕРВЫЙ ДОПРОС
Я сразу узнал его. Им оказался тот самый человек в штатском, который присутствовал при моем аресте и обыске. Теперь он был в форме (на петличках два кубика). Розовенький, чистенький, носик редисочкой, коротко подстриженный лейтенантик смотрел на меня голубыми бусинками глаз вполне дружелюбно и показался мне сперва даже симпатичным. Он указал мне на стул поодаль от себя, у стены. Перелистывая бумаги в папке, он сказал, что я, без сомнения, нисколько не удивлен своим арестом. Взволновавшись, я возразил, что, напротив, до крайности удивлен и ровным счетом не понимаю, почему это могло произойти? Не обратив на мои слова никакого внимания, он, словно бы подавив вздох, сказал ровным голосом, без каких-либо интонаций, что моя жизнь и деятельность давно хорошо известны и от меня, в сущности, потребуются лишь кое-какие уточнения. «Какие уточнения?!» «Не нужно повышать голоса, – сказал он. – Извольте, для ясности изложу вам, в чем именно вы обвинены». Обвинен? Даже не обвиняюсь, а уже обвинен?! «У нас зря не арестовывают, – разъяснил мне следователь. – Те, кто предположительно обвиняется, еще ходят по улицам, вон за этим окном. Ну а вы…» Я слушал его с изумлением. По его словам, получалось, что вскрыты мои давнишние шпионские связи с Японией, а мое знакомство с представителем итальянской фирмы «Фиат» стало носить столь откровенный характер, что проследить за ним не представляло трудности. Странное знакомство с господином Пиччином, не правда ли? Поездки за город, регулярные встречи… Да и вообще, среда, в которой вы предпочитали вращаться, как на подбор, сборище антисоветски настроенной московской интеллигенции…
– Позвольте, почему вы мои встречи с друзьями называете сборищем? – спросил я.
Он не ответил и опять лишь вздохнул, а далее наш разговор продолжался примерно так:
– Вам знакомо имя Лямина Николая Николаевича? – спросил он.
– Да, конечно. Он дружил с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым.
– Булгаков меня не интересует. О покойниках не говорят дурно, – строго перебил меня следователь. – Ну а что вы скажете о Николае Николаевиче?
– Я знал его мало. В начале тридцатых он был арестован и выслан.
– Ах вот как! – изумился следователь. – И где же он теперь?
– Не знаю. Кажется, умер. – Понятно. Вы, если не ошибаюсь, проживали в Мансуровском переулке, дом номер девять, принадлежащем Сергею Сергеевичу Топленинову?
– Да. Вы же у меня были. Сергей Сергеевич – художник…
– Его, кажется, тоже высылали?
– Да, он был некоторое время в ссылке, но это до моего переезда в его дом.
– Ну и как он теперь себя чувствует?
– Хорошо. Он один из лучших макетчиков, выполняет заказы для Большого театра и для Художественного.
– Надо полагать, что он в связи с этим работает и по эскизам художника Дмитриева?
– Да. А что?
– Прекрасный художник Владимир Владимирович. Он живет в Ленинграде, насколько мне известно, но у него неприятность – арестовали жену. Вету… забыл отчество… Впрочем, это, надеюсь, не отразится на его работе?
– Недавно он награжден орденом «Знак Почета», – хмуро сказал я.
– Да-да. А профессора Каптерева вы знаете?
– Нет.
– Но как же так! Бываете в доме композитора Сергея Никифоровича Василенко и историка литературы Сергея Константиновича Шамбинаго…
– Я у него учился.
– Но его дочь Татьяна Сергеевна была замужем за профессором Каптеревым, а Каптерев досрочно освобожден из лагеря в связи с важным открытием в области вечной мерзлоты, хотя он, кажется, психиатр по специальности, и он уже в Москве.
– Дело в том, – сказал я, еще более хмурясь, – что Татьяна Сергеевна разошлась с Каптеревым.
– Не из-за Владимира ли Николаевича Долгорукого, бывшего князя, даже, так сказать, великого князя?
– Не знаю.
– Ах, Сергей Александрович, будто бы? Ведь он живет в Померанцевом переулке, в доме доктора медицины Василия Дмитриевича Шервинского, у которого снимают квартиру ваши друзья Леонтьевы и Арндты, а также и Владимир Николаевич. Он, кажется, литераторствует под фамилией Владимиров?
– Да.
– Прекрасный человек Владимир Николаевич Долгорукий! Однако что это мы пустились в семейные истории? А как с японцами?
– С какими японцами?
– Сергей Александрович! Помилуйте! Неужто вы забыли, что учились в Институте востоковедения на японском отделении и жили в общежитии бывшего Лазаревского института и там с вами находились японцы.
– Не японцы, а корейцы. Правда, один из них был из Токио, окончил Токийский университет, а другой – поэт.
– Поэт? Как интересно!
– Дело в том, – неизвестно почему заволновался я, – Институт востоковедения назывался тогда Институтом живых восточных языков, и там обучались мы, русские, разным языкам – арабскому, китайскому, персидскому, я – японскому, а вместе с нами учились студенты из стран Востока, у которых была другая программа, и они проходили курс русского языка. Затем из этого института образовалось два вуза – Институт востоковедения и Институт народов Востока.
– Нас такие подробности не интересуют. А как в дальнейшем развернулись ваши дружеские связи с корейцами японского происхождения?
– Никак не развернулись. Я получил комнату, уехал из общежития, институт не окончил, продолжая заниматься лишь в университете на факультете общественных наук. Я филолог.
– Филолог. Понятно. А японцы куда делись?
– Но ведь это было в начале двадцатых годов. Я давно потерял их из виду и не знаю, где они теперь.
– Значит, так: переключились на итальянцев?
– Переключился? Почему – переключился?
– Я говорю о вашей дружбе с представителем итальянской автомобильной фирмы «Фиат» господином Антонио Пиччином.
– Дружбы никакой не было и нет. Господин Пиччин женился на давней подруге моей жены, и я посчитал неприличным оборвать знакомство, как будто у нас боятся встречаться с иностранцами.
– Да-да… Смотря с какими иностранцами…
– Но в данном случае мое знакомство с Пиччином носило чисто формальный характер. Я могу дать объяснение и рассказать о всех встречах…
– Не торопитесь. У нас будет достаточно времени поговорить обо всем подробно. Подпишите протокол.
С этими словами он предложил мне подойти к столу и протянул листок.
– Вот тут подпишите. И вот тут. Очень хорошо. Советуем вам серьезно подумать о своем положении.
– О каком положении?!
– Тише. – Он посмотрел на меня, и я увидел его голубые бусинки: в них не было ни раздражения, ни гнева. Он механически выполнял то, что было ему предписано.
– А ведь вы нервничаете, – вдруг с удовольствием произнес он и вызвал конвойного.
МЕНЯ ОФОРМЛЯЮТ
Я шел по коридору, и на душе становилось все беспокойнее, как будто меня опутывали какой-то паутиной, неизвестно зачем и неизвестно почему. Казалось, так просто ответить на все вопросы, но я словно бы уперся в стену, попал в ловушку. Я тогда еще ничего не понимал. А меня вели коридорами, за которыми была каменная тишина, и привели не в камеру, а к парикмахеру.
Заспанный человек в черном халате посадил меня на стул и, вооружившись машинкой, прорезал мои волосы нулевой полосой. «Позвольте, я не осужденный, я под следствием». – «Помалкивай!» И машинка неровными полосами оголила мою голову.
Затем я очутился у фотографа. Меня сняли в профиль и в фас (как преступника), а после фотографа (и еще не опомнившегося) втолкнули в помещение, освещенное яркой настольной лампой. За столом сидел человек в очках, с совиными глазами, крючконосый. Без лишних слов он стал прикладывать кончики моих пальцев к мастике и оставлять следы от них на белом листе. Профессор этой черной магии действовал быстро, оборвав мой протест на полуслове: «Живей, возишься тут с вами с утра до ночи». У меня взяли отпечатки пальцев и увели.
БУДНИ В КАМЕРЕ НА ЛУБЯНКЕ
Я вернулся, когда все спали. Никто не шевельнулся. Наверху горела одинокая яркая лампочка. Дверь захлопнулась за мной. Затем тотчас открылся глазок в двери: надзиратель удостоверился, что в камере продолжается спокойный сон и руки у всех аккуратно выложены поверх одеяла. Глазок закрылся, и тогда головы спящих арестантов приподнялись. Они посмотрели на меня. Мой преображенный вид никого не удивил. Кто-то проворчал: «Любят они проделывать все ночами. Ночные крысы». «Тсс, – отозвался кто-то. – Не хватает еще в карцер угодить». Затихли. Головы опустились на подушки.
Мне не спалось. Звездочка на потолке расплывалась, и затем угарное забытье постепенно овладело мною. Может быть, в этом полузабытьи я простонал. Старик, доедавший мою кашу, неслышно соскользнул со своей постели и подсел ко мне. Его тонкие, сухие пальцы тронули мой лоб.
– У вас жар, это бывает, – произнес он шепотом. – Это нервное. Он был с вами груб?
– Напротив, очень вежлив.
– А!.. – понимающе кивнул головой старик.
– Завтра он меня вызовет и я потребую объяснений, почему меня постригли, словно я уже осужден. Взяли отпечатки пальцев. Фотографировали…
– Завтра он вас не вызовет.
– То есть, как это?
– Примерно с недельку он продержит вас без вызова. Тсс!
Как зверь чует опасность, так этот старик угадывал приближение надзирателя к нашей двери. Он был уже в постели, когда на несколько секунд приоткрылся глазок. Затем шаги стали удаляться, и мы продолжили разговор.
– Никак не пойму, что происходит, – зашептал я, свесившись со своей койки, чтобы быть поближе к старику.
– Вижу, вернее, чувствую, что накручивают вокруг меня какое-то дело, а его и в помине нет.
– Может, есть, а может, нет, не в этом суть. С преступниками просто. Поймал – и разматывай веревочку. А что делать с такими, как я или, должно быть, вы?
– А ничего с нами не надо делать.
– Э нет. Сейчас не тридцать седьмой. Начинается новое. Только-только начинается.
– Что – начинается?
– Политические нашлепки – это по инерции. А главное – в уловлении духа. Нежелательного, необъяснимо настораживающего, то есть чуждого, понимаете? Его инстинктивное, мистическое уловление, но все той же, отметьте, государственной машиной.
– Но ведь это же абсурд, чертовщина какая-то!
– Не абсурд, но согласен – чертовщина. В широком охвате она еще далеко впереди. И уж тут – у кого как. Мимо одного проехало, на другого наехало. Считайте, что вам не повезло и вы попали под машину, точнее – в машину. А раз так, то она начнет перемалывать и переламывать. В этом случае, поверьте мне, у вас одна задача – скользить, скользить не сопротивляясь, чтобы не попасть под ее зубья, иначе вас разорвет в клочья.
– Бог знает, что вы говорите, – прошептал я, и словно ком сжал мое горло.
– Я об этом не сразу догадался. – Шелестящий голос старика дрогнул. – Да, не сразу. Вот и пришлось очень много и абсолютно бессмысленно перетерпеть. По глупости, по глупости… понимаете, по глупости!..
– Так что же, по-вашему, надо делать?
– Не сопротивляться. Вы в машине, – глухо отозвался старик.
– Извините, но я в эту мистическую машину не верю. – Ладно, мы еще поговорим. Спите. Тсс! Тсс!
Шаги. Глазок. Тишина.
И вдруг я заснул. И тогда впервые приснились мне сказочные Чарусы. Такого места нет на земле, и название это тоже приснилось мне в ту первую ночь. Река. Катер, которым я командую. Праздничные гости, которых я приглашаю на прогулку. И тихий шум мотора. Раздольная река. Непонятно, почему все это? Почему такой сон? Но он не раз потом возвращался ко мне, лишь только я засыпал. Не могу восстановить в памяти имен своих сокамерников, я забыл их, а этот сон помню. Должно быть, из-за его полнейшей несовпадаемости с тем, что меня окружало, с теми тревогами, которые нарастали у меня с каждым днем…
Впрочем, старика я запомнил. Пеструю смесь людей, просуществовавших со мной в разных камерах, почти всех забыл, а его запомнил. Его звали Николай Петрович Киселев. Его имя мне показалось знакомым, а позже я убедился, что это тот самый Н. П. Киселев, о котором упоминает Андрей Белый в своих мемуарах, книголюб, собиратель книг, специалист по романтикам и по трубадурам, весь, по выражению Белого, «экс-либрис», утонченный знаток древних ритуалов, истории тайных, мистических обществ! Бог мой! Начало века! Целая полоса бурлящей, путаной-перепутанной жизни московских интеллектуалов! Разумеется, разговаривать с ним было интересно, и это отвлекало меня от неотвязных мыслей о своей судьбе.
– Белый вспоминает обо мне, что был я высок, худокровен, – рассказывал мне старик. – Пенсне на черной ленточке – представляете? – тощие усики, туго накрахмаленный высокий воротник и лицо серпиком. Вот какой я был, оказывается! – Он засмеялся. – Он еще говорил, что был я сухарь доскональный, но таил в себе взрывы страстей! Кто бы мог подумать про эти взрывы, когда я служил в Румянцевской, нет, простите, в Ленинской библиотеке… Я служил там до ареста. Именно так: сухарь доскональный. Обломок каких-то умерших культур…
Шлидни. На допрос меня не вызывали. Мой старик уверял меня, что все идет нормально – обычный банальный прием следователя. Надо терпеть и ждать. И опять, уже не в первый раз, развивал передо мной свою любимую теорию об «уловлении духа». Он внедрял в меня мысль, что процесс этот неостановим и в конце концов проникнет во все поры нашей жизни. Он рассуждал как человек постигший все закономерности происходящего и посему успокоившийся, но глаза его были тревожны. Он говорил, словно ломая какие-то душившие его преграды. Я подсмотрел это уже после первого нашего ночного разговора. Помню, как, едва он замолк, я тут же буквально провалился в сон, очень измученный за день. Меня закружили дивные чарусские видения. Помню, проснулся внезапно, будто меня подтолкнули изнутри, и сразу в мое сердце остро ударило: я в тюрьме! Чуть брезжил свет из-под опущенного козырька над зарешеченным окном. Нельзя было не ощутить надышанный смрад от мертвенно спящих людей. Я затравленно оглядывался и тут увидел моего мистического старика. Он не спал и, лежа на спине и закрыв лицо руками, буззвучно плакал. Я тотчас отвернулся к стене, чтобы не мешать ему…








