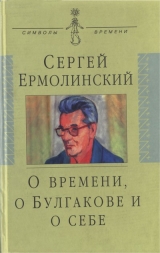
Текст книги "О времени, о Булгакове и о себе"
Автор книги: Сергей Ермолинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Ты что мараешь?
– Вы неправильно записали мой ответ, я исправил.
Он смотрел на меня, и губы его раздраженно дергались. Далее я зачеркнул «сообщенники», написал сверху: «друзья».
– Что значит – друзья?
– Друзья – это друзья. Единомышленники.
– То есть сообщенники. Единомышленники или сообщенники – разве не одно и то же?
– Нет, разница.
– Никакой разницы! – вспылил он.
Но я написал: «единомышленники». И пододвинул к нему листок. Он взял его с отвращением. У меня была совсем ясная голова, я был напряжен.
– Ну, сволочь, – сказал он, – за ложные показания тебе вкатят дополнительно.
– Дайте мне листок бумаги, – вместо ответа попросил я.
– Зачем?
– Хочу написать жалобу.
– Кому?
– Наркому.
– Валяй, валяй! – Он оторвал узкую полоску бумаги. – Валяй, хоть через голову наркома прямо самому товарищу Сталину!
Сунул мне оторванный клочок и огрызок карандаша. Я писал этим карандашом мелко-мелко, чтобы уместить слова, выражающие гневный протест за вымогательство признаний в не совершенных мною преступлениях, пытку бессонницей и безобразное обращение следователя, переходящее всякие границы.
Он внимательно вчитывался в мои строки, шевеля губами, и ротик его складывался в трубочку.
– Ну вот, – сказал он, – еще один антисоветский документик. Можешь быть спокоен, я передам его прямо в руки тому, кому надо.
Он вызвал конвойного и отправил меня в камеру. В ту ночь я спал несоизмеримо больше, чем за все предыдущее время, и встал бодрее. У меня даже появился аппетит. И не покидало невесть откуда возникшее ощущение, что я нанес сокрушительный удар по противнику, отбил атаку. За лучик воображаемой надежды хватается человек как утопающий за соломинку. Я прикидывал в уме и то, и это, и по моим расчетам выходило, что он не должен был меня вызывать сегодня. Привыкаешь ко всему. Я научился, сидя на кругляшке, незаметно вздремнуть и вовремя, лишь приоткрывался глазок, успевал шевельнуть головой. Словом, без обычных страданий я провел этот день, и, едва опустилась койка, я поаккуратнее разложил одеяло, накрылся пальто, приготовившись заснуть. Но мне не спалось. Может быть, я отвык спать? Я ворочался, и тревога нарастала во мне. Я спал и вроде бы не спал. Притихли таинственные моторы. Оказывается, я привык и к ним, без них мне стало невмоготу. Что со мной происходит? Не схожу ли я с ума? Спать, спать! Чувствовал, как бьется, колотится мой пульс: вена на руке. Я живой. Я сплю. Я слышу, как ржаво открывается дверь. Я еще лежу, и то, что происходит, – сон. Во сне: «На допрос!» Нет, не во сне. Меня трясут за плечи: «На допрос!» Все тело мое болит, как после переломов, но я встаю. Я иду.
Голубоглазый сидит, залитый лунным светом. Он мне снится. Нет, он – наяву. Он подходит ко мне и говорит:
– Документик твой прочитали. Получай ответ. И бьет меня кулаком по лицу, по зубам. Я падаю и теряю сознание. Могу вспомнить только, как меня волокли по коридору и я рукавом вытирал окровавленный рот.
Я лежал на дощатой койке и видел лишь желтую точечку лампы – высоко, в черной бездне потолка. Вокруг меня были стены, стены. Крикнуть – и никто не отзовется. Никто никогда не узнает, что со мной. Безответен мой крик. Я бессилен.
«И смертный пот… о, боже мой!
Ему ничем нельзя помочь,
С ним не обменится судьбой
Ни брат его, ни сын, ни дочь…»
Это строчки из «Большого завещания» Франсуа Вийона. Теперь я их забыл и с трудом разыскал в «Аполлоне», они, оказывается, переведены Н. Гумилевым еще в 1913 году. А тогда, в Лефортове, помнил и твердил про себя с тупым отчаянием:
«Лечу, глотая воздух, вниз:
Желчь льется на сердце волной…»
Да, впереди меня ожидал ужас. Только ужас! И решение мое было мгновенно.
Я нащупал в кармане остренький, как лезвие, осколок стекла и, приподнявшись, прислушался. Я уже улавливал малейшее шевеление за дверью. Глазок щелкнул, закрылся, я хорошо слышал, как от моей камеры удалялись шаги. В то же мгновение я полоснул осколком по вене на левой руке. Кровь брызнула. Но они бдительны, чертовски бдительны! Ворвались тотчас. В неясном сознании я видел, как вокруг меня суетятся люди, мелькнул человек в белом халате. Мне туго перевязали руку повыше локтя, йодом смазали рану и наложили бинт на порванное место. Нет, рана была неглубока. Я слышал, как они говорили:
– В карцер бы его за это…
– Нельзя, загнется…
– Вам-то что, а мне отвечать?..
Впрочем, мне было все равно, о чем они говорили. Я тихо лежал. Койку в этот день оставили открытой… Языком я нащупал дыру вместо переднего зуба, но боли не было. «Хороший был зуб, но, наверно, ослаб от недоедания и не выдержал удара», – подумал я. Мое детство связано с ним. Ах, честолюбивое мальчишечье детство! Мои приятели, пошуровав во рту, склеивали слюну в комочек, как пульку, и выстреливали ею далеко-далеко, а мои плевки не долетали даже до ближайшего дерева. А хотелось быть первым. И я гвоздем проковырял дырочку между двумя передними зубами. И тогда мой выстрел достиг стены, угодив в ее самый дальний край. Никто не мог сравняться с моим рекордом. А я так и остался на всю жизнь с дырочкой на передних зубах, привык к ней. Теперь лишь намеком сохранилась только часть этой дырочки на правом зубе. Прощай, детство!.. И сны чарусские не возвращались ко мне, я лежал какой-то обессиленный, равнодушный ко всему, что будет происходить со мной дальше. Не прикидывал, не загадывал, мне было все равно… На следующее утро меня перевезли на Лубянку, во внутреннюю тюрьму.
ОДИН ПУНКТ, И ВСЕ ЯСНО
В сущности, только побывав в Лефортовской, можно было оценить образцовую внутреннюю тюрьму, поистине достойную великой державы! Можно было лежать на кровати хоть целый день, дремать, спать! Выдали очки. Можно было читать, предусмотрительно выбрав книгу потолще, чтобы хватило до следующего прихода человека в черном халате – библиотекаря. Наконец, можно было разговаривать. Играть в шахматы!.. Но почему меня вернули сюда, вот загадка! Неужели их напугала моя попытка самоубийства? Их, видавших не такие протесты подследственных. Мой поступок, наверно, выглядел по-детски. Нет, тут что-то таилось. Кому-то и зачем-то я был нужен. Кто-то и почему-то оберегал мою жизнь. Именно это тревожило меня.
На допрос не вызывали.
За это время я смог познакомиться со всеми сокамерниками, но рассказ о них завлек бы меня слишком далеко. В общем, приглядевшись, я понял, что история каждого очень схожа с теми, с кем я столкнулся в своей первой камере. По-видимому, это было так. Упомяну лишь об одном. Я впервые встретился с матерым лагерником. Его вызвали оттуда в связи с каким-то заварившимся делом для получения нужных следствию показаний. Об этом деле он не распространялся, а, чертыхаясь, рычал и отплевывался: «Надоели, мать их…»
Лагерь живо интересовал всех.
– Попадешь – увидишь, – говорил он, глядя исподлобья. – Вначале обязательно сунут на тяжелые работы. Коли надолго – не выжить. А выберешься – и ничего. Всяк скользит по-своему. Я вот фельдшером сделался. Это полегче, а то и вовсе хорошо. Спиртягу припрячешь, и – барин. Глядишь, самые наизверюги из уголовников, а то вертухаи и начальнички, что помельче, – все они у тебя в друзьях! Это вещь! Нет, ничего, жить можно.
Рассказывал вроде бы добродушно, но вид у него был волчий, злой. Лагерная куртка воняла на всю камеру, несмотря на то, что ее пережгли-перепалили в нашей парилке.
Когда врывались с очередным обыском, начинали шарить по кроватям, по всем углам, ощупывали нас и, наконец, приказывали спустить штаны и, заставив нагнуться, заглядывали в наши голые задницы, высматривая, не спрятана ли там иголка или еще что-либо неприметно опасное, листочек бумаги, записочка, – когда проделывали все это, старый лагерник кряхтел и отфыркивался:
– Тьфу, мать твою… Ты еще пальцем, пальцем ковырни…
Надзиратели терпели его матюшки. Они проявляли к нему, пожалуй, даже какое-то почтение, но совсем не потому, что был он когда-то известной фигурой в общественной и литературной жизни, а потому, что тертый калач. С таким не шути.
Его звали Илларион Вардин.
В первой половине двадцатых годов возглавлял группу напостовцев. Не следует смешивать их с налитпостовцами, сменившими их, тоже беззастенчивыми молодцами, не менее истово, но более опасно размахивающими лозунгами революционной пролетарской литературы. То был РАПП, организация, потерпевшая крушение в 32-м году, а напостовцы были разоблачены задолго до этого, как троцкисты.
Кроме того, Вардин еще до революции состоял в закавказской группе социал-демократов и столкнулся там с Кобой, Джугашвили, и относился к нему снисходительно, не признавал его авторитета. Таким образом, дело Вардина сразу стало безнадежным. Коба его запомнил. Вардин это понимал.
– А расстрелять как-то вдруг постеснялся, все-таки общая кавказская кровь, – говорил он с усмешкой.
Но и об этом не любил распространяться. Сидел в своем углу и угрюмо напевал бетховенского шарманщика: «Везде всегда, везде всегда и мой сурок со мною…»
Что он говорил следователю, можно себе представить: без сомнения, речь его изобиловала ругательствами. Он рвался назад в лагерь. То, что существовало вне лагеря, казалось ему мнимым и непрочным миром: трясиной, по которой ходят люди, как слепцы, не ведающие, где провалятся. В лагере, коли докопаешься до сути, хотя все по-волчьи жестоко, но прямо и очевидно.
Опять вроде бы добродушничал, а разговаривать с ним было неприятно. Постепенно все мои сокамерники стали его сторониться, страшась его. Он возник пугающим знаком их неизбежного будущего. А из угла его слышалось: «Везде всегда, везде всегда и мой сурок со мною…»
Но должен же был прийти конец моему ожиданию? Не выдержав, я попросил надзирателя выдать мне клочок бумаги, чтобы написать записку следователю. Меня ввели в кабину. «Хочу дать показания, прошу вызвать», – написал я. Ответа не последовало.
Меня вызвали лишь через несколько дней, как всегда – ночью.
Голубоглазый рассматривал меня с любопытством. Ведь мы после Лефортова с ним не виделись. Он молчал, а я стоял.
– А что мне с твоих показаний? – наконец сказал он грубовато и, тут же помягчев, распорядился: – Подойди и распишись, что читал. Снимаются с тебя по статье 58-й пункты – измена родине, шпионаж. Урок тебе: не путаться с иностранцами. В заблуждение вводишь, а потом тебя же и спасай, умник. Советская власть тебя поила, кормила, образование дала, в люди вывела. Учение свет, как говорил великий пролетарский писатель Максим Горький, а ты… Ну, ладно, сядь. Я тебе голову дурить не буду. Значит, кто в центре был?
– В каком центре? – раздраженно ответил я. – Говорили уже об этом.
– Говорили, да не договорили! – сияя, воскликнул он. – Ты вот написал, что показания у тебя есть, ну и давай. Да не пугайся. Что мне надо? Мне мало надо. – Он почесал нос, и пуговки его уставились на меня. («В простачка играет, – подумал я, – посмотрим, что из этого получится».)
В дверях появился уже знакомый мне полноватый человек в штатском, но в кабинет не вошел. Исчез незаметно, бесшумно прикрыв за собой дверь. Мне показалось, впрочем, что он успел подмигнуть следователю. Голубоглазый сказал:
– Ты ведь хорошо знал Булгакова?
– Он был моим другом. – Я напрягся, насторожился. Глаза наши схлестнулись.
– Это мы знаем, знаем, – замахал руками голубоглазый. – Значит, он был с тобой откровенен?
Я пожал плечами:
– Думаю, в той мере, какую допускал.
– Увиливаешь. Не знаю, чего боишься, – продолжал голубоглазый, напуская всю тонкость, на какую был способен, чтобы оправдать доверие начальства. – Но ведь в своих сочиненьицах он не мог выразить своих взглядов до конца?
– Он писал, что думал.
– Ой! Детский разговор! Естественно, он потихоньку подбирал единомышленников.
– Почему – потихоньку? У него собирались друзья, которые его любили и верили в его талант.
– Брось! Писатель он был никудышный, в этом преступления нет, не всем же дано, не Панферов он и не товарищ Всеволод Вишневский. А вот у себя дома нес антисоветчину и сбивал с толку честных советских людей. Мутил.
– Кого? Чем?
– Вот у меня сколько показаний! – Он стукнул по знакомой мне папочке. – Даже его вдова… как ее… – Для вящей убедительности не сразу вспомнил. – Да, Елена Сергеевна. Призналась. Пришлось все-таки ее арестовать, – добавил он печально, однако же искоса взглянул на меня.
– В таком случае, прошу дать мне очную ставку с ней.
– Вот чего захотел! Еще разок встретиться со своей поблядухой?
Краска бросилась мне в лицо:
– Прошу запротоколировать ваш вопрос в тех выражениях, в каких он был задан!
– Это мое личное мнение, и к делу оно не относится, – ответил он, сдерживаясь.
– Она арестована? – тихо спросил я.
– Не беспокойся, жива.
Он встал и походил по кабинету. Он держал себя в руках. Очевидно, так требовалось «по шпаргалке». С такой работой он, может быть, встречался впервые, но надобно было зарабатывать еще один кубик в петличку.
Остановился передо мной и, покачиваясь на носках, сказал:
– С гнилым либерализмом у нас давно покончено. Наш долг всеми революционными мерами оградить советских граждан от влияния чужих идеологий. Иначе это могло бы кончиться катастрофой для многих честных душ. А в доме Булгакова заваривалась вонючая контрреволюционная каша. Нам все известно.
Выговорив это залпом, как заученный урок, он снова сел за стол, заглянул в папочку, словно проверяя, все ли правильно сказал, и продолжал:
– Да, нам все известно. И подтверждается показаниями участников булгаковских сборищ. Тебе… – Он сделал длинную паузу, вглядываясь в меня («Вот он куда гнет», – подумал я, и все, что накипало во мне, постепенно успокаивалось, и это, скорее всего, не было предусмотрено «схемой следствия»).
Он повторил:
– Тебе, как лучшему другу, нужно толково, без длинных рассуждений и объективно изложить антисоветскую атмосферу в доме Булгакова, рассказать о сборищах, проходивших там. Можешь не называть имен, а вот высказывания его самого нас интересуют. – Он положил передо мной лист бумаги. – Или, может быть, тебе легче не писать, а отвечать на вопросы? Изволь, давай так, я согласен.
– Могу по-разному, но боюсь, что мои ответы вас не устроят, потому что в них не может быть ничего порочащего имя моего друга.
И вдруг все ясно стало в моей голове. Я понял, чего от меня добиваются. Все, происходившее раньше, было не более чем подготовка к этому. Теперь можно трезво разбираться в каждом его слове. И только бы не терять спокойствия.
– Не спеши, – говорил между тем мой голубоглазый, тоже овладевший своей новой ролью. – На тебе висит всего лишь один пункт – десятый. Антисоветская агитация. Разбираемся в этом. При товарище Берия у нас – все по закону. Мы не хотим губить человека, который еще может принести пользу своей любимой родине. Правильно говорю? Скажи мне, пожалуйста, что угрожает Булгакову, если ты напишешь то, о чем я говорил? – Он засмеялся. – Ну, допустим, немного преувеличишь. Ведь он умер. Ведь ему за это ничего не будет. А следствию ты поможешь уточнить ряд вещей…
– Каких вещей?
– Они не имеют никакого отношения к твоим друзьям. Ты никому не вредишь, а сам снимаешь с себя пункт «антисоветская агитация», ты чист, потому что осознал. И все.
Он весело посмотрел на меня и начал старательно что-то писать, не сомневаясь, что договорился со мной.
Так, так, – думал я. – Однако не хочет ли он сделать из меня доносчика? Впрочем, вряд ли даже решится впрямую предложить мне это. Все-таки он немного уже знает меня. Но почему он хочет, чтобы я очернил память Миши? Кому это надо? Вот загадка! Но ведь это кому-то надо? Булгаков! Какое неприятное имя! «Начинается уловление духа», – как говорил мне мой несчастный мистический старик. А может быть, не только «уловление», а трусливое желание оболгать загубленную жизнь писателя, если не удастся забыть ее? Конечно, я не предполагал тогда, что столкнусь с этим позже, уже в другое время и в других обстоятельствах, когда имя Миши возникнет, вырвется из небытия. Тогда не знали, будет ли это когда-нибудь, но на всякий случай плели клевету. Зачем – не знаю. Но как объяснить этому человечку с кубиками, что очернить память друга для меня – подлейшее из предательств? Имеет ли он представление о том, что такое дружба? Здесь одно мерило – цепляние за жизнь. Даруют жизнь – радуйся и ползи! О нет, это не так! Я богач! Рядом со мной сидел нищий. Я был жертвой, но обречен был не я, а он, крохотный палачик, случайный вершитель моей судьбы.
И я успокоился окончательно. Тень моего прекрасного друга стала моей защитой.
– Ну? – сказал он, закрывая ручку крышечкой. – Я все сам записал, как бы с твоих слов. Подписывай.
– Я ничего не подпишу и даже не буду читать.
Тут он взорвался. Он мог бы меня ударить, если бы не побоялся переступить разрешенные рамки. Но не смог удержаться от самого что ни на есть циничного многоточия, от которого даже уши старого лагерника покраснели бы. Он немного выхолостился этой ужасной бранью, помолчал чуть-чуть и сказал коротко:
– Пойдешь в камеру. И ничего хорошего не жди. Пеняй на себя.
Меня увели. Это было на рассвете. Кажется, уже наступила весна.
ИЮЛЬ 41-го
И все вокруг моего «дела» замерло, словно я перестал существовать. Теперь я уже не сомневался, что меня «выдерживали», доводили «до кондиции», чтобы окончательно сокрушить. И я приготовился к худшему. Но тут вмешались события исторические, и моя крохотная личность (и все, что окружало ее) отодвинулась на далекий, микроскопический план. Не обо мне думали.
Началось с того, что вернулся с допроса Вардин. Его вызывали часто, и, как всегда, он вернулся оживленный, угощал нас «Казбеком» (мы прекрасно понимали, откуда у него папиросы) и сообщил, что в кабинете следователя вновь появились плакаты антифашистских фильмов – «Профессор Мамлок» и «Болотные солдаты».
– Ну и что? – спросили мы, еще не разобравшись, почему это важно.
– Как – что? Значит, договорчик с Риббентропом – фьюить! Допрыгаемся до войны.
Старому лагернику было наплевать, что делается в нашем, по его мнению, потустороннем и призрачном мире, но он был серьезно озабочен своей судьбой: не застрять бы здесь, успеть выбраться к себе «домой», то есть в лагерь. Однако же и лагерь его беспокоил. Бури обезумевшего человечества не могут не отразиться и на мирном течении лагерной жизни, с которой он свыкся, как пес с собачьей будкой. Уцелеет ли его фельдшерство? А ну опять примут крутые меры?
– Мало, мало отгородили нас от ваших свистоплясок, – говорил Вардин, приходя в нервное возбуждение. – Как железным обручем связаны, а от вас добра не жди.
Он доедал дополнительную порцию каши, которая ему полагалась за хорошее поведение, мы курили его прекрасные папиросы. И чем больше он раздумывал, тем более мрачнел, расслабленно валился на постель, и слышалось: «Везде всегда, везде всегда и мой сурок со мною…» Он впал в угрюмство.
А через несколько дней в камере появился корпусный с подручными. Они стали замазывать окна густой синей краской. У нас стало совсем темно, круглосуточно горела лампочка.
Ночью гудели пролетавшие самолеты. И стало ясно, что началась война. Об этом нельзя было не догадаться, хотя мы ничего не знали, что делается за нашими стенами. Самолеты гудели еженощно, они летели низко, казалось, над нашей крышей, и слышались разрывы отдаленных бомб. Значит, война подступала чуть ли не к самой Москве? Значит – кто же?
– Риббентропчики, никто другой, – говорил Вардин, вещая из своего угла. – И они раздавят нас, как вошь.
Говорил ли он это со злорадством или с тревогой – не понять. Никого не вызывали на допрос, даже его. Но лифт то и дело останавливался на нашем этаже, и в коридоре слышалось какое-то многолюдное движение, отворялись соседние камеры. И вот однажды и в нашу камеру ввели целую группу странных людей. Им кинули на пол подстилки, подушки и одеяла (кроватей свободных не было), и в нашем помещении сразу стало тесно, душно и шумно.
То были люди в форме польских офицеров, среди них один штатский. Офицеры возбужденно говорили на своем языке, но нетрудно было понять, что их, разрозненную группу из армии Сикорского, арестовали, и велось следствие, что это за группа такая – может быть, шпионская, прогерманская. Ходили слухи, что какая-то часть поляков (кажется, генерала Андерса) ушла в Иран. Словом, прибывших к нам проверяли, но они горели пламенным возмущением. А штатский, уже пожилой человек, оказался графом Тышкевичем. Я так до конца и не понял, каким образом он оказался в России, хотя с ним мы сразу оживленно разговорились.
Граф Тышкевич. С детства знакомое имя! До войны 14-го года мой отец служил в Вильне. Летом снималась дача в Ландворове, первая станция по Петербург-Варшавской железной дороге. Там, в парке, на пригорке, над озером, в зелени возвышался дом («замок») графа. Парк был окружен оградой, а далее в лесу были раскиданы дачи, именуемые виллами (каждая имела название – вилла «Гражина», вилла «Морское око», вилла «Теннис» и т. п.). Их сдавали дачникам, с которыми имел дело управляющий графа пан Тадеуш, усатый поляк с военной выправкой. Мы имели право ходить в графский парк, кататься на лодке по озеру. Но я главным образом гонял по лесу от дачи к даче, изображая поезд, издавая гудки наподобие паровоза. По соседству жили друзья-мальчики. В «Морском оке» – семья Заянчковских – мои приятели Вадек, Лютик и их сестры Альдона, Сабина и прекрасная Зося, самая старшая, уже невеста, которая вызывала во мне первое тайное мальчишечье волнение плоти.
– Ах, вы жили в моем Ландворове! – восклицал граф. – Вы помните это райское место! А вы видели моих страшных бульдогов, с которыми иногда спускались к озеру слуги, держа их на поводке? Сам я чаще жил в Троках, это неподалеку от Ландворова. Великолепное шоссе, каких мало было в России! А озера! Какие озера!.. Матка боска, вы поступили в гимназию еще в Вильне?.. Что?.. В первой гимназии? Которая помещалась в здании старого университета, где учился Мицкевич?.. А Бернардинский костел? А Замковая гора! В полдень стреляла пушка… Да-да! И это помните? Вы знаете, Виктор-Эммануил, итальянский король, мой родственник, так я ему всегда говорил – приезжайте ко мне в Троки, в Ландворово. Это стоит Италии, или, скажете, я патриот? Пожалуйста, я признаю.
Граф был болтлив, не унывал и не сомневался, что дело его кончится благополучно, но когда его вызвали «с вещами», заволновался, пожимал мне руку и говорил:
– Запомните! Когда приедете в Рим, звоните прямо королю, вас примут там с распростертыми объятиями.
Нелепо звучало это приглашение, да и мысль сама нелепа – я в Риме, я звоню королю!
Графа увели. Я не знаю, что с ним стало. Много позже, приехав на несколько дней в Вильнюс, я, конечно, вспомнил о нем. Ландворово изменилось, Тракай был чудесен, но это была Литва, а не Польша. А распростертые объятия итальянского короля, которые обещал мне в застенках Лубянки веселый граф, только потом могли вызвать у меня запоздалый смех. Тогда это не воспринималось как комическое.
Тревожное ожидание владело нами, только оно. От поляков мы узнали, что немцы наступают стремительно, приближаются к Москве, и, как никогда раньше, чувствовали себя в клетке, бессильными узниками. Не знаю, как другие мои сокамерники, но я страдал, потому что я любил Россию, и невозможно было слушать, как Илларион Вардин говорил:
– Вот она, пресловутая мощь Сталина! Он думает сокрушить немцев тачанками Буденного! У него командуют Тимошенки. Тухачевского расстрелял! Лучших военных пересажал! Не успеет опомниться, как схватят его самого! Вождь мирового пролетариата! Низколобый злодей!
Меньше всего меня можно заподозрить в сталинизме, но слушать это было невмоготу.
Увели первую партию поляков, появились другие. Новостей с воли поступало все больше – противоречивых, тревожных. И уже почти каждую ночь слышен был гул низко пролетавших самолетов. В одну из таких ночей, когда никто не спал, все настороженно вслушивались, меня вызвали к следователю. Нет, это была не ночь, уже светало. Налет, очевидно, кончился, люди на воле, вероятно, смогли выбраться из бомбоубежищ, и я шел знакомыми, когда-то тишайшими коридорами, а теперь то и дело из дверей выбегали энкаведисты и исчезали в других дверях. Наш державный дворец пришел в суетливое движение, подобно муравейнику, в который ткнули палкой, и муравьи забегали, судорожно захлопотали, лишь только притаилось небо.
Я вошел в кабинет. У голубоглазого находилось трое. Мельком взглянув на меня, они вышли, прихватив пухлые папки, а голубоглазый, озабоченный и деловитый, коротко приказав мне сесть, сказал:
– Прочти и распишись.
Я прочитал протокол, в котором было сказано, что все мои бумаги, рукописи и письма уничтожены.
– Почему? – спросил я.
– Если уничтожены – значит, так надо. Значит, были причины, и я не собираюсь тебе их объяснять. Расписался?
И распорядился, чтобы меня вернули в камеру. Я шел и думал: «Они бегут, это – эвакуация!» Потом вспомнил, что же сожжено. Там были две мои ненапечатанные повести («Неосуществленный человек», «Игра в жмурки»), несколько рассказов, тоже неопубликованных, письма, среди них и от Булгакова. Странно, но я не испытывал никакой горечи, как будто все это уже давно принадлежало другому человеку – не мне, из другой, не принадлежащей мне жизни. Лишь впоследствии я пожалел главным образом о письмах и немного о «Неосуществленном человеке». Визит к следователю поразил меня сам по себе: я воочию убедился, что происходят события чрезвычайные, может быть, катастрофические, об этом думалось, а не о своих бумагах.
Побывав с полчаса вне камеры, я особенно ощутил ее духоту. На полу по-прежнему валялись люди. Каждый день уводили куда-то группами по нескольку человек. Одним из первых увели Вардина, потом – других, потом настала и моя очередь.
Я был втиснут в узкий отсек «черного ворона». Куда меня везли? Из другого отсека постучали, и голос спросил:
– Вы кто?
Я назвался.
А я Овалов. Писатель. Может быть, слышали про майора Пронина? Это я сочинил.
Слыхал. Не читал, но слыхал. Голос автора услышал из соседнего отсека, в «вороне», но его самого так и не видел. Нас вывели отдельно, незримо друг для друга.
ГДЕ Я?
Это были Бутырки, превращенные в пересыльный пункт. В огромном помещении кишел народ. Сюда сгоняли арестантов – осужденных и подследственных, в нервной спешке не разбираясь в них, не отделяя друг от друга. И воры, убийцы, казнокрады, и политические, и бывшие лагерники – все смешалось здесь. Мы еще на Лубянке чувствовали, что в тюрьме нашей лихорадочное смятение и спешка. А здесь все вылезло наружу. Ночью общее возбуждение достигало высшей точки: группами, не называя имен, случайным скопом, выводили из камеры куда-то.
– Здесь, на дворе, расстреливают, – шептали паникеры в тихом ужасе.
– Гонят в казармы и на фронт, в штрафные батальоны, – мечтательно шептали оптимисты. – А то, говорят, в ополчение. Рыть окопы. Под Москву.
Это был грозный октябрь 41-го года. Лишь потом мы поняли, что это такое, а тогда ни в чем толком не разбирались. Мы попали в штормовую стихию, едва управляемую, стали частью общего народного бедствия, но какой его частью – самой низменной, всеми проклятой, никому ненужной, легли камнем на шею страны и не менее тяжким – на свое собственное сердце… Вот и меня повели.
По глухим, без единого огонька, московским улицам тащилась группа арестантов, сопровождаемая конвоем с собаками. Шли тесно. Шаг в сторону – или выстрел, или растерзает овчарка. Небо было темное, беззвездное. Мы очутились где-то на окраине, у полотна железной дороги. На запасных путях, далеко от станционных построек, нас ожидал столыпинский вагон, прицепленный к какому-то товарному составу, и нас стали загонять в вагон. Мы его заполнили до отказа – стояли, и нельзя было шевельнуться. Прокричал маневровый, стукнули буфера и наш вагон двинулся.
Поверх голов, приподнявшись на цыпочки, сжатый со всех сторон, я видел зарешеченное окно, в нем промелькнули силуэты каких-то зданий, потом они исчезли, стало еще темнее, а затем чуть высветлило и вагон остановился. Вдруг вспыхнули огни, похожие на праздничный фейерверк, а в вагоне люди ни с того ни с сего задвигались, потекли. Общей волной вынесло и меня. Я очутился на воле. Поезд стоял недалеко от станции Перово. Передо мной открылась зловещая картина воздушного налета. Низко над нами с звеняще-грохочущим звуком пронесся пикирующий немецкий самолет. Небо прорезали белые щупальца прожекторов, скрещивая лучи во всех направлениях, вылавливая в небе вражеских бомбардировщиков. Они метались, как воронье, ускользая от этих лучей. Красные трассирующие пули возникали там и здесь, падали вниз зажигалки, где-то за станционным зданием взорвалась фугаска, а невдалеке от железнодорожных путей загорелся деревянный сарай, вспыхнул, сразу охваченный ярким пламенем. И вдруг услышался истерический женский крик: «Коль, Коль, в щель! Бежи в щель, Коль!» Нарастающий звук летящих стервятников заглушил этот вопль.
Мы стояли у вагона не двигаясь. Никого из наших конвойных не было. Все они бежали. И ни одного человека не было вокруг. Только мы – прибившиеся к арестантскому вагону, а над нами – адское небо. Никто и не думал шагнуть дальше. Бежать? Да ведь проще простого! Но куда? Каждый из нас понимал, что первый же патруль захватил бы любого из нас и расстрелял на месте. Никто не сомневался в этом. Удары зенитных орудий нарастали, и стервятники, взмывая в небо, рассыпались в разные стороны и уходили. Казалось, уже вся станция пылает. Зарево пожаров окружало нас… Светало. В наступившей тишине появились наконец перепуганные стражи, призванные нести бдительную охрану «врагов народа», и спешили к нашему вагону. Мы встретили их издевательским гоготом и, не ожидая окриков, сами полезли в вагон, спрессовываясь, нажимая друг на друга!
Далее потянулся долгий путь с длинными остановками вблизи станций, на боковых путях, никогда – на станциях. Мимо проходили встречные поезда, чаще всего воинские эшелоны и товарные с цистернами или обгонявшие нас пассажирские.
На остановках нам всовывали ведро с водой, которое с трудом проплывало над головами, задерживаясь, чтобы каждый мог глотнуть. Кроме воды нам полагалась ржавая рыба, сплошная соль, сухая. Почти на каждой станции конвойный кричал в вагон: – Трупы есть? И почти всегда из вагона выволакивали, откуда-то из черноты стоявших людей, мертвого человека и сбрасывали его вниз, на насыпь.
Ужасная вонь, духота, теснота одурманивали сознание. Наступало дремотное безразличие, только воду глотали жадно, однако же так, чтобы хватило всем. Кого только не было в этой темной, недвижной, слегка покачивающейся безликой человеческой массе.








