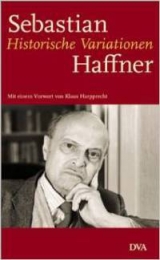
Текст книги "В тени истории (ЛП)"
Автор книги: Себастьян Хаффнер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
При этой первой и единственной наступательной акции парижан во время гражданской войны выяснилось, что Национальная Гвардия не была полевой армией. В своих собственных городских кварталах, где они знали каждый камень, среди своих семей и соседей, эта милиция горожан была действительной силой; они доказали это 18 марта. В открытом поле они были толпой растерявшихся людей. Это проявилось теперь при вылазке 3 и 4 апреля.
Ничего не было подготовлено, всё только импровизировалось, работы генерального штаба не было. Национальная Гвардия маршировала на Версаль без провианта, без палаток и материала для бивуаков, без санитаров, даже пушки были оставлены в Париже. Некий хроникёр нашёл, что колонны, маршировавшие посреди улицы, напоминали «более массу весёлых экскурсантов, которая отправляется на пикник, чем на нападающие войско, которое выступает в поход на страшную позицию».
Когда первые ядра пушек из Мон Валерьен врезались в тесно сомкнутые ряды, разразилась паника. Тем не менее в рукопашном бою вскоре после этого удаль была. В особенности браво сражалась самая южная из трёх колонн, под командованием отважного литейщика Эмиля Виктора Дюваля. Она заняла высоты Шатильона и часами удерживала их от неистовых контратак после морозной ночи с голодными желудками.
«Ни шагу назад!» – командовал Дюваль. Однако между тем войска Версаля обошли его слева и справа и окружили его войско. После последней отчаянной контратаки во вторник пополудни они вынуждены были сдаться. При этом версальцы впервые показали, как они предполагали вести эту войну. Их командующий, генерал Виной, остановил пленных: «Кто зачинщики?» Эмиль Виктор Дюваль и с ним два его командира батальона выступили вперед. «Расстрелять!» – приказал генерал Виной. Затем он приказал выхватить всех пленных, которые носили армейскую форму. Они также были расстреляны.
Национальная Гвардия потеряла ещё одного достойного восхищения вождя в этот день – Густава Флоренса, молодого предводителя снайперов из Беллевиля, командовавшего северной колонной и который также попал в плен. Когда он обратился к конному версальскому офицеру, чтобы выразить протест против жестокого обращения с его плененными людьми, тот вытащил свою саблю и страшным ударом рассёк череп безоружного Флоренса.
Возможно, что эти злодеяния были причиной того, что поражение не подействовало на парижан деморализующим образом. Ярость была сильнее разочарования. Национальная Гвардия потеряла тысячи своих лучших людей, но её воля к борьбе всё еще не была сломлена. Что было несколько подавлено на некоторое время – это самоуправство войск. Коммуна пыталась теперь взять в свои руки гражданскую милицию. Ещё вечером 3 апреля она назначила военного комиссара и дала ему полномочия реорганизовать Национальную Гвардию. Это был Густав Поль Клузере, который, как и его заместитель и позже его преемник Луи Россель, был кадровым офицером.
Клузере отличился во время Крымской войны, позже из–за дуэли был изгнан из армии, переселился в Америку и там в гражданской войне в армии Северных Штатов был произведен в генерал–майоры. В 1870 году во время войны против немцев его патриотизм привёл его обратно во Францию.
Россель, молодой человек, капитан в императорской армии, при капитуляции у Метца в октябре 1870 года авантюрным образом избежал немецкого пленения. В зимней войне он отличился в армиях Гамбетты и был произведен в полковники. 19 марта он написал письмо военному министру правительства Тьера: «Мой генерал, поскольку я сегодня из опубликованного в Версале сообщения сделал вывод, что в этой стране за власть борются две партии, то я не стал медлить с тем, чтобы присоединиться к той стороне, в рядах которой нет капитулировавших генералов».
Клузере и Россель были квалифицированными военными специалистами, но в Коммуне они были чуждым элементом, и всё время своего командования они вели нервирующую малую войну с Национальной Гвардией. Они горько жаловались на неразбериху и на «сварливые и ревнивые» комитеты, эти «дикие растения революции». Разумеется, при этом со своей точки зрения они были полностью правы, когда хотели навести порядок и из стада баранов сделать армию. Это был Сизифов труд; и можно лишь поражаться, что тем не менее они добились некоторого успеха.
Потому что он у них был. Успешная оборона Парижа на протяжении пяти–шести недель – это в основном их заслуга. Из отобранных частей они создали фронт и в кровопролитной войне на истощение остановили перед воротами города наступление версальцев, которое было развернуто в полную силу после 4 апреля.
Когда Россель 10 мая оставил свой пост – Клузере был смещён десятью днями ранее – версальцы едва ли продвинулись на шаг дальше. Конечно, лучшие части Национальной Гвардии при этом медленно теряли людей, а замены им не было. Действительный боевой состав Национальной Гвардии – номинально имевшей более трёхсот тысяч человек – 18 марта составлял около ста тысяч человек. К середине мая он сократился до примерно тридцати тысяч человек. Армия Версаля также сильно пострадала. Однако её потери могли быть возмещены; и как раз в эти дни она получила усиление, решившее исход войны.
Это усиление пришло из немецких лагерей военнопленных, где всё ещё сидела вся императорская армия, сведённая в батальоны и иногда даже в дивизии, отдохнувшая и полностью годная к применению – армия Седана и Метца, более трёхсот тысяч человек.
Сначала Бисмарк не был склонен принимать какую–либо сторону во французской гражданской войне. Развитие его мыслей можно точно проследить в речах канцлера в рейхстаге в апреле и в мае. Как и всегда, Бисмарк хладнокровно и реалистично думал о государственном благоразумии. То, что его «маленький друг Тьер» был ему симпатичнее, чем дикие люди Коммуны, для него не играло никакой роли. Он даже нашёл дружелюбные слова для Коммуны – в конце концов, у неё есть здоровое ядро, сказал он, а именно «немецкое городское устройство», то есть требование муниципального самоуправления.
Однако Бисмарк боялся, что борющиеся во Франции стороны снова объединятся против немцев и смогут возобновить войну, когда он Франции – совершенно всё равно, какой Франции – отдаст её армию. Ведь ещё не был заключён окончательный мир, и французские переговорщики всё ещё боролись за каждый клочок земли при окончательном определении границ и за каждый месяц отсрочки платежей по репарациям.
Немецким войскам, которые, как и прежде, всё еще оккупировали северные и восточные форты Парижа, было приказано держать строгий нейтралитет. Они пропускали также в Париж продукты питания, так что Коммуна не могла быть задушена голодом. Пленных Бисмарк освобождал сначала лишь по капле. Он даже упрекнул премьер–министра Тьера в том, что и так уже позволил тому собрать под Парижем гораздо больше войск, чем собственно позволял предварительный мир. Иногда, сказал Бисмарк, он взвешивал, не следует ли ему взять Париж в качестве залога – «либо силой, либо по соглашению с Коммуной».
Тьеру был известен этот ход мыслей – естественно, он читал речи Бисмарка в рейхстаге – и он принял своё решение. Тьер был хладнокровным, жёстким и, как это проявилось после его победы, жестоким человеком, и у него была отвратительная черта лицемерия. Но снова и снова следует поражаться настойчивости, с которой Тьер сделал необходимое в тот момент. Необходимым было теперь получить на свободу военнопленных, и для этого Тьеру пришлось во второй раз капитулировать перед Бисмарком. Он послал министра иностранных дел Фавра во Франкфурт с поручением принять все требования Бисмарка. 10 мая мир был подписан.
Тем самым обе стороны получили то, что они хотели. Уже во время переговоров во Франкфурте Бисмарк начал репатриацию военнопленных в больших масштабах, и 12 мая, через два дня после подписания мирного договора, он объявил перед рейхстагом: «В соответствии с военным положением дел нам следует надеяться, что борьба перед Парижем и в нём близится к своему завершению; и как только войска правительства одержат победу – для чего мы теперь, после подписания окончательного мира, услужливо обеспечили средство путём усиленного освобождения пленных – в течение тридцати дней будет произведён первый платёж в сумме пятисот миллионов франков».
Теперь армия устремилась дивизиями обратно во Францию – хорошо тренированные, первоклассные солдаты и офицеры, которые всей душой ненавидели парижскую чернь и горели желанием освежить военную славу, потерянную в войне – войной гражданской. Исход дела был предрешен. 20 мая Тьер располагал элитной армией в сто тридцать тысяч человек под командованием маршала Мак – Махона. На другой стороне ещё было тридцать тысяч измотанных в боях национальных гвардейцев без руководства.
Человек для крушения
У Коммуны не было вождя – ни Ленина, ни Мао Цзе–дуна, ни Хо Ши Мина. И теперь она не нашла никого. Но она теперь нашла впервые человека, в котором она персонифицировалась – человека, который достойно воплотил её крушение. Шарль Делеклюш 10 мая принял председательство в Комитете Общественного Спасения и сиротливую должность военного комиссара. Прежде он никогда не хотел принимать должности в Коммуне, поскольку был больным человеком, в возрасте шестидесяти двух лет гораздо старше, чем большинство его коллег, и вследствие тяжёлой судьбы постаревший сверх своих лет: сын революционера 1792 года и сам ветеран революций 1830 и 1848 гг. двадцать лет своей жизни он провел как политический заключённый на Чёртовом Острове.
Дела, которые сделали знаменательными несколько дней его «правления», были символическими поступками: была взорвана Вандомская колонна («этот монумент милитаризма и империализма») и был вновь введён революционный календарь 1792 года: май 1871 года превратился в Флореаль 79. Можно смеяться над этим. Однако смех пропадает, когда читаешь воззвание, которое Делеклюш велел расклеить по всему Парижу после выступления версальской армии. Он говорит с защитниками из глубины души, как никакой из здравомыслящих военных приказов его предшественников – и ему следовали буквально дословно:
«Горожане! Довольно милитаризма! Больше никаких обшитых золотыми галунами штабных офицеров! Место для народа, для борцов с голыми руками! Пробил час революционной войны! Народ ничего не знает о стратегических манёврах; но если у него есть ружьё в руке и под ногами его мостовая, то ему не страшны все стратеги монархической школы. К оружию, граждане, к оружию! Ваши депутаты будут, если это должно случиться, вместе с вами сражаться и умирать!»
Точно так это и произошло. И если против этого будет сказано, что такое воззвание уничтожает всю дисциплину и все шансы на упорядоченную оборону должны быть похоронены, то ответ будет таков, что таких шансов и без того больше не существовало. Коммуна более не могла побеждать. Она могла лишь героически погибнуть, в горящем Париже, в кровавую неделю перед Троицей 1871 года, сойти в небытие как на огромном, ею самой зажжённом погребальном костре.
Версальская армия с преобладающим перевесом в силе вступила в Париж в воскресенье 21 мая. Но потребовалась целая неделя, пока были побеждены «борцы с голыми руками», и там, где эти борцы вынуждены были отступать, знаменитые здания, которые они защищали, вспыхивали огнями пожара. Настоящего штурма Парижа вовсе не было. Войска Мак – Махона нашли брешь в давным–давно полностью разбитой огнем артиллерии западной городской стене не занятой, сочувствующий просто подал им знак входить через неё. Национальной Гвардии давно уже не хватало, чтобы занимать всю городскую стену, она понесла большие потери, солдаты едва ли более сменялись на постах, и с конца режима Клузере/Росселя не было больше никого, кто мог бы беспокоиться о «Западном фронте».
День 21 мая был чудесным воскресеньем, в саду Тюильри как раз проходил большой концерт, и пока Коммуне стало ясно, что происходит, и она смогла реагировать, большая часть западного Парижа уже была занята, и версальские войска без помех начали с того, чтобы расстреливать своих пленных. Некий офицер Коммуны, который вечером ехал верхом на разведку – в ратуше всё ещё не знали, как далеко продвинулись войска – на пустой улице вдруг не смог дальше ехать. Его лошадь испугалась. Тут он увидел у стен домов крепко спящих растянувшихся национальных гвардейцев. И затем он увидел повсюду в сточных желобах мостовой лужи крови и понял, что спящие мертвы: застрелены.
Уже в понедельник Тьер триумфально объявил в Версале о взятии Парижа и об окончании гражданской войны. Однако настоящая гражданская война началась лишь теперь. Западный Париж, Париж зажиточных буржуа, пал почти без борьбы, однако теперь, от Площади Согласия, правительственные войска находили каждую улицу перегороженной баррикадами и за каждой баррикадой были сражающиеся. Стреляли с крыш, приходилось штурмовать дом за домом. Весь вторник армия не продвигалась вперёд. И в ночь на среду, когда усиления и тяжёлая артиллерия наконец сломили сопротивление в центре, защитники подожгли Тюильри, здания Почётного Легиона, Государственного Совета и Счётной Палаты. Медленное, стойкое отступление Национальной Гвардии сопровождали огни пожаров; медленное, упорное наступление правительственных войск сопровождалось расстрелами. Повсюду, где ступала их нога, людей ставили к стенке и расстреливали: пленные, подозреваемые, жертвы доносов, и при этом также случайно схваченные люди, лишь сказавшие неосторожное слово.
В среду то же самое: стойкое, ожесточённое сопротивление «федералов» – так называли себя теперь защитники Коммуны – и упорное, медленное продвижение армии. И пожары. И расстрелы. Длинная, прямая как стрела улица Риволи была захвачена сантиметр за сантиметром. На юге Национальная Гвардия всё ещё упрямо держалась на Butte–aux–Cailles. Сияющая солнцем, горячая летняя погода держалась уже несколько дней. И не было больше места в Париже, где не слышны были бы грохот орудий, треск митральез [29]29
Митральеза (франц. mitrailleuse, от mitraille – картечь), французское название многоствольного скорострельного оружия – картечницы во 2‑й пол. 19 в.
[Закрыть], залпы винтовок. Шум сражения медленно перемещался на восток. Вечером пала и запылала ратуша.
Четверг: третий день сражений. В мэрии (администрации бургомистра) 11‑го округа в последний раз собрались остатки Коммуны (большинство её членов уже несколько дней были где–то на баррикадах). Butte–aux–Cailles пал. Центром главного сопротивления была теперь площадь у Chäteau-d'Eau, уже в восточной части города – площадь, на которую выходили восемь улиц, все перегороженные баррикадами, все обороняющиеся, все под огнём артиллерии. В полночь пришло сообщение, что резервы у Chäteau-d'Eau исчерпаны. И сообщения о смерти членов Коммуны, которых ужасно мучили перед тем, как расстрелять. Под вечер Делеклюш покинул собрание Коммуны. Вскоре после этого он вернулся обратно в своей лучшей одежде: сюртук, накрахмаленная белая рубашка и красный шарф. "«Я собираюсь», – сказал он, – «инспектировать положение у Chäteau-d'Eau. Кто желает, может последовать со мной». Полдюжины людей пошло с ним.
На баррикаде у Chäteau-d'Eau едва ли были ещё защитники, и улица, по которой шла кучка коммунаров, находилась под огнём артиллерии. Один за другим отставал в поисках укрытия. За пятьдесят метров до баррикады Делеклюш был уже совсем один. Он уверенно прошёл далее, тяжело опираясь на свою трость, с цилиндром на голове. Он не обращал внимания на отставших спутников и на пули, которые ударяли вокруг него. Чудесным образом ни одна из них в него не попала: он достиг баррикады, не будучи ранен. За баррикадой как раз заходило кроваво–красное солнце.
Перед большой грудой камней он на мгновение задержался. Затем он с трудом вскарабкался на неё, немного спотыкаясь, с негнущимися суставами. Старый человек в сюртуке и с красным шарфом казался единственным живым существом. Теперь он был наверху, и на мгновение увидели его высоко стоящим на баррикаде, силуэтом на фоне заходящего солнца. Затем он покачнулся и упал – через голову вперёд. Выстрела, который попал в него, не слышал никто. Затем стрельба продолжилась. Так умер Делеклюш, и с ним умерла Коммуна. После этого четверга больше Коммуны не существовало. Но битва за Париж продолжала бушевать. И наихудшее наступило лишь тогда, когда тремя днями позже борьба прекратилась.
Зверство победителей
Если бы история Парижской Коммуны закончилась с падением последней баррикады в воскресенье Троицы 1871 года – весьма возможно, что сегодня её бы уже давно забыли. Однако она не закончилась. Что произошло после борьбы, поспособствовало тому, чтобы Коммуна стала незабываемой. Сегодня у нас притупилось ощущение ужаса. Однако 19 век был, во всяком случае в Европе, цивилизованной эпохой, и когда в цивилизованной столице континента тогда неожиданно на всех улицах стали происходить убийства, то это вселило в современников ужас. Бойня над Коммуной в истории своего времени – как кричащие брызги крови на музейной картине.
Уже во время битвы за Париж правительственные войска безжалостно застрелили своих пленных – и множество непричастных. А в последние отчаянные дни и борцы на баррикадах учиняли зверские преступления: расстрел шестидесяти двух заложников, среди которых архиепископ Парижа, 25 и 26 мая гнусно обезобразил героическую смертельную борьбу Коммуны. Но это бледнеет на фоне того, что хладнокровно совершили после борьбы победители.
«После окончания борьбы», – пишет летописец Коммуны Проспер Лиссагарай, – «армия превратилась в чудовищную палаческую команду» – а Париж в бойню для людей. Рабочие кварталы были прочёсаны, дома обысканы, прохожих на улицах без разбора хватали и арестованных тысячами загоняли в казармы и тюрьмы. Что там их ожидало, не было ни судом, даже не военно–полевым судом, а было это сортировкой – как на грузовом перроне Аушвица.[30]30
Аушвиц – немецкое название Освенцима.
[Закрыть]
Не делалось усилий для определения личности арестованных. Достаточно было одного взгляда: у кого были почерневшие руки или изменение цвета от приклада винтовки на плече, кто носил униформу или даже только лишь пару армейских сапог, но также и у кого было упрямое выражение лица или кто как–то иначе возбудил недовольство офицеров, которые сидели у длинного стола, куря сигары и обрабатывая потоки людей – тех кивком головы отсылали налево – а там ожидали расстрельные команды.
В тюрьмах расстреливали сразу же на месте. Из других мест сбора (например, театра Chätelet, где арестованных загоняли на сцену, в то время как в ложах караул направлял на них свои ружья) должны были ещё раз пройти маршем смерти, в какой–либо общественный парк или на площадь. В Люксембургском Саду день за днём стояли очереди на казнь. Из ворот казармы Лобау на улицу целыми днями струился не иссякавший ручей крови.
Существует свидетельство учителя гимназии из тюрьмы Рокетте, которому посчастливилось быть направленным сострадательным сержантом направо, после того как он уже был отправлен налево:
«Скоро на правой стороне нас было больше трёх тысяч арестованных. Всё воскресенье и ещё часть понедельника продолжались рядом с нами выстрелы. Утром в понедельник вошёл взвод: «Пятьдесят человек!» – сказал сержант. Мы думали, что речь идёт о расстреле и никто не пошевелился. Солдаты отобрали ближайших пятьдесят человек. Я был среди них. В помещении, в которое нас провели и которое показалось нам огромным, мы увидели груды тел, наваленных друг на друга. «Поднимайте всех этих свиней и бросайте в мебельную повозку!» Мы стали поднимать кровоточащие тела. Солдаты отпускали отвратительные шутки: «Посмотри–ка, что за рожу скорчил вот этот!» – и они топтали каблуками их лица. Нам казалось, что некоторые ещё живы. Мы сказали об этом солдатам, но они отвечали: «Вперёд! Вперёд! Нечего тут!» Наверняка некоторых похоронили заживо. Я посчитал: мы положили в мебельные повозки тысячу девятьсот семь тел».
Кто избежал первого отбора, того на западной черте города, по дороге на Версаль, ожидал второй. Там расположился генерал маркиз де Галифе – известный прожигатель жизни и молодцеватый генерал кавалерии империи; под Седаном он к восхищению прусского короля командовал смертельной атакой французской кавалерии.
Теперь Галифе располагался на Porte de la Muette, останавливал колонны пленных, проходил по рядам и пальцем указывал то на одного, то на другого: «Вы выглядите интеллигентом; выходите». «У Вас есть часы. Вы скорее всего должны быть служащим Коммуны». Особое внимание Галифе привлекали седовласые: «Вы были уже участником событий в 1848 году», – говорил он. «Вы виновны ещё больше, чем остальные». Отобранные умирали под залпами солдат Галифе у Porte de la Muette. Их тела бросали во рвы крепости и засыпали известью.
Что в конце концов, по прошествии более чем недели, постепенно положило конец бойне без разбора – это была проблема уборки трупов. Погода в эти дни была жаркой и дождливой. Непогребённые тела, которыми, как выразился премьер–министр Тьер в распоряжении своим префектам, были «теперь вымощены улицы Парижа», взбухали во влажной жаре, и город начал вонять.
«Эти нищие», – писала буржуазная газета, «которые нам при жизни причинили столько вреда, продолжают и после своей смерти вредить нам». Газета «Temps» сетовала: «Кто не помнит этого, даже если он смотрел лишь несколько минут на сквер перед башней Saint Jacques, который превратился в скотобойню? На этой влажной, незадолго до этого разрыхлённой земле тут и там выглядывают головы, руки, ноги или кисти рук, и вместе с землёй замечают лица трупов, которые одеты в форму Национальной Гвардии. Это ужасно. Отвратительный запах висит над этим садом; в некоторых местах он превращается в вонь». А «Paris Journal» 2‑го июня с отвращением вскричал: «Положить конец убийствам! Мы не желаем этого больше! Даже убийц и поджигателей – нет! Мы требуем не помилования, а отсрочки. Не убивать больше!»
Число жертв никогда не было установлено. За семнадцать тысяч убранных с улиц, парков и общественных мест тел город Париж в течение июня представил правительству счета: это минимальное число. Однако сюда не включены те, чьи тела уже были убраны их товарищами по заключению или которые гнили в крепостных рвах Ла Муэтте. Оценки общего числа лежат между двадцатью тысячами и тридцатью тысячами, называлась также цифра в сорок тысяч. На десять тысяч больше или меньше – это неизвестно. Для сравнения: за шестнадцать месяцев Парижского Террора с апреля 1793 до июля 1794 года, которыми ещё и сегодня заполнены исторические книги, в Париже было казнено точное число в 2596 человек.
После бойни – судебные процессы. Здесь мы имеем точные цифры. 36309 арестованных остались живыми в руках победоносной армии, и ещё в течение нескольких лет двадцать шесть военных судов, состоявших из четырнадцати генералов, двухсот шестидесяти шести полковников и двухсот восьмидесяти четырёх майоров, были заняты вынесением приговоров. Последний смертный приговор был приведен в исполнение в 1875 году. Большое число правда более не казнили, а они были депортированы в исправительные колонии Гвианы или Новой Каледонии.
Перед этой ужасной и неутомимой местью стоишь как оглушённый. Безумие первой кровавой оргии и затем хладнокровное ожесточение в течение нескольких лет террора правосудия – как они сочетаются с высококультурной, высокообразованной французской буржуазией семидесятых годов, с людьми belle–epoque [31]31
Belle–epoque: «прекрасная эпоха» (фр. язык)
[Закрыть]? Во всём охотно обвинили бы озверевшую солдатню, но это невозможно: французская армия действовала не спонтанно и не самовольно. Её злодеяния совершались по приказу сверху и позже были вознаграждены блестящими парадами и множественной раздачей орденов.
И Тьер не единственный виновный: большинство Национального Собрания было ещё кровожаднее, чем глава правительства, и Париж утончённых людей восторженно аплодировал его жестокости. Нет, бойня Коммуны была преступлением целого класса; и хотя оно было совершено хладнокровно, рационально его невозможно объяснить, а можно только психологически. Она не объясняется гневом и оправданным негодованием – поджоги и расстрелы заложников в последние дни Коммуны легковесны по сравнению с ужасами после её поражения, они сами уже были реакцией на убийства пленных версальскими войсками. Это можно объяснить только нечистой совестью и скрытым страхом.
Нечистой совестью: поскольку Париж рабочих остался верным решению сентября 1870 года – решению о народной войне против осаждающих немцев; в то время как буржуазная Франция как раз в конце концов капитуляцией перед немцами оттянула неизбежную при народной войне социальную революцию. А скрытый страх – в том, что эту революцию надолго невозможно удержать, что ей принадлежит будущее. Ужасные политические преступления и жестокости почти всегда начинались из страха перед будущим; и никакая революция никогда не бывает столь жестока, как реакция, которая ещё раз с трудом победила революцию.
При этом жестокость реакции по отношению к Коммуне, цитируя Талейрана, была «хуже, чем преступление, а именно – это была глупость». Она имела три последствия, которых не могла желать буржуазная реакция:
– Симпатии (даже в буржуазном мире) надолго повернулись в сторону Коммуны.
– Она неисправимо разделила Францию на необозримое время. Буржуазия и пролетариат с тех пор – это две различных нации.
– И она дала социальным революциям во всём мире их миф. Бойня Парижской Коммуны означает для мировой революции то же, что Голгофа для христианства.
Даже буржуазная Франция сегодня для славы французской истории обращается не к Тьеру или Мак – Махону, а скорее к Делеклюшу, который погиб на баррикаде, или к Луизе Мишель, которая кричала своим судьям: «Если сегодня каждое сердце, которое бьётся за свободу, имеет право ещё только на кусок свинца, то и я требую своей доли. Убейте меня! Если вы оставите меня жить, то я не перестану кричать о мести и разоблачать убийц!» И они не были единственными героями Коммуны. Граф де Мун, который на высоком посту принимал участие в массовых убийствах, говорил позже как свидетель перед комиссией по расследованию Национального Собрания: «Они все умирали с определённым нахальством». Он должен был это знать.
Коммунары помогли Ленину
«Стена Коммунаров» на кладбище Пер – Лашез, на котором утром в воскресенье Троицы как зачин грядущего были скошены огнём митральез сто сорок семь плененных коммунаров, сегодня является местом паломничества французских левых; будто покрытая сахарной глазурью церковь Sacré‑Coeur, воздвигнутая как искупление за «Ужасы Коммуны» точно на том месте, где началось восстание 18 марта 1871 года – это лишь курьёз для туристов и источник смущения для буржуазных эстетов. Настолько в течение столетия и во Франции всё переменилось – во Франции, в которой буржуазная республика давно уже втихую присвоила множество законодательных актов Коммуны.
Два великих человека пытались излечить глубокие раны; обоим это удалось сделать лишь на время и не полностью. Клеменсо, который уже в марте 1871 года напрасно пытался предотвратить гражданскую войну, и который в 1917–1918 гг. на посту премьер–министра во время Первой мировой войны олицетворял Union sacree [32]32
«Священный союз», фр. язык
[Закрыть] обеих Франций, который после победы быстро снова распался; и де Голль, представитель правых, однако в то же время символ Сопротивления во Второй мировой войне.
Всё же как раз Вторая мировая война снова растревожила старые раны: «правые», зажиточные буржуазные собственники, стали в 1940 году «коллаборационистами», подобно «капитулянтам» 1871 года; а национальное сопротивление снова стало делом «левых», пролетариата и интеллектуалов. Маршал Петэн, капитулировавший перед Гитлером, был неудачливым Тьером, и Сопротивление (в том числе и в его социальных идеях) было почти то же, что и Коммуна. Правда, Сопротивление обошлось менее великодушно со своими врагами: в кровавых расчётах зимы 1944–1945 гг. коммунары как бы нашли свою запоздалую месть.
Однако действительно всемирно–историческая месть за парижский кровавый май 1871 года была исполнена не во Франции, а в России, и настоящий мститель Коммуны называется Ленин. Редко можно отыскать столь явную историческую связь, как между Парижской Коммуной 1871 года и русской Октябрьской революцией 1917 года – а точнее: между безжалостностью, с которой Тьер проводил классовую борьбу буржуазии, и ответной безжалостностью, с которой Ленин проводил классовую борьбу против буржуазии.
Тем самым Ленин исполнил завещание, которое недвусмысленно оставил Карл Маркс мировому социалистическому движению. «Усыновление» или «аннексия» Коммуны Марксом стало иметь самое могущественное воздействия на мировую историю. И никогда оно не стало бы иметь этого воздействия без ужасов её подавления.
Потому что было бы ошибкой принять, что Коммуна вдохновила Маркса, или что Маркс со своей стороны желал Коммуны, или что он одобрял её политику. В сентябре 1870 года в своей лондонской ссылке он решительно назвал тогда уже всплывавшие идеи о Commune de Paris «глупостью»; о людях, которые позже её возглавили и которых он большей частью знал лично, он был невысокого мнения.
В своей частной переписке Маркс также жёстко критиковал многое в Коммуне, пока она существовала. В письме от 17 апреля он уже хладнокровно рассчитывает на её поражение, а приглашение от 29 апреля изучить отношения непосредственно на месте он благоразумно оставляет без последствий («Однако я опасаюсь, что Вам следует поспешить, поскольку я не знаю, сколь долго мы ещё сможем держаться», – писал приглашающий). С точки зрения его учения Парижская Коммуна была в лучшем случае героической глупостью.
Однако Маркс не был только лишь учителем и пророком; как раз в это время он был также активным политиком, который собрал первый Интернационал и удерживал его сплочённым. И он был страстным человеком. Политические соображения понуждали его брать в расчёт Коммуну по возможности как «свою партию». И человеческое негодование вместе со страстным гневом позволили ему в то время, когда в Париже ещё работали расстрельные команды, бойким пером накатать громогласное обвинительное произведение «Гражданская война во Франции», которым он сделал своим дело уничтоженной Коммуны – а месть за мёртвых провозгласил святой задачей любой будущей революции.
Ни одна из работ Маркса, даже «Коммунистический Манифест», не имела такого чудовищного воздействия. С вулканическим гневом и пророческим проклятием он «пригвоздил к позорному столбу истории» «истребителей» Коммуны и их «дьявольские деяния». Вот его слова: «После воскресенья Троицы 1871 года не может больше быть никакого мира и никакого перемирия» – эти ужасные слова пронзительно прозвучали сквозь десятилетия; и в 1917 году они воплотились в реальность.








