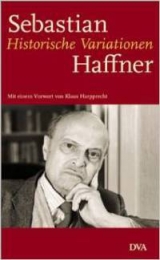
Текст книги "В тени истории (ЛП)"
Автор книги: Себастьян Хаффнер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
«Прибыв в Хоэншвангау [25]25
Хоэншвангау (Hohenschwangau) – резиденция баварских королей в Швангау, на юге Баварии
[Закрыть], он не мог добиться получения доступа к Его Величеству. Король, как только прослышал о прибытии фон Хольнштайна, тотчас же улёгся в постель и у него заболели зубы. После напрасного ожидания с 10 часов утра до без четверти 4 часов пополудни он передал сообщение Его Величеству, что точно в 6 часов он отправится в обратную дорогу в Версаль и что до этого срока он должен иметь высочайший ответ. После этого он наконец был допущен к лежащему в постели и полностью закутанному в одеяла королю, и до половины шестого у него была с ним жесткая борьба, тем более мучительная, что Его Величество не возражал ему по существу, а пытался всяческими несущественными отговорками затянуть дело. Граф Хольнштайн в конце концов вынужден был дойти до того, чтобы зачитать вслух королю согласованный с графом Бисмарком и отредактированный графом Брай в купе поезда набросок письма, и теперь в последние минуты с часами в руках он повторял королю, что он, Хольнштайн, чтобы сдержать своё слово и снова быть в условленное время в Версале, должен выехать из Хоэншвангау точно в 6 часов; если же Его Величество до того момента не напишет письмо, то тогда эта фаза необратимо минует, и в Версале будут знать, что им следует искать выхода иным образом. Разумеется, король полностью волен поступать так, как он желает, однако Хольнштайн, как преданный слуга короля, должен дать возможность Его Величеству обдумать то, что постановка под сомнение желаемой немецким народом императорской власти через недоброжелательство короля Баварии, чьи войска стоят перед Парижем и возможно призовут там кайзера без приказа, должна противопоставить сопротивляющегося короля его собственному народу, чего Его Величеству придётся избежать лучше всего пребыванием в Швейцарии. – Король теперь встал и подошёл к письменному столу, однако тут снова объявил, что вследствие отсутствия бумаги не может писать; Хольнштайн, чтобы получить бумагу, вынужден был позвонить, однако прежде чем он это выполнил, бумага вдруг нашлась, и король наконец стал писать, не говоря ни слова».
Это сообщение в целом выглядит заслуживающим доверия – за исключением только того, что Хольнштайн предусмотрительно опустил при этом самое главное. Разумеется, вся эта сделка была для короля Людвига II мучительной и неприятной; для подкупа пожалуй должно было быть приложено ещё некоторое давление, которое Хольнштайн, сам материально заинтересованный, взял на себя. У него самого было меньше угрызений совести; на обратном пути в Версаль он записал на своей манжете имя машиниста локомотива; добрый малый тоже должен был получить своё вознаграждение. Выплаты Людвигу II, который не появился на провозглашении кайзера, начались в марте 1871 года. Секретарь и хронист Бисмарка, Мориц Буш, отметил, что «канцлер, когда Хольнштайн прибыл к нему, тотчас же принял его в своей рабочей комнате, служившей также спальней, и вскоре после этого заказал шампанского».
Это было 2 декабря, и тем самым было устранено баварское препятствие. Однако на следующий день проявилось нечто почти столь же трудное. Король Пруссии не желал получать нового звания. Его сын, впоследствии ставший кайзером Фридрихом, записал вечером в свой дневник: «После трапезы я познакомил Его Величество с дошедшими до моих ушей вследствие моего любопытства слухами и вследствие этого получил разрешение присутствовать при как раз назначенном докладе графа Бисмарка, который затем зачитал письмо баварского короля… Его Величество совершенно вышел из себя из–за содержания этого письма и был как будто надломлен; казалось, судя по этому, что он не имел понятия, что концепция была передана в Мюнхен отсюда… Короля сегодня невозможно было переубедить, и в лозунге «Кайзер и Рейх» он видел лишь свой собственный крест, как и вообще для прусского королевства».
Король еще в течение недели оказывал упорное сопротивление, которое в заключение приняло такую форму, что он отвергает титул «Германский Кайзер» и потребовал, чтобы его титуловали «Кайзером Германии» – причём он должно быть уверен, что выраженное ему тем самым прямое территориальное верховенство не будет признано его соправителями. Бисмарк, который вовсе не ожидал такого сопротивления с этой стороны, писал своей жене: «Несколько раз… у меня было настоятельное желание превратиться в бомбу и взорваться, чтобы всё здание превратилось в развалины. Неизбежные дела утомляют немало, но ненужные отравляют существование».
Еще в дни перед назначенным на 18 января 1871 года торжественным провозглашением кайзера сопротивление короля не было сломлено, и казалось, что в последний момент всё находится под угрозой срыва. Великий герцог Баденский, который сломил сопротивление, в конце концов обошёл трудность тем, что он предложил титул не «Германский Кайзер», и не «Кайзер Германии», а титул «Кайзер Вильгельм Победоносный».
Для провозглашения кайзера был декорирован Зеркальный Зал Версальского дворца (служивший иначе в качестве лазарета). Это событие было увековечено художником Антоном фон Вернером в известной картине (которая, как мы теперь знаем, не совсем точно воспроизводит провозглашение, эскизы к картине тут точнее). Кронпринц пригласил его по телеграфу: «Вы будете здесь свидетелем неких достойных Вашей кисти событий, если Вы сможете прибыть сюда до 18 января»). Провозглашение кайзера долгое время праздновалось в Германии как «День основания Рейха». В действительности 18 января не было днём основания рейха. После договоров с южно–немецкими государствами Германский Рейх вступил в силу 1 января 1871 года. Ратификация договора с Баварией произошла затем лишь 21 января, а органы нового рейха начали свою деятельность лишь в марте 1871 года. Начало существования Германского Рейха столь же сложно датировать точно, как и его конец. Во всяком случае, оно не произошло 18 января.
Празднование было назначено на 18 января, поскольку это был день коронации первого прусского короля в 1701 году; оно представляло своего рода уступку прусским чувствам нового кайзера и приняло вид, как выразился один из участников события, «своего рода домашнего молебна» духовно–милитаристского характера. Его центральным событием была проповедь берлинского придворного проповедника и дивизионного священника Рогге; «бестактная речь, полная прусского самообожания», как после заметил кронпринц Алберт Саксонский. Бисмарк тоже слушал её с досадой: «Не раз во время этой проповеди приходила мне в голову мысль, почему я терпеть не могу этого попа? Любое слово в тронной речи должно прежде обсуждаться, а этот поп говорит все, что взбредёт ему в голову».
И в остальном 18 января вовсе не царило хорошее настроение. Собравшиеся князья приветствовали одного из них, Георга Альберта фон Шварцбург – Рудольштадт, с горьким сарказмом: «Приветствуем тебя, тоже как вассала!» Короля Людвига Баварского на провозглашении кайзера не было. Его брат Отто, который представлял его, писал ему после: «Ах, Людвиг, я вовсе не смогу тебе описать, сколь бесконечно горестно и болезненно было у меня на душе во время той церемонии, как каждая фаза внутри меня вызывала внутреннее отторжение и возмущение против всего того, что я наблюдал… Всё столь холодно, столь величественно, столь блистательно, столь хвастливо и кичливо – и бессердечно и пусто… В конце концов выбрались сквозь эту толпу назад и из зала. Мне было так тесно и пошло в этом зале, лишь на свежем воздухе я смог снова вздохнуть полной грудью. Так что и это прошло».
Новый кайзер был не менее несчастен. Он писал своей жене: «Только что я вернулся из замка после исполненного акта провозглашения кайзера! Я не могу тебе рассказать, в сколь мрачном настроении я был в эти последние дни, частично вследствие высокой ответственности, которую я отныне взял на себя, частью и прежде всего от той боли, с которой я вижу вытеснение своего прусского титула! На вчерашней встрече с Фрицем, Бисмарком и Шляйницем я был под конец столь мрачен, что собирался уйти в отставку и передать всё Фрицу!»
Старый король не столь уж неправ был со своей болью, «видеть вытеснение прусского титула». Когда сегодня смотрят на те события, то можно в том, что тогда происходило, в действительности отчётливо распознать начало конца Пруссии: она всё более и более растворялась в рейхе и в конце концов закончила своё существование вместе с ним. (Что примечательно: Пруссии больше нет, но Бавария все еще существует).
Что же до самого бисмарковского рейха, то вначале в сознании немецкого народа он был неслыханным успехом; почти половину столетия он считался как нечто вроде естественной формы немецкого единства и предопределённым «Happy – End» германской истории. Он не был таковым. Это было искусственное образование, и в том виде, как он был основан в 1870–1871 гг., он выказывал мало признаков долговечности. Он существовал лишь примерно три четверти столетия, в это короткое время дважды коренным образом изменял свою форму и сегодня уступил место другим формам германской государственности. В этом не было, как говорили прежде, благословения свыше.
Сегодня основание Бисмарком рейха – это история, далёкая история. Государственные и общественные силы, которые действовали в нём, так же принадлежат к прошлому, как и сам рейх. Возможно, за одним исключением: определённое немецкое национальное чувство существует и сегодня, если даже ему и не уготовано кажущееся воплощение в определённой форме, как это было в 1871 году для действительно живого национального движения. Однако это национальное чувство не связано ни с какими желаниями реставрации. К Германскому Рейху нет обратной дороги. «Желаемое восстановление национального единства немецкого народа», – полагает хроникер основания рейха Эрнст Дойерляйн, – «не означает установления снова Германского Рейха. Воссоединённая Германия будет иметь с Германским Рейхом, каким он был создан в 1870–1871 гг., ещё меньше общего, чем тот имел с распущенной в 1806 году Священной Римской Империей Германской Нации».
(1971)
День СеданаЭто не случайность, то, что немцы в обеих мировых войнах снова и снова выигрывали битвы, но проигрывали войны.
1‑го и 2‑го сентября 1870 года стотысячная французская армия, при которой также находился император Наполеон III, была окружена двумя немецкими армиями между небольшой крепостью Седан и бельгийской границей, загнана в тесное пространство и после отчаянных и напрасных попыток прорыва была принуждена к капитуляции. С точки зрения военной истории битва при Седане интересна и сегодня как ранний образец боёв на окружение, которые позже сыграли столь значительную роль в стратегии обеих мировых войн, в особенности Второй мировой войны. В политической истории битва при Седане также являет собой важное событие, что сегодня ясно видно, хотя тогда любой, кто придал бы ей это значение, вероятно, был бы осмеян.
Для Европы Седан был началом конца монархий. Пленение Наполеона III под Седаном привело не только к личному свержению тогдашнего императора французов, но также и совершенно непосредственно, в определённой степени как само собой разумеющееся, к концу династии Бонапартов. Императорство Бонапартов, однако, представляло собой в послереволюционной Франции последнюю повторную попытку ещё раз сделать жизнеспособной монархическую форму государственного устройства в модернизированной версии. Французская республика, которая была провозглашена 4 сентября 1870 года как непосредственное следствие битвы при Седане, оказалась, несмотря на все перемены своих конституций, непоколебимой и окончательной. И Петэн, и де Голль не потрясали более республиканскую форму правления, не осмеливались потрясать. И эта французская республика увлекла за собой всю Европу. Сегодня Европа состоит преимущественно из республик.
Там, где ещё существует монархия, она имеет почтенно музейный, почти мумифицированный характер, и она получила значение своего рода курьёза, а там, где она упразднена, она более не будет возвращена; это чувствует каждый. Быстрой кончине в последние сто лет этого тысячелетнего политического института уделяют совершенно недостаточно внимания. Возможно, надо было бы исследовать исторические причины глубокого изменение сознания, которое в этом выразилось. Однако как бы там ни было: Франция была провозвестником этого поразительного исторического процесса. Здесь процесс «республика против монархии» проводился раньше всего и основательнее всего, в течение почти восьмидесяти лет. И битвой при Седане он был окончательно разрешён – решение, которое в прошедшее с той поры столетие оказалось предварительным решением для всей Европы.
Однако не это причина, которая воскрешает в памяти воспоминание о Седане. Это Седан, в честь которого ещё и теперь почти в каждом немецком городе названы улицы, долгое время игравший в политическом сознании немцев совершенно необычную, сегодня можно пожалуй сказать – роковую роль. Это действительно поразительно и достойно размышления, то, насколько полностью и бесследно было утрачено воспоминание об этом после Второй мировой войны. Практически ничто не иллюстрирует столь наглядно разлом поколений и перемену, можно также сказать: утрату исторического сознания в Германии, как это почти полное вытеснение того, что значил День Седана до 1918 года, а в широких кругах долгое время и после этого.
День Седана почти полстолетия был германским национальным праздничным днём, с парадами, вывешиванием флагов, школьными праздниками, патриотическими речами и всеобщими приподнятыми чувствами. И он именно был (это следует сказать правдиво и с некоторым смущением) единственным действительно реальным национальным праздничным днём, какой когда бы то ни было был у немцев. То, что после занимало его место (11 августа – день Конституции Веймарской республики, 1 мая у нацистов, 17 июня в Федеративной республике) – всё это более не было настоящим: выходной день и пара часов торжественных речей, которые в действительности никого не интересовали. Но 2 сентября, День Седана – бог мой, это было поистине нечто особенное! Это было такое настроение – для сегодняшнего времени я не могу найти никакого другого сравнения – как если бы немецкая национальная команда выиграла чемпионат по футболу, да притом каждый год заново.
Каждый год великая битва в душах людей победоносно разыгрывалась снова, снова и снова кавалерийские атаки французов разбивались об огонь немецких мушкетов, снова и снова гордый французский император как сломленный человек во главе своих войск, каким ему выпало несчастье стать, отдавал прусскому королю свою шпагу. У каждого в голове были триумфальные картины, которые тогда сотнями тысяч висели в гостиных Германии: король Вильгельм, героический старец, посреди своих паладинов на холме Фреснуа (Frésnois); Мольтке во время переговоров о капитуляции, небрежно опирающийся тыльной стороной ладони на карту Генштаба, на которую французские переговорщики уставились как на смертельный приговор; гигантская фигура Бисмарка рядом с отвратительным карликом Наполеоном на жиденькой деревянной скамейке перед домиком ткача в Домшери (Domchérie) – все эти сцены триумфа год за годом вновь приходились по вкусу. Это был настоящий праздник. О высоких чувствах патриотического самоудовлетворения, с которыми это праздновалось, сегодня едва ли имеют представление.
Кто из стариков вспомнит об этом, тот пожалуй покачает головой с некоторым умилением, потому что это ведь принадлежит к его собственному детству и юности, а воспоминания детства и юности – так уж устроено – трогательны. Но покачает головой пожалуй и с некоторым смущением, подобно тому как в трезвом состоянии вспоминают о том, что ощущали и что сотворили в состоянии опьянения. Но опьянение было реальным, и реальными были ощущения и поступки, им вызванные. Седан был для немцев того поколения и последующих большим, чем просто выигранное сражение. Это был основополагающий миф новой национальной религии, и не будет преувеличением сказать, что благодаря Седану немцы долгое время ощущали себя избранным народом. Гайбель после Седана написал следующие стихи:
Пусть теперь звонят колокола на каждой башне,
По всей стране торжествуют и ликуют!
Трещит пламя факелов!
Господь совершил для нас великое дело.
Славься, Господь в небесах!
Заметно преднамеренное, почти кощунственное сходство с рождественскими песнопениями. А газета «Кройццайтунг» непосредственно после битвы писала: «Событием 2‑го сентября начинается новая эпоха – гегемония германского духа в мире. Судьба обратила этот факт в символ, который понятен каждому. Когда мы пленили на поле боя у Седана императора французов, его маршалов и солдат, окончилась эпоха французского насилия, французского полуварварства и начался период германского мира и германской формации».
Ну, с германским миром и с германской формацией как раз после Седана к сожалению было не так уж и хорошо. Бросается в глаза ненависть – отнюдь не рыцарская – с которой в этом комментарии говорится о побежденных, и в этом он, к сожалению, был типичным. День Седана с самого начала был не только праздником осознания избранности, он был также праздником германо–французской смертельной враждебности, которая началась в 1870–1871 гг. и о которой в настоящее время никто не вспоминает охотно. В этой враждебности существует некоторое особое обстоятельство. Она была вполне обоюдной, однако с разных сторон у неё был различный характер. У французов она происходила из реваншистских устремлений побежденных, а также пожалуй из неприязни тех, с кем поступили несправедливо. В конце концов после Седана они вели войну ещё полгода в собственной стране, и была попытка превратить оборонительную войну республики в народную войну, с её совершенно специфическими страданиями и ужасами. Понятно, что после многострадального Франкфуртского мира, который Франция в конце концов вынуждена была с зубовным скрежетом подписать, она осталась непримиримой.
Более загадочно то, что и победители остались непримиримы и что как раз их наиболее полная и блестящая отдельная победа, что как раз Седан сделал в их глазах побежденных полуварварами и сделал вражду с ними неотвратимой. Но это так. В германской национальной религии, чей основополагающий миф воплотился под Седаном, у Франции было прочное место в качестве побежденного, снова и снова побеждаемого злодея, а именно заклятого врага. «Мы хотим победоносно разбить Францию», – так начиналась сочинённая тогда и распевавшаяся десятилетиями песня, и все германские военные планы предусматривали впредь в качестве безусловно необходимого вступления любой будущей войны сначала новый победоносный военный поход на Францию – причём совершенно неважно, предполагался ли непосредственный германо–французский конфликт или нет. Так было при Шлиффене и при молодом Мольтке перед 1914 годом, и ещё при Гитлере, который в «Майн Кампф» на первых страницах признаёт, что популярное издание книги о войне 1870–1871 гг. стало для него сильнейшим формирующим впечатлением в юности. Это было наследие Седана. Седан стал слишком прекрасным. Следовало не только праздновать его каждый год, следовало его когда–то повторить ещё раз.
Седан был прекрасен ещё в одном и в не менее фатальном смысле. Естественно, что это был ужасный процесс, как любое сражение. Но нельзя отрицать абстрактное, интеллектуально–эстетическое удовлетворение, которое вызывает прецизионная работа Мольтке по планированию, вдохновение, которое лежит в основе совершенного осуществления его стратегических расчётов. Седан через более чем две тысячи лет стал, наконец, вновь удавшимися новыми Каннами [26]26
Битва при Каннах – крупнейшее сражение Второй Пунической войны, произошедшее 2 августа 216 до н. э. около города Канны на юго–востоке Италии. Карфагенская армия Ганнибала нанесла сокрушительное поражение превосходящей её по численности римской армии. Это сражение оно является одним из наиболее ярких примеров тактического мастерства в военной истории.
[Закрыть] – совершенной битвой на уничтожение, и тот опыт, что под Седаном в современных условиях оказались возможными более масштабные Канны, последователи Мольтке более не забывали. Шлиффен был им просто одержим. Его знаменитый план, который затем потерпел поражение на реке Марна, сводился к супер-Седану, и в общем следует сказать, что своего рода стратегическая эстетика, которая была в красоте полного уничтожения, после Седана стала тайным пороком германского военного планирования, да, почти что тайным национальным пороком.
Немцы в период между 1870 и 1945 гг. сочиняли битвы, как ранее они сочиняли симфонии. При этом они забыли своего Клаузевица, которого изучали другие. За блеском совершенной битвы они забыли собственно суть войны. Это для них плохо кончилось. Не случайность, что в обоих мировых войнах они снова и снова выигрывали сражения, но проигрывали войну. Если бы они не были столь опьянены Седаном, то быть может, они избежали бы этой участи. Возможно, им следовало побольше раздумывать о том, что ведь и Седан ни в коем случае не закончил победоносно войну. И что самое скверное и тогда последовало лишь потом.
Эстетика битвы, которая нашла своё выражение под Седаном, сегодня столь же мертва, как и германо–французская вражда, которая также ведёт своё происхождение от Седана. Атомная бомба изгнала её в музей военной истории. Историю сделала скорее французская народная война в месяцы после Седана, которую позже Мао–цзэ–Дун и Хо – Ши-Мин развили в инструмент непреодолимой национально–революционной защиты.
Когда сегодня через более чем сто лет рассматривают битву под Седаном, то на первый план выступает ирония исторических процессов. Самая совершенная победа не принесла победителям никакой удачи. Можно прямо таки сказать: поражение подтолкнуло Францию вперёд в 20‑й век. Победа слишком надолго зафиксировала Германию в 19‑м столетии – во вред ей. Германский кайзеровский рейх, который благодаря Седану сменил французскую империю, более не существует. Французская республика, которую вызвал к жизни шок Седана, всё ещё существует. И Эльзас – Лотарингия, тогда ставшая призом победителей, давно уже снова принадлежит Франции. Из заклятых врагов Германия и Франция вновь стали друзьями и партнерами. Более не является невообразимым то, что когда–нибудь они станут членами одного и того же союза государств или даже союзного государства.
Ужасные битвы между ними, унижения и триумфы, страдания, ненависть, надменность трёх поколений – всё это лучше всего предать забвению. У молодёжи забывание уже на полном ходу. Кто сегодня вспоминает о Седане, тот больше не бередит никаких ран. Это событие скорее вызовет определённую скуку. Какой смысл в старых историях? В основном о них никто больше не желает ничего знать. В этом есть нечто печальное, но в этом есть и утешение. История, в которой стирается слава, отпускает также и грехи.
(1970)








