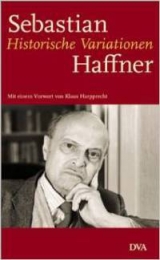
Текст книги "В тени истории (ЛП)"
Автор книги: Себастьян Хаффнер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Фашизм был ничем иным, как дословным, как будто загипнотизированным воплощением пророчества Маркса.
Слово «революция» в наши дни претерпело не всегда осознаваемое преобразование значения. Его применяют к процессам, в отношении которых ранее никто бы и не помыслил говорить о революции. Говорят об индустриальной революции, в последнее время о второй индустриальной революции, о сексуальной революции, о революционных моделях автомобилей и самолётов. Я уже встречал выражение «революция моды».
Столь расплывчато я не думаю, когда взвешиваю вопрос – действительно ли уже закончилась буржуазная революция. Я говорю о больших общественных потрясениях и преобразованиях, по которым ведут отсчет исторических эпох, однако с другой стороны я использую определение также не столь узко и точно, как это делали ещё в моей юности. К примеру, тогда то, что происходило в Германии во времена Лютера, не называли ещё революцией, а называли это Реформацией и крестьянской войной. Когда то же самое движение затем переместилось в Голландию, оно называлось «отделение Нидерландов»; когда оно охватило Англию и при Кромвеле нашло наивысшее выражение в диктатуре святых, её враги говорили о the great rebellion, о великом мятеже, а её приверженцы, столетие спустя, заявили о своей независимости и одновременно о правах человека. То, что тем самым они воплотили в жизнь американскую революцию, это они задним числом открыли лишь в наше время.
Первыми, кто действительно назвали свою революцию – революцией, были французы в 1789 году. И с тех пор слово «революция» получило узкое, точно описанное значение, которое оно сохраняло вплоть до 20 века и долгое время в нём. Революция – это была насильственная, неожиданная, квази–военная акция воодушевлённых масс; это были сражения на баррикадах, штурм общественных зданий, низложение, изгнание или арест королей или правительств. Краткий, резко ограниченный, взрывной процесс, удар молнии, который меняет сразу всё или, по меньшей мере, должен изменить.
Карл Маркс первый осознал, что это определение революции привязано к внешним проявлениям, и что в случае великих революционных событий речь идёт об эпизодах; пожалуй, о драматических кульминациях, заключительных актах, однако не о самой революции. Маркс обобщил все великие события, о которых я только что рассказал, от немецкой крестьянской войны до Великой Французской революции и вдобавок до огромного исторического процесса, который он назвал «буржуазная [49]49
Оригинальное словосочетание в исходном тексте» die bürgerliche Revolution«может быть переведено как «буржуазная революция» (причём следует учитывать, что исторически в нашей стране слово «буржуазный» скомпрометировано на уровне бессознательного), а может переводиться и как «гражданская революция».
[Закрыть] революция». Она странствовала из страны в страну и ей с большими паузами на передышку потребовалось более трёх столетий, чтобы завершиться. Однако теперь – так это во всяком случае видел Маркс – она была завершена, её историческая миссия выполнена. Она взорвала все иерархические связи и оковы средневекового мира, выхолостила веру в потусторонний мир, на котором основывалось сильно разделённое, но крепкое пирамидальное здание феодального общества, лишило мир бога и секуляризировало его, и оставило только два класса: имущих и неимущих, буржуазию и пролетариат.
Мир созрел для последнего сражения, которое должно было завершить буржуазную революцию. Что теперь стояло на повестке дня истории, это «пролетарская революция». Буржуазия – до вчерашнего дня сама в течение столетий бывшая революционным классом – стала теперь защитником существующего порядка и тем самым отжившим и готовым к ликвидации классом, который капиталиста одел в сапоги феодального господина. Он стал драконом, который почивает на своей собственности, у него больше ничего нет предложить миру. Буржуазия теперь так же бессмысленно и безыдейно стоит на пути человеческого прогресса, как стояла аристократия в 1789 году, и теперь на повестке дня была совершенно другая революция, а именно пролетарская, чьим методом была экспроприация экспроприаторов, и чьей целью был скачок из царства нужды в царство свободы, бесклассовое общество, отмирание государства.
Прежде чем я стану критиковать эти идеи Маркса, я бы хотел выказать ему своё уважение. Он является королём мысли, его историческое видение почти что зловещей прозорливости и убедительности, и неудивительно и не случайно то, что почти столетие он увлекал и пленял души с определённой неотразимостью, и именно души друзей и врагов, поскольку не только коммунисты жадно впитывали своего Маркса, но также и буржуазия поколений после 1870 года как по волшебству приняла малопочётную роль, которую он ей уделил.
Ведь буржуазный фашизм был ничем иным, как буквальным, как будто загипнотизированным воплощением пророчества Маркса – попыткой буржуазии целиком и полностью забыть о том, что она некогда была революционным классом и каким–то образом восстановить иерархический порядок, который она разрушила за три столетия революционной работы. Разумеется, попыткой с негодными средствами. Фюрер или дуче был ведь всё же лишь скверной заменой кайзеру или королю божьей милостью. Идеология ведь всё же не имеет силы религии, партия не владычествует над душами так, как это делает церковь. А гауляйтер в качестве нового феодального властелина – это была смехотворная имитация: «бюргер в качестве аристократа». Тем не менее невозможно оспорить того, что буржуазия фашистской эпохи вела себя строго по Марксу.
Негативная часть пророчества Маркса – конец буржуазной революции и превращение самой буржуазии в реакционный класс – казалось, воплотилась в жизнь буквально. С позитивной частью дело обстоит более проблематично. Ведь как известно, пролетарская революция произошла не в завершённых капиталистических странах, а в России, то есть в стране с до – или раннекапиталистическим уровнем развития, которая ещё вовсе не провела свою буржуазную революцию, и её результатом там были также – видит бог – вовсе не начала и признаки отмирания государства и появления бесклассового общества, а как раз скорее обратное. Можно уважать достижение Сталина – построение социалистической мировой державы в отдельной стране, а именно в отсталой стране. Однако это не было воплощением видения будущего Марксом и также оно не превратилось в таковое по Сталину. Марксистам всегда было трудновато оспорить это. И их надежда на то, что социализм русской чеканки в конце концов ещё послужит образцом для подражания в высокоразвитых капиталистических странах Запада, становилась всё слабее. Сегодня она почти что мертва; даже слово «почти» можно вычеркнуть.
Пример или образец Советского Союза сегодня действует и на западных левых скорее отталкивающе, нежели привлекательно. Потому что если и случались в последние десятилетия восстания рабочих собственного происхождения, то как ни странно, в социалистических странах: в ГДР, в Венгрии, в Польше, а вовсе не на Западе. Ну, хорошо, это могли быть локальные эпизоды, которые не о многом свидетельствуют. И то, что рабочий класс на Западе сегодня производит многократно обуржуазившееся впечатление, возможно на перспективу свидетельствует не о многом. Во–первых, существуют исключения: к примеру, Италия или Испания; а во–вторых, это может измениться, если когда–то снова наступит серьёзный экономический кризис, к которому капиталистическая рыночная экономика по своему устройству всегда остаётся склонной. С такими наблюдениями в дискуссии можно набирать очки. Однако долговременного толкования и предсказания истории, как это сделал Маркс, отсюда не выудить.
Эти основополагающие тезисы Маркса после их господства на протяжении десятилетий заново ставят под вопрос нечто совсем иное, и это, если сказать кратко и ужасающе, несомненное возрождение буржуазной революции. Примерно с середины шестидесятых годов мы на Западе находимся совершенно отчётливо в революционной фазе. Устои общественного порядка пошатнулись, и реставрирующий, так сказать испуганно хлопочущий за респектабельность консерватизм буржуазии, который сменил её фашизм после 1945 года, повсюду был вынужден перейти в оборону. Однако примечательно и неожиданно вот что: силы, которые его осаждают, не являются пролетариатом, они – как раз, если мы захотим произвести настоящий марксистский классовый анализ – совершенно очевидно являются силами буржуазными. Прежде всего, естественно, это студенты, то есть наследные принцы буржуазного истэблишмента, но также интеллектуалы, ученые и деятели искусства, и не в последнюю очередь женщины, а именно буржуазные женщины, соломенные вдовы [50]50
В оригинале употреблено словосочетание «grüne Witwe» – переводится на русский как «соломенная вдова», с уточнением: «живущая за городом, муж которой работает в городе».
[Закрыть] современных предместий.
Вовсе нет никакого сомнения, что теперь юное поколение западной буржуазии снова воспринимает себя как революционное. Гораздо более – уклониться от этой истины не поможет – гораздо более, чем рабочая молодёжь. Если сегодня на Западе в виде наметок или уже в созревшем виде наличествует революция, то это не пролетарская, а снова или всё еще буржуазная. О содержании, цели этой западной революции, которая громыхает в Америке, во Франции, в Англии, в Федеративной республике, нам не следует позволить себе обманываться посредством словесного неомарксизма – почти трогательной попытки собственные действительные устремления как–то привести в соответствие с заданной марксистской исторической схемой. Потому что у молодых революционеров буржуазного мира в действительности речь не идёт об экспроприации экспроприаторов. Если им вдруг вручить в руки экономику Америки или, если хотите, Федеративной республики, и сказать – пожалуйста, теперь это ваша забота, то они попадут в величайшее затруднение. Из того, что они прочли у Маркса, они, возможно, получают свою энергию негодования, однако свои истинные цели они черпают из совершенно иных источников.
Революция происходит не на фабриках, а в школах и университетах, в правосудии и прежде всего в семьях. Пафос этой современной молодёжной революции Запада эмансипированный, индивидуалистский и свободолюбивый. Однако это означает: он буржуазный. Ведь если открытые Марксом и исторически так сказать изолированные буржуазные революции от немецкой крестьянской войны до Парижской Коммуны имеют общие основные черты, то это пафос свободы, протест индивидуума против властей общества и его насилия, которое больше не воспринимается как богоугодное дело, а воспринимается как произвол. К этому относится также отказ от любых не выбранных ими самими обязательств, вплоть до самых традиционных обязательств. Не случайно то, что нынешняя молодёжь снова носит бороды, как участники революции 1848 года, что женщины снова показывают грудь и ноги, как incroyables и merveilleuses [51]51
Щеголи и щеголихи (времен Директории, Великая Французская революция)
[Закрыть] Директории, что буржуазно корректная одежда снова отвергается, как во времена санкюлотов. Это показное, разумеется, однако показное выражает внутренние побуждения.
Коротко говоря, у меня есть подозрение, что Маркс рано приговорил к смерти буржуазную революцию, что он принял за смерть промежуточную стадию, впадину между волнами этой революции. Процесс, растянувшийся на столетия, имеет свои подъемы и спуски. Великое восстание против всесилия церкви, с которого началась буржуазная революция более четырёх столетий назад, произвело сначала не полную секуляризацию, только альтернативную церковь. Восстание против феодального государства как раз во времена Маркса создало не полную демократию, а только новое классовое государство, своего рода индустриальный феодализм. И всё же это ни в коем случае не было концом буржуазной революции. Прежние побуждения ожили снова. Секуляризация идёт всё дальше, равно как и демократизация, и после церкви и государства революция охватывает как раз теперь новую область: нравы и семью. Это всё еще узнаваемо та же самая революция, та же самая буржуазная революция.
(1971)
Правые и левыеВсё, что сто лет назад было левым, сегодня является правым. Что тогда было правым, сегодня левое.
Я давно уже отказался от того, чтобы определять политически левых и правых. Нельзя ведь не видеть того, что правые и левые в этом столетии поменялись своими политическими местами, во всяком случае в Европе. Всё, что сто лет назад было левым – республика, демократия, разделение властей, права человека, толерантность, свобода печати, свобода предпринимательства, свободная торговля – сегодня является правым. Что тогда было правым – неограниченная единоличная власть, дисциплина, цензура, государственная экономика, закрытые границы – сегодня это левое. Многие поэтому пробовали соответственно переклеить этикетки «правые» и «левые», однако им это не удалось. Коммунисты всё ещё левые, консерваторы правые – даже если нынешние консерваторы были либералами вчерашнего дня, а коммунисты поставили нового царя. И ведь это где–то соответствует истине.
Ты значишь то, чтО ты на самом деле.
Надень парик с мильонами кудрей,
Стань на ходули, но в душе своей
Ты будешь всё таким, каков ты в самом деле.[52]52
Иоганн Вольфганг Гете, «Фауст» (пер. Н.Холодковского)
[Закрыть]
Левые остаются узнаваемыми левыми, правые – правыми, даже если они поменяются своими политическими местами – и в том числе если они между собой борются самым дичайшим образом, к чему, впрочем, левые склонны более, чем правые.
Долгое время я верил, что можно различить левых и правых если уже не политически, то всё же популярно–философским способом: левые одинаково оптимистичны, правые одинаково пессимистичны. Во скольких только разговорах я не поучал: «Предмет веры левых гласит: человек по своей природе хорош. Правый – это тот, кто вместо этого верит в первородный грех – или скажем так: в человеческое несовершенство. Левые от перемен ждут скорее улучшений, правые – скорее худшего. Левые – это прогресс, от правых слышится: придерживайтесь старого и верного!»
Звучит всё же убедительно, не правда ли? Однако в последнее время и это отличие кажется более не соответствующим действительности. Левые сегодня – это не только лишь красные, но столь же часто это «зелёные»: цивилизационный пессимизм, страх перед прогрессом, «назад к природе» – и это тоже сегодня левые, вовсе не правые. Люди, которые проводят демонстрации против атомных электростанций, против новых автобанов и новых аэропортов – то есть против технического прогресса – это совсем отчётливо преимущественно левые, а у левой интеллигенции сегодня в моде образ человека, который рисует всё в столь чёрных красках, по сравнению с которым самое мрачное учение о первородном грехе будет действовать как самый отъявленный оптимизм: человек – это не только скопище недостатков, но и ошибочная конструкция, человечество – это рак кожи земного шара, и лучшим выходом было бы уничтожение не только самих себя, но и всей жизни. Повсюду среди левых не слышно более, как вчера, единогласного «Вперёд!», но напротив, столь же громкое, почти что ещё более громкое безнадёжное «Назад! Назад! Бога ради, назад!» Раньше это назвали бы реакцией. Однако это всё ещё узнаваемые те же самые левые, кто сегодня взывает «Назад».
Что же тогда определяет их как левых – а правых как правых? Просто ли это разница в темпераментах? Являются ли левые типами, которые охотно приходят в негодование – а правые это прирождённые флегматики? Глядя на общую картину, иногда это так может казаться; однако в частностях и это различие разрушается.
Поэтому попробуем теперь исходить от другой отправной точки: откуда же собственно происходят определения «правые» и «левые»? Я часто читал – пожалуй, один переписывает у другого – что они произошли от того, что во французской палате парламента времён Луи Филиппа республиканцы сидели слева от президента, а монархисты справа, однако это меня никогда не убеждало. Кого ещё интересует порядок рассаживания в парламенте французского буржуазного королевства? Следует думать, что гораздо скорее на общее сознание могли бы повлиять революционные парламенты 1789–1794 гг, в том числе за пределами Франции, однако там не было правых и левых, а был верх и низ, «гора» и «равнина», или, полемически именуя, «болото». Это не те термины, которые укоренились.
Сегодня «левые» и «правые» являются определениями, которые во всём мире понимает каждый, хотя никто не может дать им определение. Я не могу подкрепить доказательствами, однако я полагаю, что это основано не на каком–то случайном порядке рассаживания в парламенте в отдельной стране и в отдельную, относительно малоинтересную эпоху, но должно иметь элементарную основу, и такая основа ведь лежит собственно в руке, точнее: в руках.
Как известно, у человека две руки, правая и левая, и эти две руки различаются: правая рука рабочая, она нужна для писания, еды, хватания, также для ударов, короче говоря, для всего, что требует активности, силы и сноровки. Это рука для практики. Левая рука – это так сказать лишь теоретическая рука, менее занятая и менее умелая, и если человек её теряет, то это меньшее несчастье. Однако совершенно лишней она тоже не является; в случае нужды она может и должна заменить правую, и прежде всего она нужна, снова и снова, для контрудержания.
Если представить себе это, то не станет ли всё сразу ясным? Например, то, что правые почти во всех странах находятся у власти чаще и дольше, чем левые? Что настоящей родиной левых является оппозиция, а их (полезная) функция – это возражение? В том числе и непонятная безуспешность – «неуклюжесть [53]53
В исходном тесте слово автор применяет слово «linkisch» ((неловкий, неуклюжий), имеющее один корень со словом «link» – левый.
[Закрыть]" – что, как известно из опыта, присуще всей левой политике, неожиданно объясняется. Даже о произведении Гельмута Шельски «Работу делают другие» можно было бы подумать, что название этой его известной книги направлено против левой интеллигенции. Практическую работу ведь обычно делает правая рука.
Только естественно, не следует забывать того, что существуют также и левши.
(1980)
Биографические эскизы
Герои и почитание героевНашу прежнюю беспомощность по отношению к природе мы обменяли на новую беспомощность по отношению к истории.
В разговоре о книге Рудольфа Аугштайна «Прусский Фридрих и немцы» (весьма критическом новом рассуждении о Фридрихе Великом и его влиянии на немецкую историческую легенду) я упрекнул автора в том, что он своей справедливой критикой в отношении исторического последействия короля, по моему мнению, иногда несправедливо умаляет фигуру его самого. «В конце концов», – как примерно сказал я, – «Фридрих был очень великим человеком, примерно того же ранга, что Наполеон, или Бисмарк, или Ленин».
«Вовсе он не был таким», – ответил Аугштайн, – «Наполеон, Бисмарк и Ленин двигали историю вперёд, а Фридрих – нет. Они были сознательными исполнителями тогдашних требований времени, они устраняли отжившее и создавали новое, передовое. Фридрих увеличил свое государство, но это и всё, что он сделал». Таков смысл сказанного Аугштайном.
Тогда мы не смогли углубить спор. Однако я полагаю, что мы затронули очень интересную тему, о которой многое можно сказать. В чём состоит величие исторических личностей? Действительно ли только лишь в их историческом воздействии? И как мы измеряем это воздействие?
«Герои и почитание героев» – как известно, так называется небольшая книга Карлейля, который также ведь написал знаменитую биографию Фридриха Великого. Она выражает истинный дух 19‑го столетия, романтический, донаучный. «Историю делают люди», говорили тогда. Сегодня это, пожалуй, никто больше не сказал бы.
Наше историческое сознание полностью изменилось. Сегодня мы вообще не верим, что история делается. История происходит. В нашем нынешнем представлении она является движением огромных, обезличенных общественных сил, на которые мы, хотя они и действуют через посредство людей и выражаются в человеческих стремлениях и поступках, в принципе можем повлиять столь же мало, как и на силы природы. Вместо этого мы пытаемся за их действиями распознать закономерности, подобно тому, как естественные науки – с сенсационным и зловещим успехом – узнают законы природы и пытаются их расшифровать. Исследование истории сегодня, сознательно ли, неосознанно ли, приближается к естественным наукам; можно сказать, что оно пытается превратиться из гуманистической науки в науку точную.
Это без сомнения стало бы неслыханным человеческим достижением; если бы оно удалось, то человек превратился бы в повелителя своей собственной истории, как сегодня он делает себя господином внечеловеческой природы. Разумеется, тогда не стало бы никаких «великих людей», никаких исторических героев. Величие, геройство больше не стали бы требоваться. Также отношения исследователей истории и делающих историю полностью перевернулись бы. Исследователь истории не был бы больше, как сегодня, хроникёром задним числом, в крайнем случае критиком задним числом основателей религий, вождей революций, завоевателей, основателей государств, руководителей государств, исторических деятелей. Он сам станет настоящим деятелем, его познавательная подготовительная работа представляет истинное историческое деяние, и человек, который затем применит познанное и проведёт это как соответственно возможное и необходимо точно заранее рассчитанное, стал бы лишь исполнительным органом, помощником по воплощению, техником деяния, почти что своего рода исполнителем приказа.
В действительности в нашем столетии имелся великий поучительный пример для перевёрнутого отношения между мыслителем и деятелем, а именно между Марксом и Лениным. Однако как раз этот пример показывает, что мы ещё очень далеки от истинного познания исторической закономерности.
Из всех исследователей истории и мыслителей, которые до того пытались напасть на след внутренней закономерности в истории, Маркс несомненно развил наиболее интересную, обоснованную и убедительную теорию; и марксисты, вполне серьёзные люди, ведь ещё сегодня верят в то, что в диалектическом материализме они владеют уже научно надёжным руководством к историческим действиям. Ленин тоже верил в это; и в действительности он с этим руководством как директивой произвёл одно из величайших исторических деяний столетия – только вот это деяние затем всё же оказалось совсем иным, нежели каким оно должно было бы быть по предварительным расчетам Маркса. Коротко говоря: Ленин верил, что он произведёт начальный запал для мировой революции – и вместо этого создал, так сказать по недосмотру, Советский Союз. Но как раз это делает его по моему восприятию в совершенно старомодном стиле «великим человеком», исторической созидательной фигурой, героем. Если бы всё сложилось, если бы все произошло так, как должно было произойти по схеме Маркса – то собственно, что особенного было бы тогда в деянии Ленина? Истинным деятелем был бы тогда Маркс.
Как раз в странах, в которых диалектический материализм Маркса является государственной доктриной, в которых таким образом верят в познаваемость законов истории и тем самым полагают, что обладают ключом к исторически правильным действиям, наблюдается такое почитание героев, которое полностью задвигает в тень романтический европейский 19‑й век. Я весьма далёк от того, чтобы веселиться по этому поводу. Ленин и Мао, в своём ужасном роде также и Сталин, были гигантами. Все трое отважились на неслыханное и добились успеха. Они заслужили высочайшее восхищение и почитание со стороны своих приверженцев и высочайшее уважение также и своих противников. Только вот что: как вяжется «культ личности» или почитание героев с таким пониманием истории, которое им собственно не позволяет признать за ними никакой великой роли, кроме как корректных и тщательных техников и исполнителей? Мы на агностическом Западе – и тем самым я возвращаюсь к моему небольшому различию во мнениях с Аугштайном – находимся в парадоксальном положении. Мы не верим в непогрешимость диалектического материализма или какой–либо иной исторической теории, мы не верим более, конечно, как наши праотцы, в способность великих людей «делать» историю по своей воле. Мы дети, обжегшиеся на молоке, и не только лишь на Гитлере.
Наше сегодняшнее историческое сознание определяется анонимными, неуправляемыми развитиями, которые перед нашими глазами (можно почти что сказать: день за днём) изменяют мир, без того, что можно было бы сказать, по каким законам они протекают, что приводит их в действие и куда они нас ведут. Неожиданное, как бы само собой разумеющееся исчезновение тысячелетних монархий; необъяснимое ослабление религий; прекращение действия традиционных табу; стремительное проникновение науки и техники во все области; неожиданная постановка под вопрос таких установленных с незапамятных времён учреждений, как брак и семья; неслыханное ускорение общественных изменений, которые ранее требовали столетий и которые теперь осуществляются в течение жизни человека – что является причиной всего, что находится в действии? Никакая отдельная человеческая воля, и никакой видимый общественный закон, который позволяет заключить себя в формулы, будь это диалектически–материалистический или какой–либо иной. Мы чувствуем себя сегодня отданными на волю истории столь же беззащитными, как прежде перед природой. Можно прямо–таки сказать: мы заменили нашу прошлую беспомощность перед природой на новую беспомощность перед историей. Мы ощущаем могучие силы; аморфные исторические коллективные силы, перед которым величайший человек становится карликом.
И если эти карлики – которые всё же являются величайшими среди людей – затем всё же отваживаются, несмотря на эти могучие силы, желать великого, вообще чего–то желать, свою волю и свой рассудок бросить на чашу весов, если они обуздывают необуздываемое, желают придать образ бесформенному, тогда в наше восхищение примешивается нечто вроде сострадания, и наше почитание героев получает иронический, почти ласково–иронический оттенок. Мы видим сегодня, гораздо отчётливее, чем прежде, сколь ничтожны по отношению к историческому процессу величайшие достижения величайших людей; сколько промахов замешано даже в успехе; сколь неминуемо величайшие деяния не достигают своей цели – подобно с силой выпущенной из лука стреле, которую по дороге сбивает в сторону буря. И всё же мы не можем не отметить, не восхититься силой, с которой натянута тетива лука, точностью, с которой глаз намечает цель, упорное мужество, с которым стрелок снова и снова пробует совершить невозможное.
Как мне кажется, чем мы сегодня восхищаемся в великих людях, в исторических героях, это больше не то, что они создают, «делают» историю, приводят в движение историю своими собственными руками: этого в конце концов ни у кого нет. Гораздо более мы поражаемся тому, что они, благодаря трогательно–героическим усилиям, вообще оставили след в истории, крошечный след человеческого размера в нечеловеческом огромном. Мы восхищаемся ими тем более, чем менее они заблуждаются о тщетности, о конечной ничтожности своих поступков.
Однако тем самым возвращаемся назад к Аугштайну и к Фридриху, к Фридриху и Наполеону, к Бисмарку и Ленину. Если примерить их к ходу истории, то все они лишь случайности. Ленин достиг нечто иного, чем он желал. Создание Бисмарка пережило своего создателя как раз на два десятилетия. Наполеон просто потерпел поражение. Если их рассматривать таким образом, то всех их уже сегодня почти что следует убрать из истории; и через тысячу лет для состояния человечества, если оно ещё будет тогда существовать, вообще не будет никакой разницы, существовали ли они некогда или нет.
Однако если подойти к ним поближе, чтобы их изучить, что является, пожалуй, максимально достижимым для человека; если рассматривать их в определённом смысле как атлетов, которые приготовились к прыжку на мировой рекорд – тому все же крошечному прыжку на мировой рекорд, который как раз возможен для человека; когда сравнивают, на что они решились, как они это восприняли, как они продержались в несчастье, как они достигли удачи и чего они сами добились – тогда я не вижу никакой разницы в ранге между Фридрихом и другими героями. И я не могу ничего с этим поделать. Или если всё же и есть разница, то тогда та, что говорит в пользу Фридриха – которая по меньшей мере ближе к нашему нынешнему определению героя: а именно то, что он во всех в высочайшей степени рискованных мероприятиях, во всех чрезвычайных напряжениях себя воспринимал менее серьёзно, чем это делали другие. Он был велик, хотя – или возможно как раз поэтому – для него самого было ясно, сколь мал он.
«Если я не говорю о провидении», – писал он однажды, «то это постольку, поскольку мои права, мои раздоры, моя персона и всё государство представляются мне слишком ничтожными предметами, чтобы быть важными для провидения; пустячная и детская человеческая ссора не достойна того, чтобы занимать вас, и я думаю, что нет никакого чуда в том, чтобы Силезия лучше находилась в руках Пруссии, чем Австрии, арабов или сарматов; так что я не злоупотребляю столь святым именем при столь не священном предмете». Я нахожу это восхитительным. Эта неустрашимость во взгляде на своё собственное ничто, эта способность действовать – и действовать величественно – без веры! Если бы даже и не было другого, то и одним этим он заслужил прозвище, которое ему дали уже два столетия назад и которое он всё ещё по праву носит: Фридрих Великий.
(1969)








