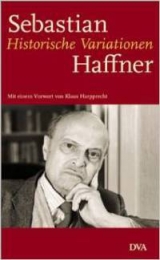
Текст книги "В тени истории (ЛП)"
Автор книги: Себастьян Хаффнер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Многие тогда напротив находили, что он ведь собственно вообще не государственный деятель, но только лишь воин, а именно ненасытный воин, который просто не мог получить от войны достаточно. Однако кто его таким видел, видел его слишком малым, и ему было всё же ещё суждено опровергнуть эту оценку. Потому что это был воин Черчилль, кто в конце концов в качестве первого правящего государственного деятеля Запада призвал к окончанию холодной войны, диагностировал в атомном пате неизбежность мира и дал сигнал для политики разрядки, которой затем потребовалось ещё десять лет и больше, пока она действительно пришла в движение. Поздний Черчилль со своей политикой мира настолько же опережал время, как он двадцатью годами ранее был со своим призывом к сопротивлению Гитлеру. Потому что эта последняя борьба Черчилля выпадает на 1953–1954 гг. – почти за десять лет до Кеннеди, почти за двадцать лет до Киссинджера. И если Черчиллю Второй мировой войны нам сегодня нечего уже больше сказать – этот совсем поздний Черчилль, этот ранний предшественник Кеннеди и Киссинджера, сегодня актуальнее, чем когда–либо.
Черчилль, не переизбранный в 1945 году, стал ведь шестью годами позже, в возрасте почти семидесяти семи лет, ещё раз премьер–министром и оставался на этом посту в течение трёх с половиной лет. Это время его второго правления часто игнорируется. Оно было триумфом его упорства, однако двойственным триумфом. Несомненно, он был величествен, этот неукротимый старик, который никогда не сдавался, который невозможное всё же делал снова возможным, который снова преодолевал неизбежную судьбу. Величественный, но также и создающий ощущение неловкости. Потому что семидесятисемилетний ветеран прошёл такие неслыханные, изнуряющие битвы, как никакой другой более молодой старик, например почти его сверстник Аденауэр, не растративший свои силы. Физически он был близок к концу, с подорванным здоровьем, морщинистый, величественная развалина. Первый апоплексический удар случился с ним ещё до второго вступления в должность премьер–министра, при закрытых дверях. Второй, гораздо более тяжёлый, который парализовал его на неделю и отнял речь, он пережил в июне 1953 года, в момент наивысшего напряжения его последнего политического усилия. Он преодолел и его, и продержался ещё полтора года. Однако тело всё более и более оставляло дух в беде. Его последнее начатое политическое произведение остаётся стоять как торс – огромный торс, на котором недавно выстроен другой, более молодой.
Потому что этот последний проект устройства мира от позднего Черчилля содержит почти все элементы сегодняшней дипломатии великих держав: атомный мир под крышей супердержав; европейскую систему безопасности как завершение или замену восточным и западным системам союзов; разоружение; постоянные переговоры на высшем уровне ведущих государственных деятелей. Это всё для нас сегодня стало обыденным делом. Однако в 1953 году, когда Черчилль во второй раз бросился в мировые дебаты, это было ещё динамитом. Это был год, когда Джон Фостер Даллес как раз принял на себя руководство американской внешней политикой.
Потрясающе, что видение новой глобальной политики мира было тогда у единственного активного государственного деятеля – и что этот государственный деятель был последним военным героем Европы: тот же самый человек, который в качестве лейтенанта гусар в 1898 году при Омдурмане принял участие в последней кавалерийской атаке в английской военной истории, который в 1914 году мобилизовал английский флот, а в 1917 году возглавлял массовое производство танков, который в 1940 году в горящем Лондоне дал отпор Гитлеру, который ещё в 1945 году гордиев узел противоречий союзников предпочёл бы разрубить мечом – этот человек, теперь уже почти восьмидесятилетний, был первым, кто ясно видел, что для атомных держав эпоха войн должна прекратиться, и кто по меньшей мере эскизно обрисовал вытекающие из этого политические следствия. Неслыханный поворот, который он тогда совершил. Потому что человек, который в свой последний политический час стал провозвестником будущего, был ведь в течение всей жизни потомком великих прошлого, и то, что ещё раз говорило в нём, было голосом этих предков, голосом Англии, Европы, которая столетиями владела миром – и в то время, пока он ещё говорил, в намерениях уже было уйти в отставку.
Этому уходу от дел он всегда противился, также и теперь, в качестве политика мира. Наступающий мир он видел управляемым традиционными великими державами: Америкой, Англией, Британским Содружеством Наций, Европой, Россией. Малые народы должны будут ему подчиниться, а другие должны присоединиться. Он был аристократ и империалист, и когда он, как уже его отец, был готов во внутренних делах искать компромисса между аристократией и демократией – в отношении жизни народов он всегда оставался аристократом, всегда человеком, придерживавшимся иерархии наций. Различие между великими державами и прочими, культурными государствами и иными было для него ещё и в 20‑м столетии само собой разумеющимся, и где он восседал, был всегда верх – это тоже было для него само собой разумеющимся. Европейские нации были для него наиболее благородными, а среди них самой благородной была Англия – на этом он стоял до самого конца.
Эта точка зрения стала сегодня несовременной, и почти что невозможно поверить, когда убеждаешься, что до Первой мировой войны она была всеобщей, до Второй мировой войны по меньшей мере ещё широко распространённой – и это ни в коем случае не только в Европе и в Англии. В этом отношении таким образом Черчилль представляется сегодня всё же человеком из прошлого – даже когда он возможно после 1945 года, несколько неохотно, допустил, что теперь следует допустить в клуб избранных Америку и Россию, возможно даже и Китай. Именно сегодня принципиально не хотят ничего более знать о том, что среди народов Земли существует нечто вроде эксклюзивного клуба, аристократии силы, право на членство в котором дают или должны давать достижения и цивилизация, и в особенности как раз европейцы стыдятся того, во что они верили. И это соответствует положению дел: к верхней лиге держав они более не принадлежат
И тем не менее я не уверен в том, действительно ли Черчилль с частью своих воззрений, которые казалось бы делают его сегодня несовременным и несоответствующим времени, столь безнадёжно принадлежит прошлому, или же он как раз поэтому ещё впереди своего времени.
Превосходство, вы можете его ощутить,
Его не изгнать из мира,
– как обнаружил Гёте, и мне кажется, мы можем это также ещё сегодня, да, как раз сегодня снова ощущать – возможно тем более отчётливей, когда превосходство более не является нашим собственным. Однако принадлежим ли мы теперь ещё к нему или нет – ясно видно, что как и прежде среди народов существует аристократия силы и что предпочтительно принадлежать к ней. Круг её членов также возможно вовсе не столь меняющийся, как можно полагать с первого взгляда. Видимые новички при ближайшем рассмотрении оказываются возвратившимися. Например, китайцы – такой случай, равно как и арабы. Как раз то, что они, после долгого или краткого периода слабости, теперь снова в нём, может навести нас на мысль, что также и мы возможно однажды преодолеем наш нынешний период слабости. Однако это умозрительное предположение.
Однажды я прочёл в английской газете предложение о Черчилле, которое крепко засело в памяти. «Каково бы ни было его место в истории», – говорилось в нём, – «место в легенде ему обеспечено». Мне представляется это хорошо сказанным. Среди своих соотечественников Черчилль уже сегодня – легендарный образ. И если наша цивилизация в конце концов всё же должна будет прекратить своё существование в атомной катастрофе, так, что от неё ничего не останется, и в каком–то дальнем уголке Земли всё должно будет начаться сначала, то я мог себе представить, что даже там будет появляться смутный образ человека, который в великом Прежде, совсем уже перед концом, перед атомным всемирным потопом, ещё раз подобно всем великим прошлого заключал в себе всё.
Это был человек, который всегда возвращается,
Когда время ещё раз свою ценность,
Которая хочет прекратиться, сводит воедино.
Тогда ещё поднимает некто всю его тяжесть
И бросает её в бездну своей груди.
У бывших до него были страдания и наслаждения;
Но он чувствует ещё лишь массу жизни,
И что он всё охватывает как один предмет,
Лишь бог остаётся властен над его волей:
Он любит его своей возвышенной ненавистью
За эту недосягаемость.
(Райнер Мария Рильке, «Книга уроков»)
(1974)
Густав Штреземанн: немецкий реалистТо, что без Штреземанна возможно не было бы пробуждения от кошмара 1923 года, вскоре никто больше не желал признавать.
Лорд д'Абернон, британский посол в Берлине в двадцатые годы, пометил в своём дневнике о Густаве Штреземанне: «Первое впечатление: он мог бы быть братом Уинстона Черчилля. Такой же облик, волосы – кожа – цвет глаз. Сходство в темпераменте и в духовном облике. Оба блестящие, смелые и отважные; в обоих более чем безрассудной отваги…. Никаких полутонов; никаких расплывчатых очертаний». И при другом случае: «Бесспорно великий человек – и он тоже это знает».
Этот великий человек сегодня в Германии, несмотря на множество попыток возродить память о нём, наполовину забыт. При этом он без сомнения был сильнейшим политическим талантом, какого произвела Германия между Бисмарком и Аденауэром. Если в качестве масштаба взять год рождения, то он тем самым будет помещён во времени не совсем корректно, поскольку сбивающим с толку образом он на два года моложе Аденауэра. Лишь на 1978 год выпадает столетие со дня его рождения; следующий за ним год правда уже пятидесятилетие его смерти. Тем не менее с исторической точки зрения он стоит между Бисмарком и Аденауэром: у Штреземанна было его великое время после Первой мировой войны; Аденауэр, хотя и старше него, взошёл в зенит лишь после Второй мировой. Оба знали друг друга хорошо и не были высокого мнения друг о друге: так порой бывает у великих людей.
Штреземанн и Аденауэр оба унаследовали катастрофы; и оба сделали – можно сказать: почти в мгновение ока – из катастрофы нечто вроде золотого века: Штреземанн «золотые двадцатые годы», Аденауэр «пятидесятые», которые для многих сегодня уже имеют золотой отблеск. Различие при этом говорит скорее в пользу Штреземанна: он также спас единство Германии. Аденауэр этого сделать не смог, серьёзно вовсе и не пытался.
То, что германскому единству существовала угроза уже после Первой мировой войны, исчезло из немецкого исторического сознания. Чтобы снова вызвать это в памяти, нам следует вернуться в год 1923. Этот «сумасшедший год» сегодня также наполовину забыт, однако это был самый волнующий год из множества захватывающих лет, которые пережила Германия в первой половине столетия. В январе французы оккупировали Рурскую область, и немцы ответили на это «пассивным сопротивлением» – практически продолжительной всеобщей забастовкой в оккупированной области. Забастовочной кассой был станок для печатания денег, и следствием того, что постоянно печатались деньги, но ничего не производилось, была неслыханная инфляция, какую когда–либо переживала страна. Тогда мерилом служил курс доллара. В январе 1923 года стоимость доллара составляла двадцать тысяч марок; в августе он стоил миллион, в сентябре миллиард, в октябре триллион. Не только все капиталы и сберегательные вклады были уничтожены; зарплаты и жалованья осенью 1923 года также обесценивались сразу, как только их отсчитывали. Царил хаос, и экономический хаос порождал хаос политический.
Бавария под властью правого правительства, Саксония и Тюрингия под управлением Народного Фронта, Рейнская область под сепаратистами – казалось, что эти части Германии намереваются отделиться от рейха. В Гамбурге коммунисты опробовали восстание, в Кюстрине «Чёрный рейхсвер» организовал путч, в Мюнхене Гитлер. Таково было положение во время канцлерства Штреземанна.
Он находился в этой должности только лишь сто три дня, однако в это короткое время он спас рейх. Пассивное сопротивление в Рурской области он прекратил, что в свете тогдашних настроений требовало настоящего презрения к смерти. Станок для печатания денег он остановил; при помощи новой денежной системы, рентной марки [56]56
Рентная марка: денежная единица Германии 1923–1924 гг.
[Закрыть], которую он жёстко удерживал, честной работе он снова дал честную зарплату. Путчи он подавил, с баварцами, саксонцами, тюрингцами и рейнскими сепаратистами он разделался – различными средствами, жёстче против левых, чем против правых; а между тем коалиция, на которую он опирался, беспрерывно угрожала распасться, и рейхсвер, громыхая саблей диктатуры, вышел из его повиновения. Это были не имеющие себе равных достижения власти, и через сто три дня Штреземанну наступил конец. СДПГ отказалась следовать за ним, и он вынужден был уйти в отставку. Однако главная работа была сделана: «золотые двадцатые годы» смогли начаться (первые четыре года этого десятилетия были чем угодно, но только не золотыми).
Штреземанн никогда больше не стал рейхсканцлером, однако на оставшиеся шесть лет своей короткой жизни он при различных правительствах всё время оставался министром иностранных дел. Только в этой должности его образ запечатлелся у его современников. Его нахождение на должности канцлера было для этого слишком кратким, и осень 1923 года вообще была быстро забыта – как кошмар после пробуждения. То, что без Штреземанна возможно не произошло бы пробуждения, вскоре никто не желал более признавать. Однако его внешняя политика в течение шести лет сделала его одним из самых знаменитых политиков Германии – самым знаменитым и самым спорным.
Он отстаивал реалистическую и успешную внешнюю политику, однако непопулярную. Германский Рейх при Штреземанне превратился из козла отпущения для держав–победительниц в их уважаемого партнера почти столь же быстро, как позже это произошло с Федеративной Республикой при Аденауэре. Из жестокой экономической нужды получилась существенная конъюнктура восстановления, оккупированные области освобождались одна за другой, регулярными германскими нарушениями требований по разоружению Версальского мирного договора Штреземанн приучил контролирующие державы к тому, что они стали смотреть на них сквозь пальцы, а наследственная германо–французская вражда, в начале двадцатых годов ещё бывшая в полном расцвете, под его руками предстала как нечто вроде германо–французского флирта. Однако всего этого он достиг через явную политику «исполнения» и примирения, а это вызывало у людей враждебные чувства к нему.
Германские правые, которые во времена Штреземанна в основном участвовали в правительстве рейха, и германская буржуазия, из которой происходил сам Штреземанн, были тогда в своенравном настроении. Проигранная война и унижения послевоенного времени ожесточили их. Они не желали исполнять жесткие условия мирного договора, а хотели «разорвать оковы Версаля», и бесспорные успехи политики исполнения Штреземанна не создавали им никакой истинной радости, именно поскольку она была политикой исполнения, которая самым педантичным образом исключала всякие жесты упрямства. Так что Штреземанн при постоянных успехах стал в широких кругах наиболее ненавидимым германским политиком. Скверная поговорка «Stresemann, verwese man [57]57
Переводится примерно так: «Штреземанн – это разложение»
[Закрыть]" слышалась повсюду, и несколько раз реально возникали заговоры с целью его убийства.
Что особенно ставили в вину Штреземанну, это то, что он проводил «левую» внешнюю политику, хотя он начинал как человек правых. Штреземанн был человеком, поднявшимся из патриотической мелкой буржуазии, явно выраженной правой среды. Его отец занимался пивом и владел пивной в скромном квартале Берлина, где его мать ещё сама жарила котлеты. Одарённый сын должен был учиться, получить титул доктора – от темы его диссертации «Экономическое значение торговли пивом в бутылках», разумеется воротили нос в «лучших семьях» Веймарской республики. Он был образованным человеком, образованным по меркам своей юности в кайзеровском рейхе. Великолепие бурша [58]58
Бурш, студент (член студенческой корпорации в Германии)
[Закрыть] и соответствующие манеры, цитаты на латинском языке, занятия с наслаждением немецкой классической поэзией и музыкой (возникшая тогда джазовая музыка была для него мерзостью); к этому следует прибавить основательные экономические знания. Свою профессиональную карьеру он сделал в качестве юрисконсульта экономических объединений, во время войны он был депутатом от национальных либералов, в заключение руководителем фракции и стал ревностным сторонником аннексий. Ещё во время капповского путча он играл двусмысленную роль. В предвыборную борьбу 1920 года его партия, Немецкая Народная партия, наследница старых национальных либералов, вошла со следующим изречением:
От красных цепей тебя освободит
Единственно лишь Немецкая Народная партия.
И теперь это! Неожиданно это был Штреземанн, кто добровольно выплачивал репарации, отказался от Эльзас – Лотарингии, привел Германию в женевскую Лигу Наций, со своим парижским коллегой Брианом проводил германо–французское примирение, подписал договор об отказе от войны как средства государственной политики, воодушевлялся идеями Объединённой Европы и постоянно поддакивал западным победителям. Для немецких правых Штреземанн был беспринципным ренегатом, которого они от всей души ненавидели и презирали. Штреземанн не ненавидел их равным образом, однако презрение он выказывал с процентами. Немецкая молитва, сказал он однажды, гласит: «Наши повседневные иллюзии дай нам сегодня».
Показательное высказывание. Штреземанн внутри вовсе не был ренегатом; он вероятно также не превратился из националистического Савла в интернационалистического Павла, как полагали его почитатели.
Он всегда оставался патриотом и националистом, который во всём, что он делал и не делал, преследовал германские интересы, что ведь вовсе не было постыдным. Однако он вовсе не создавал себе иллюзий и инстинктивно знал, как отделить возможное от невозможного. Напрасные жесты упрямства, которые любили тогдашние немецкие правые, не были его делом, а в отношении фантастическим целей, какие себе позже поставил Третий Рейх, у него было лишь пожимание плечами. Тем не менее, Верхнюю Силезию и «Польский коридор» и он также хотел когда–то вернуть обратно – конечно же, по возможности без войны – и в более отдалённом будущем он также надеялся и на то, что сможет сделать возможным присоединение Австрии. Только вот видел он ясно и отчётливо, что всё это в настоящий момент не стоит на повестке дня. На ней стояли «оковы Версаля», и их нельзя было просто разорвать, однако возможно мало–помалу ослабить, посредством умной политики приспосабливания. С этой политикой он не был нечестен, в крайнем случае, иногда – фразами, в которые он себя одевал. Примирения с Западом он в действительности желал, и с Россией он не искал ссоры. Для чего? Насколько он извлёк уроки из Первой мировой войны, вражда с другими великими державами не оправдывалась для Германии. Для него также было само собой разумеющимся, что побеждённая и ослабленная страна, интересы которой он представлял, не могла вести разговор тем же языком, каким вёл его могущественный рейх его юности. Наложило ли свой отпечаток на его внутренние воззрения приспосабливание к реальности, которое он как таковое честно проводил, превратился ли националист в конце концов вследствие практики и привычки наполовину в интернационалиста – или превратился ли бы, если бы он прожил дольше: этого очевидно он и сам не смог бы сказать.
В другой области в нём более отчётливо произошло такое внутреннее превращение: из убеждённого монархиста Штреземанн с течением времени превратился в сознательного республиканца. В январе 1919 года он послал кайзеру в Доорн [59]59
В Доорне (Голландия) кайзер Вильгельм II проживал в изгнании до своей смерти.
[Закрыть] телеграмму с изъявлениями преданности по случаю дня рождения, и в феврале ещё он публично заявлял: «Я был монархистом, являюсь монархистом, остаюсь монархистом». Однако уже в 1922 году после убийства Вальтера Ратенау он предложил своей партии голосовать за закон о защите республики. «Споры о государственной форме в дни этой тяжелой нужды нашего отечества следует оставить. Мы убеждены в том, что восстановление Германии возможно только на основе республиканской конституции». В 1928 году он даже вышел из Кайзеровского яхт–клуба, с тем обоснованием, что министр республики не может принадлежать к организации, которая всё ещё носит такое имя. При этом в теории он даже всё еще считал монархию наилучшей формой государственного правления, и определённую сентиментальную привязанность к кайзеровским временам он сохранял на протяжении всей жизни. Однако ожесточённая и бесплодная борьба между монархистами и республиканцами, которая заполняла годы Веймарской республики и о которой ныне едва ли имеют представление, со временем делала его всё более нетерпеливым. Теории и сантименты были не для реалиста Штреземанна.
Через это он стал одинокой фигурой, поскольку реализм в Веймарской республике был востребован гораздо менее, чем в нынешней. Трудно определяемым способом Штреземанн стоял между правыми и левыми. Он возглавлял небольшую правую партию, и он служил преимущественно в правительствах правых; однако внешняя политика, которую он проводил, находила своих приверженцев почти исключительно у демократических левых. С другой стороны, они ему не доверяли, поскольку во внутриполитических делах он в конце концов всё же остался консерватором. Его экономические и социально–политические взгляды сегодня определили бы как консервативные, если даже не реакционные. Правда, со временем он этим взглядам придавал всё меньше значения. Важнее было то, что он вообще удерживал республику в управляемом состоянии, создавал коалиции и компромиссы, и тем самым поддерживал прочную основу для своей внешней политики. В этой работе, которая постоянно идёт рядом с внешнеполитической, он себя изнурил. Можно сказать, что она в конце концов стала непосредственной причиной его смерти.
Летом 1929 года снова участвовал в важных и щекотливых, затяжных международных переговорах. На Гаагской конференции в августе речь шла о предполагаемом окончательном урегулировании вопроса о репарациях и одновременно о досрочном освобождении последней оккупированной французами территории в Рейнской области. С этих переговоров он должен был поспешить в Женеву в Лигу Наций, где Бриан предложил первый неясный план для объединенной Европы. Среди этого внешнеполитического высочайшего напряжения в Берлине – ещё раз – разразился правительственный кризис, вызванный его собственной партией. Она отклонила незначительное повышение взноса в систему страхования по безработице и угрожала по этой причине покинуть коалицию. Штреземанн вынужден был вернуться в Берлин, чтобы найти некий компромисс и спасти правительство.
Позже служащие, которые его встретили, говорили, что уже при его прибытии он выглядел отмеченным печатью смерти. Уже в течение двух или трёх лет он был болен: переутомление, неблагодарность и длительное раздражение сыграли свою роль. На 2‑е октября было назначено решающее заседание фракции Немецкой Народной партии. Оно продолжалось и продолжалось час за часом; Штреземанн вынужден был покинуть его из–за приступа слабости, прежде чем было выработано решение. Вечером с ним случился апоплексический удар; второй удар на следующее утро означал конец.
Неожиданная смерть Штреземанна была тогда воспринята как катастрофа, причём в большей степени за границей, нежели в Германии. И позже в ней видели решающее событие, которое лишило Веймарскую республику последней опоры. «Если бы Штреземанн продолжал жить», – так можно было иногда слышать, – «то Гитлер бы никогда не совершил этого». Однако возможно, что это переоценка возможностей Штреземанна. Решающее событие, которое лишило опоры не только Веймарскую республику, но и весь мир, в котором Штреземанн жил и страдал, произошло менее чем через две недели после его смерти: чёрная пятница на Нью – Йоркской бирже, с которой начался великий мировой экономический кризис тридцатых годов. Новая и ужасная эпоха, которая тем самым началась, быстро заставила поблекнуть все проблемы, заботы и борьбу времени Штреземанна. Она создала совершенно другие и более скверные.
Вероятно, в этой тотальной перемене сцены лежит причина того, что вскоре после своей смерти Штреземанну не досталась заслуженная посмертная слава. Его образ принадлежал к короткому промежуточному периоду, который вскоре был перекрыт массами породы исторического землетрясения. Однако этот период создавал он. У немцев более оснований, чем они знают, относиться с уважением к его памяти; и они могли бы всё ещё многому у него поучиться.
(1978)








