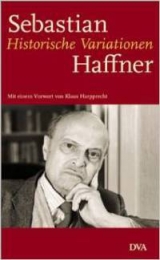
Текст книги "В тени истории (ЛП)"
Автор книги: Себастьян Хаффнер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Совершенно последовательно Польша отклонила тогда также не только союз с Германией против России, который Гитлер хотел навязать ей зимой 1938–1939 гг., но равным образом и русский союз против Германии, который собирались ей навязать Англия и Франция летом 1939 года – с их точки зрения как само собой разумеющийся. Польша не хотела иметь в стране ни германского вермахта, ни Красной Армии, в том числе и как союзников. Можно было бы почти что сказать так: тогда уже лучше в качестве врагов – против них можно по меньшей мере обороняться. Гордая точка зрения; неоднократно к этому добавляли – причем в Англии и во Франции едва ли меньше, чем в Германии и в России – и безрассудная. Однако достоинство польской позиции неоспоримо; и можно ли поведение, которое определяется стремлением к самосохранению, собственно называть безрассудным? Возможно, что Польша в 1939 году была в положении, в котором она могла выбирать только между двумя различными видами смерти. Можно ли порицать, если она выбрала наиболее болезненный, однако самый почётный?
И для Гитлера решающим пунктом, в котором он в конце марта 1939 года переговоры с Польшей посчитал провалившимися, были не разногласия в отношении Данцига, а отклонение Польшей союза. Чего всегда желал Гитлер, и именно безусловно ещё при своей жизни и будучи полным сил, что было его целью в жизни, на что были направлены все его помыслы и стремления – это была война по завоеванию «жизненного пространства» против России. Однако между Германией и Россией находилась Польша. Чтобы подобраться к России, Гитлер должен был таким образом иметь Польшу – «так или иначе»: либо, лучше всего, как зависимого союзника и вспомогательную нацию; либо, если это не выйдет, как завоёванную и оккупированную страну. Или даже – что стало в конце концов результатом – как поделённую с Россией страну. Четвёртый раздел Польши с Россией был, конечно, для Гитлера самой плохой из приемлемых трёх возможностей; однако всё же приемлемой. И она в конце концов дала ему то решающее, за чем он к ней пришёл, а именно непосредственную германо–русскую военную границу.
Первая возможность была взята Гитлером на мушку зимой 1938–1939 года. Она потерпела неудачу из–за сопротивления Польши. Возможность номер два была намечена с апреля, однако ещё не послужила основой для твёрдого решения. Решение обратиться к возможности номер три, к разделу Польши с Россией, было сформировано лишь в августе, и затем разумеется тотчас же, с чрезвычайным нетерпением, оно было приведёно в исполнение.
Большая пауза между мартом и августом, во время которой Гитлер хотя и форсировал свои военные приготовления и продолжал вести войну нервов, но однако оставался полностью пассивным как в области дипломатии, так и в военном смысле – в это время не было больше никаких германских переговоров с Польшей, но также и никаких переговоров с западными державами или с Россией – эта пауза объясняется английскими гарантиями для Польши от 30 марта и англо–французскими переговорами с Россией о союзе, которые заполнили собой всё лето, не приведя к заключению соглашения. Как уже объяснено, они потерпели неудачу из–за отклонения Польшей союза с русскими и отказа впустить в Польшу Красную Армию в качестве союзника. Отказ, который связал руки западным державам – Англия приняла его охотно, Франция менее охотно, в то время как Россия опасалась заключить союз без права вступить на территорию Польши. Она не хотела войны в своей собственной стране.
Часто говорилось, что в этих переговорах состояла последняя надежда на мир и что лишь их провал – в котором на Польше лежит основная вина – обеспечил Гитлеру возможность решиться на войну. Это умозрительные рассуждения. Как стал бы вести себя Гитлер, если бы летом 1939 года осуществился союз Запада и России над головой Польши, не знает никто. По всей вероятности, он сам этого ещё не знал летом 1939 года. Возможно, он устрашился бы на мгновение большой коалиции, отложил бы войну и дал бы себя наградить за эту умеренность Данцигом (цель, которая всё ещё мерещилась английским умиротворителям) – всё в надежде, что западно–восточный союз вскоре будет разорван из–за своих внутренних противоречий. Однако возможно, что он основывался на том, что это произойдёт, и во время войны (чьи тяготы по положению вещей были бы поделены довольно неравномерно), и несмотря ни на что, отважился бы на войну, как в 1941 году он отважился на нападение на Россию несмотря на нерешённую войну с Англией и на угрозу войны с Америкой. Знать это невозможно. Во всяком случае, до начала августа Гитлер не принимал никаких безвозвратных решений. Он принял их лишь тогда, когда стало совершенно ясно, что переговоры о союзе между Лондоном, Парижем и Москвой обречены на провал. После этого Гитлер решился; и решился он теперь именно на намеченную лишь поверхностно возможность номер три – война против Польши в союзе с Россией и раздел Польши между Германией и Россией. С союзом с русскими он хотел одновременно надеяться на то, что западные державы всё же испугаются выполнить свои союзные обязательства по отношению к Польше. Если же нет, то тогда большой, всегда планировавшейся войне на Востоке против России всё же станет предшествовать война на Западе.
Инициатива заключения германо–русского пакта от 23 августа исходила от Гитлера, однако Сталин пошёл ему навстречу с поспешной готовностью, которая резко отличалась от его подозрительной сдержанности во время переговоров о союзе с Западом. Нет сомнений, что тем самым он облегчил Гитлеру решение о начале войны. В его оправдание следует однако учесть, что военные устремления Гитлера – и именно не только те, что касались Польши, но и те, что относились к России – он в основном и так уже несомненно предвидел и что в этом он не заблуждался. Почему он на это пошёл – это стремление отвести эти военные устремления от России; для него законная цель. Вопрос был в том, могло ли это быть достигнуто скорее в союзе с Западом или же в союзе с Гитлером. В союзе с Западом он должен был считаться с тем, что Гитлер вскоре будет у русской границы в качестве врага. В союзе с Гитлером: в качестве партнера на границе, которая всё же пролегает через Польшу. Это говорило в пользу союза с Гитлером. Сверх того Сталин должен был думать о том, что западные державы ведь и без того имеют союз с Польшей и приличия ради должны будут исполнить свои союзные обязательства и без дополнительного союза с Россией. Тем самым он по меньшей мере выигрывал время; возможно, что он вообще избегал войны, если она именно на Западе затянется и силы Германии истощатся. Насчёт первого он предполагал верно, насчёт второго заблуждался.
Без сомнения, сентябрьская война 1939 года была среди всего прочего и трагедией заблуждений. Западные ошибочные расчёты, завышенная самооценка Польши и цинизм русских – все это внесло свой вклад, чтобы сделать её возможной. Однако действительно желал этой войны только один: Гитлер. 11 августа 1939 года в разговоре с Карлом Буркхардтом, который мы уже цитировали, он позволил себе уронить пару фраз, которыми он в виде исключения выразил свои настоящие мысли: «Всё, что я предпринимаю, направлено против России; если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, то я буду вынужден договориться с русскими, разбить Запад, и затем после его поражения со всеми своими собранными силами обратиться против Советского Союза». Хотя в этом высказывании Польша ни разу не упомянута, оно содержит ключ к войне, которую начал Гитлер 1 сентября.
(1979)
Заметки о политике
Политика и здравый смыслИстория – это застывшая политика вчерашнего дня, политика – это ещё текущая история завтрашнего дня.
Является ли политика в нормальном случае разумной? Являются ли политика и здравый смысл определениями, которые составляют одно целое? Я не хочу умалчивать о том, что придерживаюсь того мнения, что так и есть. Но это не является бесспорным мнением. Существует также точно обратная точка зрения: что политика – это та область, в которой как раз иррациональное собственно является определяющим и решающим, то есть воля, в особенности стремление к власти и демонизм власти, личное или коллективное честолюбие, помыслы о престиже, массовый самообман и табу, однако также и такие вещи, как душа народа и дух народа, мифы, органически выросшее, традиции: всё, что угодно – только не трезвое, холодное, плоское, мелкое, скучное благоразумие.
Как раз в Германии это второе мнение, давайте назовём его иррационалистическим взглядом на политику, преобладает долгое время. И именно не только в нацистское время, в котором оно достигло наивысшей точки. Карл Шмитт, единственный значительный политический мыслитель, который способствовал национал–социализму, объявил основополагающим принципом всех политических идей и поступков схему друг–враг, то есть пожалуй самое иррациональное, самое эмоциональное, что есть в человеческой жизни. Я боюсь, что он перепутал политику и войну – хотя война ведь в определённом смысле как раз является крушением политики.
Однако Карл Шмитт смог тем самым продолжить долгую и почтенную традицию. Политические мыслители романтизма и историзма, Ницше, Якоб Буркхардт, Макс Вебер, Шпенглер – все были едины в том, что политические стремления и поступки неминуемо произрастают из глубоких иррациональных корней – и должны произрастать, если хотят достичь настоящей силы – силы осуществления и пробивной силы, способности к достижению победы, непобедимости народа. Всё немецкое политико–историческое мышление 19‑го и тем более 20‑го века до 1945 года с определённым пренебрежением свысока смотрело на здравый смысл в политике – на трезвый расчет интересов, на осторожную оценку сил, на компромисс, на приспосабливание, на согласования, на весь тот политический рационализм, который выражается в словах: «Политика есть искусство возможного». Для немецких политических мыслителей последних ста пятидесяти лет политика была гораздо более чем–то вроде коллективной самореализации и самораскрытия – без оглядки на потери, как можно было бы добавить. Естественно не случайно, что в конце этих ста пятидесяти лет немецкого политического иррационализма был 1945 год. В этом виде политического мышления катастрофа была заранее предрешена так же, как смертельное дорожно–транспортное происшествие в жизни водителя, который использует вождение автомобиля не как искусство адаптации и упорядочения, а скорее как самореализацию и самораскрытие: который хочет не доехать до места целым и невредимым, а желает ощущать себя королем дороги и повелителем пространства и времени.
Однако я не хочу настолько облегчить себе задачу, чтобы объяснять этот вид политического иррационализма, это виталистическое, демоническое, трагическое понимание истории, которое одновременно является пониманием политики (ведь история и политика – это одно и то же, только в различных агрегатных состояниях: история – это застывшая политика вчерашнего дня, политика – это ещё текущая история завтрашнего дня) просто как опровергаемые германской катастрофой 1945 года. Его наиболее яркие представители, Ницше например, были ведь вполне готовы принять трагедию и катастрофу, и так сказать заранее встроить их в свою политическую философию. Они постулировали amor fati [39]39
Фатальная любовь; любовь к судьбе (?) – лат. язык
[Закрыть] – любящее согласие со своей собственной судьбой, в том числе трагической судьбой. История – и тем самым и политика – была для них как раз трагедией, была ей возможно всегда и неизбежно, и трагический герой, который доблестно погибает, был более заманчивым идеалом, чем осторожный счетовод, который бесславно его переживает.
Об этом тяжело дискутировать. Я также не хочу спрашивать, чем должна быть политика, но задам лишь вопрос, что такое политика в нормальном случае. Это демоническая область, трагический всемирный театр, или же это область трезвого благоразумия, расчетливого приспосабливания и осторожного упорядочения?
Очевидно, что это и то, и другое, однако мне представляется, из объективных причин, что принцип благоразумия в политике должен быть господствующим, изначальным. А именно потому, что мы в общем можем наблюдать то, что с ростом ответственности растёт роль здравого смысла.
Я хочу это кратко объяснить: отдельный человек – это не очень–то здравомыслящее существо. У него есть благоразумие, однако у него есть также многое другое – влечения, причуды, симпатии и антипатии, идеалы, совесть – и всё это господствует над ним в его частной жизни гораздо более и определяет его малые и большие жизненные решения гораздо чаще, чем здравый смысл. Это тоже совершенно нормально. Чисто здравомыслящее человеческое существо, которое живёт осторожно и расчётливо для своего самосохранения и для своей пользы, и более ни для чего – это не особенно симпатичное явление.
Однако уже человек, который основывает семью, «становится здравомыслящим». Ничего удивительного – он принимает на себя ответственность. Он должен думать о супруге и о детях. Он не может более себе позволить просто следовать своим влечениям и прихотям или своим симпатиям и антипатиям, или даже, в любой ситуации, своим идеалам и своей совести. Если же он всё–таки это делает, то это вовсе не производит более столь безусловно симпатичного впечатления – однако по большей части случаев он этого вовсе не делает. Тут действует определённый психологический автоматизм. Ответственность усиливает здравый смысл.
И именно тем более, чем большую область она охватывает. Крестьянин на своём подворье, ремесленник в своей мастерской, торговец, предприниматель, руководитель большого предприятия, служащий, банкир – все они действуют в своей профессиональной и производственной жизни непоколебимо здравомысляще. Им совершенно не приходит более в голову мысль поступать иначе. В своей частной жизни они могут быть эксцентричными или идеалистами, в профессии и в бизнесе они действуют, ни на миг не колеблясь, так, как требуют профессия и бизнес – они поступают целесообразно, трезво, логично, взвешенно, здравомысляще. Естественно, тем не менее они совершают ошибки – человеческое благоразумие не является безошибочным. Но того, чтобы они преднамеренно стали бы действовать неблагоразумно, чтобы стремиться к трагической самореализации – в бизнесе? Этого никто не будет ожидать от них.
Однако несомненно, что предприятием величайшей ответственности является политика, то есть забота о функционировании государства. Политик и государственный деятель несёт ответственность не за полдюжины человек, как отец семейства, или, как бизнесмен, за пару сотен или даже пару тысяч человек, чьё существование зависит от его предприятия, а за народ государства численностью в миллионы. Необходимость здравого смысла таким образом здесь, и лишь здесь достигает своей кульминации. Говорят или же говорили также о raison d'Etat – государственном благоразумии – которое должно определять все политические поступки. Великие государственные деятели и государственные мыслители ставили это государственное благоразумие даже совершенно осознанно выше, чем мораль, гуманность и совесть. Ну, об этом можно спорить. Однако бесспорно оно стоит неизмеримо выше, чем чистая страсть, произвол, желания, чувства дружбы и вражды!
Политика, государство как предприятие: это, просто по своему положению на шкале человеческой ответственности, совершенно первейшая область здравого смысла, то есть трезвого реализма и расчёта интересов, осторожного взвешивания, осмотрительного расчёта всех аспектов и последствий решения, холодного подавления предвзятых желаний и спонтанных чувств. (Особенно опасны чувства негодования!) И только та политика, которая с жесточайшей самодисциплиной склоняется перед требованиями здравого смысла – как в постановке целей, так и в выборе средств – со временем становится успешной.
К этому добавляется ещё нечто иное, что делает политику собственно областью здравого смысла. Главнейшая заповедь здравого смысла называется самосохранение. Самосохранение достаточно важно и для отдельного человека; однако в целом можно себе представить, что оно для него не есть самое высшее и последнее. Однако для государства это так и есть – безусловно. Человек существо недолговечное, и вторая половина его жизни – или последняя четверть – обычно скорее печальна. Взамен у него есть потомки. У государства потомков нет; зато оно может быть очень долговечным – если оно здравомыслящее. И ему не нужно стариться. Поэтому для государства самосохранение действительно это самое высшее и последнее, да, это для него – всё. Государство не может жертвовать собой для своих потомков – или для спасения своей души, или за какой–либо идеал, как отдельный человек. Для отдельных людей это может дать осмысленное неблагоразумие; для государства же не может. Отдельный человек может жертвовать собой осмысленно. Государство, которым жертвуют посредством неблагоразумия, приносится в жертву бессмысленно – в любом случае. Высочайшая заповедь здравого смысла, самосохранение, это также самое высшее политическое требование. Политическое благоразумие, государственный здравый смысл, в этом смысле является чистым благоразумием – просто благоразумием.
Однако в человеческой жизни – а политика ведь также является жизнью людей – как известно, ничто не совершенно; змея всегда находится вблизи древа познания. Политика – это не только область высочайшей ответственности и потому высочайшего и самого твердого здравого смысла. Она также – мы все это знаем – это область чрезвычайных страстей, область вдохновения и преступлений: демоническая область. У этого две причины – что примечательно, противоположные причины.
Одна из причин состоит в том, что политика должна иметь дело с властью – сильнейшим наркотиком, который она даёт. Кто желает заниматься политикой, тот должен иметь власть. Однако власть коррумпирует; часто уже путь к власти, почти всегда неограниченное обладание ею. Для иллюстрации этого примеры не требуются.
Демократия теперь верит, что она нашла средство от коррупции власти: она даёт только на время ограниченную и контролируемую власть, и она даёт её только по требованию. Вместо королей и цезарей она знает, по меньшей мере в принципе, так сказать только подотчётных высших служащих, менеджеров и руководителей предприятий. Таким образом она надеется, что будет иметь власть укрощённой, а ответственность усиленной. Однако, совершенно не говоря уже о том, что это не всегда удаётся и что очень сильные политики порой и при демократических формах правления приобретают почти диктаторскую власть, и демократия не застрахована от демонического неблагоразумия в области политики. Её угроза называется не мания величия, а мания масс.
Способность масс совращаться столь же вошла в поговорку, как и совращение властью. И она ужасающим способом тем больше, чем более опустошается индивидуальная жизнь, чем более она становится стандартизованной, заранее предопределённой и предписанной. Скучающий, занормированный массовый человек легко ищет в политике упоения, разгула, острых ощущений – в том числе и высшего восторга и избытка, чудесного поднятия над самим собой, которое он в отдельной жизни более не находит. Но как раз к отдельной жизни всё это и принадлежит. В политику это не входит.
Возможно, вовсе не случайно, что иррационализм в политике и политической философии возник одновременно с механизацией и индустриализацией жизни. Возможно, что политика лишь тогда снова станет благоразумной, когда жизнь отдельного человека снова станет интересной.
Так что политика – это область как здравого смысла, так и демонов. Вслед за чем она приходит – на это следует правильно поставить акцент: благоразумие в политике приветствовать, к неблагоразумию пристально присматриваться, чтобы поставить ему границы. Ошибка, которую совершила немецкая политическая философия последних ста пятидесяти лет, состоит не в том, чтобы распознать зловещее действие иррационального и демонического в политике. Ошибка была в том, что она этим восхищалась, а политическим здравым смыслом пренебрегала. Остатки этой ошибочной установки ценностей мы все ещё тащим с собой – и не только из нацистского времени. Будем же держать их под жёстким контролем. Цена за политическое неблагоразумие – которое вовсе не всегда должно быть низким и неблагородным – в последнее время чудовищно выросла. Она может быть сегодня не меньше, чем гибель народа.
(1966)








