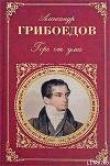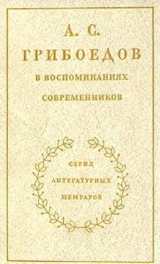
Текст книги "А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников "
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Возвратясь в свою палатку часу во втором после полночи, я продиктовал Ахвердову, при мне находившемуся в должности адъютанта, письмо от Паскевича к Сипягину, в коем пояснено было вкратце все дело, не упустив ничего того, что могло служить к представлению дела сего в настоящем виде, т. е. победы, означив число пленных, знамен и проч. Но как я удивился, когда, по прочитании письма сего Паскевичу, я увидел, что он выходил из себя. "Кто это писал?" – закричал он. "Я писал". – "Кто писал?" – возразил он снова. "Писал Ахвердов по моей диктовке". – "Arretez–moi cet homme, – закричал он, – c'est un petit coquin" [Арестуйте этого человека, он мошенник (фр.).]. Я, разумеется, не арестовал его, а спросил Паскевича, чем Ахвердов провинился. "Вы, сударь, – отвечал он мне в пылу, – не поместили всего в реляции". – "Это не реляция, – сказал я, – а короткое письмо в предупреждение генерала Сипягина до отправления настоящей реляции, которую вы мне не приказывали написать". – "Вы, сударь, скрыли число пленных ханов: их взято семь, а не три, как вы написали". – "Их взято только три". – "Неправда, сударь, семь взято; сочтите их в палатке". В палатке точно сидело семь человек пленных с ханами, но в том числе были и прислужники их, что я ему и объяснил; но он не хотел принять сего. "Вы написали мало пленных, – продолжал он. – Алексею Петровичу Ермолову написали бы вы 30 ханов и 30 000 неприятельского урона, а мне вы не хотите написать семи ханов <...>. Но я знаю, что это все последствия интриг ваших с Ермоловым: вы хотите затмить мои подвиги и не щадите для достижения цели вашей славы российского оружия, которую вы также затемнить хотите, дабы мне вредить". Слова сии были столь обидны, что я не мог выдержать оных. "Ваше высокопревосходительство обвиняете меня, стало быть, в измене, – отвечал я. – Обвинение сие касается уже до чести моей, и после оного я не могу в войске более оставаться. Прошу вас отпустить меня теперь в Тифлис". – "Как вы смеете проситься?" – сказал он. "Я доведен до крайности". – "Но вы знаете, что теперь ни отпусков, ни отставок нет". – "Знаю, а потому и уверяю вас, что моя главная цель состоит единственно в том, чтобы не служить под начальством вашим; каким же образом достигну до оной, до того мне дела нет. Вы меня до того довели, что я буду счастлив удалиться отсюда под каким вам угодно будет предлогом. Угодно вам, отпустите меня; угодно, командируйте по службе; угодно, ушлите, удалите со взысканием, как человека неспособного, провинившегося, с пятном на всю мою службу. Я уверяю вас, что всем останусь довольным, бы не при вас служить". – "Хорошо, – сказал он с видом гораздо спокойнее, – я ваше дело решу ужо, а теперь прошу вас до того времени продолжать занятия ваши по–прежнему". Я пошел к Грибоедову, рассказал ему все происшествие и объяснил, что более в войске не остаюсь. Сколь ни было прискорбно Грибоедову, по родствуу его с Паскевичем, видеть ссору сию, но он не мог не оправдать поведения моего в сем случае [10].
<1828 год.>
25–го <июля> ввечеру я виделся на весьма короткое время с Грибоедовым, который, отъезжая в Персию в звании генерального консула, заехал повидаться с Паскевичем и принять от него приказания. Но сему посещению была еще следующая причина. Грибоедов съездил курьером к государю с донесением о заключении мира с Персиею, получил вдруг чин статского советника, Анну с бриллиантами на шею и 4000 червонцев. Человек сей, за несколько времени перед сим едва только выпутавшийся из неволи, в которую он был взят по делу заговорщиков 14 декабря и в чем он, кажется, имел участие (за что и был отвезен с фельдъегерем в Петербург к допросу), достижением столь блистательных выгод показал редкое умение свое. Сего было мало: он получил еще в Петербурге место генерального консула в Персии с 7000 червонцами жалованья, присвоенными к сему месту. Грибоедов, таким образом, вмиг сделался и знатен, и богат. Правда, что на сие место государь не мог сделать лучшего назначения; ибо Грибоедов, живши долгое время в Персии, знал и хорошо обучился персидскому языку, был боек, умен,, ловок и смел, как должно, в обхождении с азиатцами. Притом же, по редким способностям и уму, он пользовался всеобщим уважением и лучше кого–либо умел поддерживать в настоящей славе звание сие как между персиянами, так и между англичанами, имевшими сильное влияние на политические дела Персии и пребывающими постоянно в Тавризе, под предлогом учителей или образователей регулярного войска.
Я, кажется, выше упоминал, в каких личных сношениях я находился с Грибоедовым. Я был весьма далек от того, чтобы к нему иметь дружбу и (как некоторые имели) уважение к его добродетелям, коих я в общем смысле овеем не признавал в нем, а потому и не буду повторять сего. Но как я сам удалялся от него, то и всякое сближение его с семейством моим было для меня неприятно. Мне всегда было досадно видеть, сколько Прасковья Николаевна <Ахвердова> имела к нему доверенности, и тел неприятнее было узнать о сильном участии, которое она приняла в помолвке Грибоедова на Нине Чавчавадзевой, ибо он к нам под Ахалкалаки приехал, к удивлению всех, уже женихом ее [12].
Грибоедов имел много странностей, а часто и старался прослыть странным, для чего говорил вещи странные и удивлял других неожиданностью своих поступков. Нина прежде еще его несколько занимала, и как он извлекал изо всего пользу для своей забавы, то пользовался пущенным о том слухом, дабы выводить из себя ее страстного обожателя Сережу Ермолова. За это однажды у них дошло было почти до поединка, что и прекратило насмешки Грибоедова. Приехавши из Петербурга со всею пышностью посланника при азиатском дворе, с почестями, деньгами и доверенностью главнокомандующего, коего он был родственник, Грибоедов расчел, что ему недоставало жены для полного наслаждения своим счастьем. Но, помышляя о жене, он, кажется, не имел в виду приобретение друга, в косм мог бы уважать и ум, и достоинства, и привязанность. Казалось мне, что он только желал иметь красивое и невиннее создание подле себя для умножения своих наслаждений. Нина была отменно хороших правил, добра сердцем, прекрасна собой, веселого нрава, кроткая, послушная, но не имела того образования, которое могло бы занять Грибоедова, хотя и в обществе она умела себя вести. Не имея никого другого в виду, Грибоедов думал о Нине и с сими думами отправился в Гумры, дабы оттуда приехать в Каре к Паскевичу, но дорогою вздумал жениться и внезапно возвратился в Тифлис, приехал ко мне в дом и открыл свое намерение Прасковье Николаевне, которая от сего была в восхищении. Кроме того, что она надеялась видеть их счастливыми, потому что заблуждалась насчет Грибоедова, ей льстил выбор Грибоедова, ибо Нина была ею воспитана. Она, может быть, вспомнила вскоре после первой радости своей, что сие супружество подает ей средства поправить свои дела по доверенности, которую Грибоедов имел у Паскевича. Она вмиг побежала к Чавчавадзевым и без затруднения нашла скорое согласие на сие матери и бабки Нины, двух грузинок, из коих последняя хотя и умная женщина, но прельщалась связью и сближением с великою, единою ведомою им властью главнокомандующего в Грузии, коего участие было весьма нужно врасстроенном состоянии дел семейства их и тяжбах <которые они> имели с казною.
Грибоедову сказано было испросить согласие Нины. Он к сему приступил весьма простым образом и получил оное. Нина после говаривала, что она давно уже имела душевную склонность к Грибоедову и желала его иметь супругом. Все сие было улажено у меня в доме. Послали курьера к отцу Нины, который начальствовал войсками и областью в Эривани, и ответ от него получен, без сомнения, утвердительный; он всех более радовался сему союзу.
Итак, Грибоедов из Тифлиса приехал к нам в Ахалкалакский лагерь женихом. Я его видел, так сказать, мельком в палатке у Паскевича, и он хотел уже со мною быть на родственной ноге, ибо Ахвердовы были через князей Челокаевых в родстве с Чавчавадзевыми; но я не отвечал ему тем же образом, и он мог видеть во мне прежнюю мою недоверчивость к нему. Мне весьма не нравилось, напротив того, сближение его с моим семейством, и я безошибочно был уверен в сильном участии, которое Прасковья Николаевна принимала в сем браке. И Сережа Ермолов был в досаде, но он старался скрыть сие и говорил, что более не думает о Нине и желает ей всякого счастья.
Грибоедов женился по возвращении в Тифлис со всею пышностью посланника и с таковою же отправился вместе с женою в Персию, где он был убит в народном возмущении. Происшествие сие будет описано в своем месте. К удивлению многих, прочитали в журнале Греча после смерти Грибоедова напечатанное письмо его к Гречу, в коем он описывает обстоятельства его женитьбы. На Нину он взирал более как на забаву, чем на жену [13]. Я дал сие заметить Прасковье Николаевне, коей выражения его также не нравились; но, будучи уже слишком ослеплена им, она не могла сознаться в своем ошибочном о сем человеке понятии.
27 июля войска переменили лагерь и подвинулись на 3 версты вперед. 29–го был размен ратификации мирного трактата с Персиею, в коем, вероятно, был действующим лицом со стороны Персии приехавший Исмаил–хан, или мирза Исмаил. Грибоедов поехал в Тифлис, где и женился, и оттуда выехал с женою к своему месту в Персию.
Описывая разные связи и интриги Тифлиса, нельзя умолчать о причинах, которые, как кажется, подали повод к сближению Грибоедова с З<авелейским>, каковое всем казалось безобразным по совершенному различию сих двух особ.
Когда Грибоедов ездил в Петербург, увлеченный воображением и замыслами своими, он сделал проект о преобразовании всей Грузии [14], коей правление и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании наподобие Восточной Индии. Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сей компании, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а главнокомандующего членом; вместе с сим предоставил он себе право объявлять соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с соседними державами. Все сие было изложено красноречивым и пламенным пером, и, как говорят, писцом под диктовку Грибоедова был З<авелейский>, которого он мог легко завлечь ив коем он имел пылкого разгласителя и ходатая к склонению умов в его пользу. Грибоедов посему старался и многих завлечь; он много искал сближения со мною, но я всегда удалялся от него. Когда он приезжал в Ахалкалаки на короткое время, обручившись с Ниною Чавчавадзевой (супружество, предпринятое им в тех же пламенных и пылких ожиданиях, по коим он сам хотел преобразоваться в жителя Грузии, супружество, – которое никогда не могло быть впоследствии времени счастливым по непостоянству мужа и коему покровительствовала ослепленная Грибоедовым Прасковья Николаевне), он замолвил о своем проекте Паскевичу (что было уже в отсутствие мое к Хыртысу) и, говорят, настаивал, чтобы приступлено было к завоеванию турецкой крепости Батума, что на Черном море, как пункта, необходимо нужного для склада в предполагаемом распространении торговой компании. Говорят, что Паскевич несколько склонялся к сему, увлеченный надеждою на легкие сношения с царевною Софьею, правившею тогда Гуриею в соседстве с той стороны с Турциею, женщиною довольно молодою еще, собою видною и известною в том краю по бойкости своей и влиянию, которое она в народе имела. Не будучи расположена с усердием к русским, она впоследствии времени бежала в Требизонт с несовершеннолетним своим сыном и через то фамилия сия лишилась права на владение Гуриею, для управления коей, кажется, назначен был и русский комендант. Не могу утвердительно сказать, но кажется, что даже были тогда сделаны некоторый прибавления к сей экспедиции. После того генерал Гессе, предпринимавший несколько походов из Имеретии в ту сторону, имел постоянные неудачи. Проект сей, уничтожающий почти совершенно власть Паскевича, не мог ему нравиться, и он впоследствии времени не был взят во внимание никем. Когда же Грибоедов, женившись, уехал Персию, то З<авелейский>, полагая себя как бы померенным Грибоедова, сильно вступался за оный и уверял даже, что он находится на рассмотрении у министра финансов в Петербурге. Таким образом, он мне однажды прочитал довольно длинное вступление к сему проекту. Оно было начертано Грибоедовым и было чрезвычайно завлекательно как по слогу, так и по многоразличию новых мыслей, в оном изложенных; но по внимательном рассмотрении вся несообразность огромного предположения сего становилась ясною, и никто не остановился бы на сем любопытном, но неудобосостоятельном предположении, от коего З<авелейский> приходил в восторг. Я же готов думать, что Грибоедов, получив назначение министра в Персии, значительные выгоды и почести, сделался равнодушнее к своему проекту и, обратись к новому, предмету, стал бы о прошедшем говорить с улыбкою, как о величественном сне, им виденном, причем, вероятно, не пощадил бы и З<авелейского>, к коему невозможно было, чтобы он имел дружбу или уважение. <...>
Однажды поутру З<авелейский> приехал ко мне и с большим смущением объявил мне в тайне, что из Персии получено известие, что Грибоедов убит в народном, возмущении. Он показывал заботу, как довести известие сие до сведения Прасковьи Николаевны и семейства Чавчавадзевых. Первой не было дома; по возвращении ей объявили о смерти Грибоедова, и так как она к нему в; особенности благоволила, то и огорчилась сим известием и несколько времени плакала. От Чавчавадзевых долго скрывали сие известие; но как оно уже сделалось гласным во всем городе, то Прасковья Николаевна рассудила за лучшее объявить о сем матери и бабке Нины, дабы предупредить неосторожное и внезапное объявление сего Родственниками, грузинами, которые по нескромности своей могли сие сделать не вовремя и не впору и через сие испугать женщин и наделать новой тревоги: ибо они Нину любили без памяти и, не имея настоящих сведений о положении ее в Персии, стали бы весьма беспокоиться. Объявление Прасковьи Николаевны произвело много хлопот; слезы, вопли, стоны не умолкали в соседстве нашем, их было слышно из нашего дома; но к сему случаю были припасены лекарства и все нужные средства, и последствий никаких не было. Мать Нины, княгиня Саломе, билась, кричала и с нетерпением переносила скорбь свою; но старуха княгиня Чавчавадзе проливала в тишине слезы, и горесть ее изъявлялась молчанием и задумчивостью. Шеншина сия была почтенная и всеми уважена.
Засим желали иметь подробнейшие известия о смерти Грибоедова, но никто их не мог дать. Говорили, что приехал курьер, передавший бумагу, в коей было написано, что он убит или умерщвлен злодейски в Тегеране, в народном смятении, со всем посольством своим, и что спасся только один чиновник Мальцов. Между тем Нина оставалась в Тавризе; она была беременная, молодая женщина, едва супругою взятая из дома родительского и оставшаяся одна среди народа безнравственного, разъяренного. Сие могло точно всех беспокоить, и положение ее было истинно бедственное. Отец ее был окружным начальником в Эривани; он, кажется, просился ехать в Персию, дабы вывезти дочь свою, по ему было дозволено ехать только до границы. Кажется, при Нине оставался двоюродный ее брат Роман Чавчавадзе; или, по крайней мере, он скоро приехал к ней, и, сколько было у него сил, он старался ей помочь, заступая в то время место покровителя ее, и дело об убиении ее мужа было от нее скрыто до самого возвращения ее в Тифлис.
Теперь должен я изложить, с известными мне подробностями, обстоятельства смерти Грибоедова, о коей столько говорят и имеются различные мнения. Иные утверждают, что он сам был виною своей смерти, что он не умел Еести дел своих, что он через сие происшествие, причиненное совершенным отступлением от правил, предписанных министерством, поставил нас снова в неприятные сношения с Персиею. Другие говорят, что он подал повод к возмущению через свое сластолюбие к женщинам. Наконец, иные ставят сему причиною слугу его Александра... [15] Все же соглашаются с мнением, что Грибоедов, с редкими правилами и способностями, был не на своем месте, и сие последнее мнение, кажется, частью основано на мнении самого Паскевича, который немного сожалел о несчастной погибели родственника своего (он был двоюродный графине), невзирая даже на важные услуги, ему Грибоедовым оказанные, без коего он, может быть, не управился бы в 1826 и 1827 годах при всех кознях и ссорах, происходивших в Грузии во время смены главнокомандующих, и без помощи коего он бы не заключил столь выгодного с Персиею мира. Паскевич имел неудовольствия на Грибоедова, и причиною оных было то, что последний, будучи облечен званием министра двора нашего в Персии, должен был сообразоваться с данными ему из Петербурга наставлениями и не мог слепо следовать распоряжениям Паскевича. Прямые же сношения Грибоедова с министерством иностранных дел, минуя Паскевича, были неприятны последнему. Я же был совершенно противного мнения.
Не заблуждаясь насчет выхваленных многими добродетелей и правил Грибоедова, коих я никогда не находил увлекательными, я отдавал всегда полную справедливость его способностям и остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте, что он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию и что не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места. Он был настойчив, знал обхождение, которое нужно было иметь с персиянами, дабы достичь своей цели, должен был вести себя и настойчиво относительно к англичанам, дабы обращать в нашу пользу персиян при доверенности, которую англичане имели в правлении персидском. Он был бескорыстен и умел порабощать умы если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то твердостью. Едиными сими средствами Грибоедов мог поддержать то влияние, которое было произведено последними успехами оружия нашего между персиянами, которые на нас злобствовали и по легковерию своему готовы были сбросить с себя иго нашего влияния по случаю открытия турецкой войны (а на нее были обращены почти все наши войска). Сими средствами мог он одолеть соревнование и зависть англичан. Он знал и чувствовал сие. Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством Персидским. Если б он возвратился благополучно в Тавриз, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось; но в сем ратоборстве он погиб, и то перед отъездом своим одержав совершенную победу. И никто не признал пи заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела!
Грибоедов поехал из Тавриза в Тегеран, дабы видеться с шахом, а между тем и кончить некоторые дела по требованиям нашим на основании мирных договоров, которых персияне не хотели было исполнить. Он достиг цели своей, и между сими домогательствами ему удалось даже извлечь из гарема Аллаяр–хана (зятя шахского и первого министра его, первой особы в Персии, того самого, который был взят нами в плен при занятии Тавриза) двух армянок,, взятых в плен в прошлую войну в наших границах, кои находились у него в заложницах и о возвращении коих, на основании мирных договоров, ходатайствовали, кажется, родители пленниц. Сие могло удасться только одному Грибоедову; ибо шах был вынужден отдать приказание зятю своему (нашему первому в Персии врагу) о возвращении их только по неотступной настойчивости и угрозам Грибоедова. Женщины сии были приведены к нему в дом, где и ожидали выезда посланника, дабы с ним следовать в Тавриз и оттуда на родину. Но озлобленный и ревнивый Аллаяр–хан не мог перенести ни оскорбления, ему нанесенного, ни удаления своих наложниц. Он стал волновать народ и даже в мечетях приказал произносить на пас проклятья, дабы более остервенить против нас чернь. В народе было заметно волнение уже несколько дней. О сем предупреждали Грибоедова; но он пренебрегал слишком персиянами и, будучи убежден в преимуществе, которое он имел над ними, был уверен, что одного появления его, одного присутствия его будет достаточно, чтобы остановить толпу; притом же уклонение казалось ему мерою неприличною, и страх не мог им овладеть. Между тем волнение усиливалось, народ начинал толпиться на улицах и площадях и произносить оскорбительные для посланника нашего выражения и угрозы. Недоставало только искры, от коей бы пламя занялось, и искра сия вскоре показалась.
Слуга Грибоедова, Александр, молодой человек, преизбалозанный и коего он находил удовольствие возвышать против звания его ... человек сей стал приставать к армянкам, содержащимся в доме. Женщины сии, может быть, и до сего уже недовольные тем, что их взяли из пышного гарема для возвращения в семейства, где бы они стали вести жизнь бедную и в нужде, оскорбленные ласками и приемами Александра, выскочили в двери и, показавшись на улице, стали кричать, что их бесчестят, насильничают. Что между ними было, того никто не знает; ибо свидетелей никого не осталось. Иные говорили, что будто сам Грибоедов хотел их прельстить; но сие невероятно, не потому, чтобы он не в состоянии был оказать неверность жене своей (я полагаю, что правила его не воспрепятствовали бы сему), но он бы не сделал сего никогда, дабы не навлечь порицания званию своему, особливо в тогдашних обстоятельствах и сношениях своих с Аллаяр–ханом.
Происшествия сии я рассказываю по тем сведениям, которые я мог изустно собрать; за точную же справедливость оных ручаться не могу.
В сие уже смутное время армянин Рустам, молодец собою, тот самый, который первый схватил Аллаяр–хана (когда его в плен взяли при занятии Тавриза, что выше описано), шел по городу и, по обыкновению своему, расталкивал с дерзостью толпившийся на базаре народ. Кажется, возвращаясь в дом посольства, Рустам был окружен разъяренною толпою. Он стал защищаться, но был вмиг растерзан; его умертвили, волочили по улицам труп его и, рассекши оный на части, разметали.
Народ собрался с шумом перед домом посланника (который тогда из осторожности заперли) и требовал выдачи одного армянина, служившего при посольстве, как и Рустам, в должности курьера. После некоторых переговоров, не знаю кем веденных, армянина выдали, и он был в то же мгновение повешен перед домом посольства.
Сими жертвами народ не удовольствовался и, поощренный успехом, стал требовать самого посланника. Разбивши караул, стоявший у дома и состоявший из 16 или 20 персидских джанбазов с офицером, из коих 2 или 4 солдата было убито или ранено, народ вломился во двор и напал на людей, чиновников и казаков посольства, которые долгое время защищались, удерживая с упорством всякую дверь. При посольстве сем было около пятнадцати линейных казаков, молодцов, которые отличились в сем случае мужеством своим, побили много персиян, но все погибли, защищая начальника своего.
Мне говорили, что ужасный приступ сей продолжался более двух часов, и я удивляюсь, что Грибоедов сам тут не присутствовал. Но сие невероятно: не в подобном случае упал бы дух в сем человеке, мне довольно известном. Может быть, что сведения по сему предмету недостаточны, ибо почти никого свидетелей не осталось: почти все чиновники, слуги посольства и казаки были растерзаны, и в числе их и слуга Грибоедова Александр. Когда народ осадил уже и самую комнату, в коей находился Грибоедов, рассказывают, что он тогда отпер двери и стал у порога, показываясь народу, и с бодрым духом спросил, чего они хотят. Внезапное появление его, смелая осанка, выражение слов его (он знал хорошо по–персидски) остановили разъяренную толпу, и дело пошло на объяснения, как Грибоедов был неожиданно ударен и повержен без чувств на землю большим камнем, упавшим ему на голову. Персияне, встречая сильные затруднения к достижению посланника, еще с самого начала приступа обратились к плоским крышам, по коим, добежав до покоя Грибоедова, разрыли землю, покрывавшую оный, разобрали слабый потолок и во время разговора пустили роковой камень на голову Грибоедова. Надобно, впрочем, полагать, что встреча его с народом несколько украшена. Народ можно было остановить до кровопролития; но после долгого и упорного боя вряд ли присутствие лица, на коем возлегало все мщение народа, сколь бы оно ни осанисто было, могло бы остановить чернь. Надобно также думать, что Грибоедов не был до того времени в совершенном спокойствии, ибо вмиг нельзя разгородить и разобрать крышу, дабы пустить сквозь оную камень; все сие происходило, вероятно, в шуме и в драке.
Но с роковым камнем кончилось и все. Вслед за сим ударом последовал удар сабли, нанесенный Грибоедову одним из присутствующих персиян, и после того толпа уже бросилась на него, поразила многими ударами, и обезображенный труп Грибоедова выброшен на улицу. Дом посольства был разграблен, и лучшие вещи, принадлежавшие чиновникам, очутились вскоре у шаха, который не упустил и сего случая для удовлетворения своему корыстолюбию.
Из хода сего дела заключают, что сам шах и все персидское правительство знало об умысле Аллаяр–хана и тайно допустило совершение злодеяния; полагали даже, что англичане, видя верх, который Грибоедов над ними начинал брать, из–под руки склоняли главных чиновников Персии к дерзкому поступку. Нельзя полагать, чтобы они хотели довести дело до такой степени; но весьма немудрено, что они желали какого–либо происшествия, последствием коего было уничижение нашего посланника и уменьшение его влияния.
Участие, принятое в сем смертоубийстве персидским правлением, ясно доказывается тем, что оно было заблаговременно предуведомлено о намерении народа, тогда еще, как Грибоедову советовали укрыться в смежной с квартирою его армянской церкви, из коей ему бы можно было уклониться и бежать из Тегерана, что он отверг с презрением. Люди, доведшие сие до сведения шаха и губернатора Тегерана (одного из сыновей его), будучи преданы нам, просили помощи и присылки войск для разогнания собравшегося народа; но шах и губернатор медлили, вероятно с намерением, дабы допустить злодеяние, и отряды персидской пехоты пришли к квартире посланника, когда уже все было кончено. Иные полагают, что шах, знавши остервенение, в коем чернь находилась, опасался противуборствовать оной, дабы не обратить оную на себя. Впрочем, и войско равно ненавидело русских и вряд ли стало бы действовать против народа. После говорили мне, что и слухи об упорной защите посольского персидского караула были несправедливы, что караул сей, увидя решительность народа, тотчас разошелся и что едва ли один из солдат оного был легко ранен; говорили даже, что и они приняли участие в разграблении посольского дома.
Из всего посольства спасся тогда только один чиновник Мальцов. Иные говорят, что он при начале волнения побежал в шахский дворец, дабы просить от персидского правительства помощи; но кажется, что дело иначе было. Мальцов укрылся в нужное место, как говорят, и средство к уклонению его было дано ему одним армянином, коему он предложил тогда находившиеся при нем 50 червонцев (ибо всякий опасался в такое время показать какое–либо участие к жертвам, дабы не быть открытым и чрез сие не пострадать). Мальцеву удалось пробраться до шахского дворца, где его, как говорят, сперва спрятали в сундук, ибо сам шах боялся возмущения. Когда все затихло, он остался во дворце под покровительством самого шаха и наконец выехал в Грузию. Кроме его, кажется, не было очевидного вестника сему ужасному происшествию. Мальцева многие обвиняли в том, что он не погиб вместе с Грибоедовым. Не знаю, справедливо ли сие обвинение. Мальцов был гражданский, а не военный чиновник и но вооруженный, секретарь посольства, а не конвойный; целью посольства были не военные действия, где бы его обязанность была умереть при начальнике. На них напали врасплох, резали безоружных, и я не вижу, почему Мальцов неправ в том, что он нашел средство спасти себя, и, может быть, еще с надеждою прислать помощи к осажденному посольскому дому. Впрочем, он, кажется, по домашним связям своим был близок к Грибоедову, и о поведении его подробнее вышеизложенного я не знаю. Может быть, и есть обстоятельства мне неизвестные, которые в общем мнении обвиняют его поступок. Я его лично не знаю, едва видел его в Тифлисе; в пользу его не было ничего особенного слышно.
Нина Грибоедова была в Тавризе и беременная во время сего происшествия, которое от нее скрыли. Двоюродный брат ее Роман Чавчавадзе, по совету англичан, пребывающих в Тавризе, из коих поверенный в делах имел весьма умную и приятную жену, перевез ее к ним в дом. Мера сия была тем нужнее, что в Тавризе оказывалось беспокойство в народе, в коем воспрянула придавленная злоба к русским по получении известия о случившемся в Тегеране. Не менее того Аббас–Мирза старался показать большое огорчение и даже наложил на несколько дней траур.
Нину уверяли, что ее перевезли к англичанам по воле мужа ее, которого дела задерживают на некоторое время еще в Тегеране; наконец, когда списались с Тифлисом, ей сказали, что ее везут в Тифлис, также по воле мужа ее, который ее в дороге нагонит. Верила ли сему, несчастная вдова, того не знаю; но не полагаю, ибо она не получала от мужа писем. Ее привезли с большою опасностью до границ наших, где ее, кажется, встретил отец и привез в Тифлис. Ее остановили в карантине, куда к ней ездили для свидания родственники. Она была молчалива, мало упоминала в речах о муже и, казалось, догадывалась об участи своей.
Но Нина претерпела все сии бедствия в состоянии беременности, коей было уже 7 или 8 месяцев, когда Прасковья Николаевна, опасаясь, дабы до нее дошло известие о погибели мужа стороннею дорогою и с неосторожностью, решилась объявить ей о сем. Нина не металась в отчаянии; она плакала, но тихо и скрывала грусть свою. Печаль же на нее столько подействовала, что она чрез несколько дней после того выкинула еще живого ребенка, который через несколько часов умер. Тут стали обвинять в сем Прасковью Николаевну, коей участие и принятое на себя звание возвестительницы столь печального происшествия могли только честь делать; ибо подобные порученности бывают самые неприятные. В число обвинителей замешался и Мартиненго, человек, которого она всегда отличала; он находил, что ребенок мог жить и что он умер от нераспорядительности Прасковьи Николаевны. Сие произвело несколько разговора в городе, по тем и кончилось.
Правительство наше требовало выдачи тела Грибоедова, дабы похоронить оное с честью. То ли самое тело, или другое какое–либо, было привезено в Тифлис? Открывавшие гроб в Джелал–Оглипском карантине говорили мне, что оно было очень обезображено, порублено во многих местах и, кажется, без одной руки; но сие уже было летом следующего, 1829 года. Труп сей похоронили с надлежащею почестью у монастыря Святого Давыда, построенного на горе за домом нашим. Вдова и все родственники ее, а также и наши, провожали гроб; многочисленная толпа тифлисских жителей, собравшаяся без приглашения, следовала за печальным шествием. Там построили арку, которая видна из всего города. Грибоедов любил картинное место сие и часто говорил, что ему там бы хотелось быть похоронену.