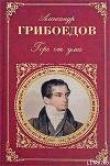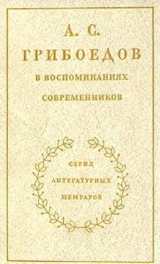
Текст книги "А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников "
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
3–го. Грибоедов приходил ко мне поутру, и мы занимались с ним до пяти часов вечера. <...>
5–го. Я провел часть дня у Грибоедова, занимаясь восточными языками.<...>
6–го. Был день происшествий. Я узнал поутру, что Рюмине приехал, ждал его к себе; но он не приходил. Воейков был у меня и, заставши у меня Грибоедова, сказал мне в другой комнате, что если б я одну вещь знал, то бы она меня очень рассердила. Я просил у него объяснения; он не хотел объясниться, наконец, он ушел. В обед пришел ко мне Катани и сказал, что Рюмин еще поутру пошел из артиллерийского дома ко мне, взяв с собой чертежи свои; между тем Катани сказал, что он слышал, будто Рюмин был у главнокомандующего и у начальника штаба. Я применил слова Воейкова к сему случаю и, крепко рассердись, готовился Рюмина арестовать при первой встрече, ибо поступок сей служит продолжением прежних и означал прежнюю его склонность к хвастовству и неповиновению. Проступок его по службе был довольно важен. Я послал за Воейковым, чтобы переговорить с ним о сем случае; между тем пошел после обеда к Верховскому для сего самого. Верховский начал речь тем, что рассказал мне свое происшествие с Гиертой, который таскал из чертежной карандаши и тушь и стал отвечать ему дурно, когда он просил его не трогать сих вещей. Верховский принужден был его остановить угрозою, что он ему покажет свои права. Случай сей расстроил Верховского. Засим я ему рассказал Рюмина дело, и в то самое время пришел ко мне человек с известием, что Рюмин явился ко мне и дожидается с чертежами. Я просил Верховского быть свидетелем твоего поступка с Рюминым, и он пришел ко мне. Рюмина работа была очень хороша. Я поблагодарил его; а между тем, узнавши, что он был у главнокомандующего и у начальника штаба и показывал им свою работу, я побранил его, как должно, и отпустил. Пришел Бобарыкин, а за ним Воейков; я просил их изъяснить мне, в чем состояли слова, сказанные Воейковым поутру, полагая, что тут касается нечто до Грибоедова. После долгих отговорок Бобарыкин сказал мне, что накануне Грибоедов изъяснялся у Алексея Петровича Петру Николаевичу насмешливо насчет наших занятий в восточных языках, понося мои способности и возвышая свои самыми невыгодными выражениями на мой счет. Меня сие крепко огорчило. Необходимо должно было иметь поединок, чтобы остановить Грибоедова, что было весьма неприятно. Я пошел к Воейкову, где нашел Бобарыкина, объяснил им, сколько происшествие сие было неприятно для меня, послав вслед засим к Грибоедову книгу его и велев потребовать мои назад; и то было вмиг исполнено. Вскоре засим явился ко мне Грибоедов, дабы я ему объяснил причины, понудившие меня К "ему поступку. Я ему объяснил их и назвал свидетелей. Ми напали все на него и представляли ему его неосторожность. Он извинился передо мною и просил, чтобы я забыл сие; но Бобарыкин, имея старые причины на него сетовать, продолжал спорить с ним. Сие подало повод к колкостям с обеих сторон. Бобарыкин сознавался, что он не должен был мне передавать этих слов, не объяснившись Сперва с Грибоедовым, но сказал, что уважение его и преданность ко мне понудили к сему. В самое это время Грибоедов вскочил и ушел.
Мое дело было поправлено, но Бобарыкин и Воейков оставались на дурном счету в глазах Грибоедова. Я намеревался и теперь намереваюсь пресечь понемногу знакомство с ним; но тут я должен был примириться с ним и принять его извинения, и потому я отправился с Бобарыкиным к нему и примирился, с тем условием, однако ж, чтобы: 1) Грибоедов не смел после разносить сего, и 2) чтобы он вперед был осторожнее в своих речах.
Он охотно согласился на сие и дал честное слово, что вперед будет осторожнее и нигде не разгласит сего дела. Я отдал ему книги и обещался заниматься прежнему с ним. Бобарыкин извинился в том, что ее мне сказал сие, а Грибоедов в том, что прежде подал ему повод неудовольствия на себя своими неосторожными шутками. И мы так расстались. Перед отходом Грибоедов дал мне письмо, которое он хотел послать к Петру Николаевичу, которым он просил его помирить его со мною. Я сжег сие письмо и пошел к Воейкову, куда вскоре и Грибоедов пришел и просидел с нами до 11 часов вечера. Я возвращался с Бобарыкиным домой с двумя фонарями, как встретился нам Газан с третьим фонарем. Мы зашли к нему, и он рассказал нам следующее происшествие, случившееся с ним.
Здесь есть гражданский чиновник Похвиснев, привезенный недавно Алексеем Петровичем. Он брал книги у Газана. Газану они были нужны, и он отправился за ними к Похвисневу, не нашел его дома и стал рыться в книгах его, чтобы свои отыскать. Человек Похвиснева не давал ему сего делать; но как скоро он увидел, что Газан насильно хотел сие делать, он вышел и запер его в комнате. Сколько Газан ни просил его отпереть двери и выпустить его, человек не делал сего. Газан выломал пинком дверь и вышел.
Засим я пошел домой и лег спать, вспомнив, что несколько раз в жизни мне случалось иметь дни, преисполненные происшествиями, неприятностями, и был рад, что те, которые до меня касались, так хорошо кончились. <...>
10–го. Я был почти целый день дома и занимался. Я писал к Грибоедову записку, в которой я объяснял ему, что занятия мои по службе не позволяют мне больше продолжать занятия наши в восточных языках и что в субботу должен у нас последний урок быть. Ввечеру поздно он ко мне пришел и просидел до полночи. Образование и ум его необыкновенны. <...>
27–го. Я ходил к Алексею Петровичу и носил к нему турецкую грамматику, которую я для него сочинил. После полдня я ходил к Грибоедову, который был болен сии дни. Он получил при мне записку от одного англичанина Мартина, который просил его прислать к нему лекаря, потому что был болен, но он никакого языка, кроме английского, не знал. Мы искали средства, чтобы доставить ему переводчика, и как другого не было, как мне самому идти, то я написал записку к Миллеру, которою я просил его прийти к нему, а сам отправился. Сей несчастный приехал из Калькутты в Тавриз для лечения, полагая, что холодный климат будет ему полезен. Из Тавриза он сюда прибыл из любопытства и еще более занемог; он принимал множество меркурия и хины, которые расстроили его здоровье. Положение его заслуживает сострадания. <...>
15–го <марта>. Поутру заходил ко мне Грибоедов с англичанином Мартином, который оправился от своей болезни и сбирается на днях отсюда ехать. <...>
19–го. Я провел часть дня у Грибоедова и обедал у него, занимаясь с ним турецким языком. <...>
31–го марта провели у меня вечер Грибоедов и Кюхельбекер [6], первый был так любезен вчера, что можно бы почти забыть его свойства. <...>
16–го <апреля> я ходил ввечеру в собрание и узнал там от Грибоедова происшествие, недавно случившееся между Кюхельбекером и Похвисневым. На днях они поссорились у Алексея Петровича, и как Похвиснев не соглашался выйти с ним на поединок, то он ему дал две пощечины. Алексей Петрович, узнавши о сем, очень сердился, сказав, что Кюхельбекера непременно отправит отсюда в Россию, а между тем велел, чтобы они подрались. У Похвиснева назначен секундантом Павлов, а Кюхельбекер послал на Гомборы по сему предмету за артиллерийским штабскапитаном Листом, с которым он очень дружен. <...>
19–го я обедал у губернатора, где слышал от него самые неприличные отзывы об Вельяминове. Ермолов <Петр Николаевич> после обеда приехал ко мне и рассказал мне дело Похвиснева с Кюхельбекером. Грибоедов причиною всего, и Кюхельбекер действовал по его советам. Мне сказал Ермолов, что Алексей Петрович имеет тайное приказание извести Кюхельбекера; невзирая на то, кажется, что слабость его допустит последнего до того же состояния, в котором он прежде был принят у него в доме. <...>
20–го. Кюхельбекер стрелялся с Похвисневым [7]; один дал промах, у другого пистолет осекся, и тем дело кончилось. <...>
4–го <мая> в 9 часов утра Ермолов уехал. Грибоедов, проводив его, приехал ко мне обедать.
<1826 год.>
<Сентябрь>. В Тифлисе было две невесты, на коих все обращали глаза: дочь покойного артиллерии генерал–майора Ахвердова и дочь совестного судьи Перфильева.
Первая была скромная и весьма хорошо воспитанная девушка, но жила с мачехою своею, женщиною, которая по правилам своим пользовалась всеобщим уважением, но по смерти мужа своего, управляя оставленным имением сирот, по незнанию своему, почти совсем истребила оное. Как тому более всего способствовал род жизни, который она вела несообразно своему и их состоянию, то и можно почти сказать, что имение сие было промотано, хотя и без всякого дурного умыслу со стороны Прасковьи Николаевны Ахвердовой. Она была обижена и обманута теми людьми, коим доверяла управление имением своим в России. Содержась давно уже имением сирот, коих она была попечительницей, она едва уже находила средства к дневному содержанию своему и семейства своего. Но при всем том вечеринки, балы, выезды, наряды шли прежним порядком и умножили долги ее. Красота и воспитание Софьи Ахвердовой привлекали в дом ее множество гостей. Многие в нее влюблялись, но не приступали к женитьбе, опасаясь расстроенного состояния дел ее. Брат Софьи Федоровны [От первого брака Федора Исаевича Ахвердова (ум. в 1818 г.) с княжною Юстиниани. (Примеч. Л. И. Бартенева.)] был отправлен в Петербург в Пажеский корпус, где о воспитании его имели мало попечения. Прасковья Николаевна имела еще собственную дочь, лет 10–ти, которую она также воспитывала весьма хорошо. В доме жила еще двоюродная сестра нынешней жены моей, Ахвердова. В числе женихов для Сонюшки выбирали разных людей, коих нравственность и правила, по легкомыслию Прасковьи Николаевны, казались удовлетворительными. В таком роде был один грек Севиньи, плут скаредный и обманщик, который говорил хорошо по–французски и обольстил старуху до такой степени, что она обручила за него Сонюшку, когда ей было только 12 лет; но подложные письма его и все поведение были открыты Грибоедовым, который в сем случае поступил по–рыцарски: он изгнал его из круга дома сего [8]. Севиньи скоро уехал в Россию, где обнаружил себя фальшивыми паспортами и кражею. Имение детей покойного Ахвердова состояло из дома и сада в Тифлисе, которые Прасковья Николаевна стала разыгрывать в лотерею. Собранные до сих пор 44 тыс. рублей были из опеки взяты опекуном князем Чавчавадзевым, который уплатил оными собственные долги, частию передав попечительнице, и не в состоянии был платить исправно проценты. Попечительница продавала вновь билеты, записываемые на приход в капитал, которого давно уже не существует. Приязнь между обоими семействами была причиною, что по сих пор не было никаких исков; их и вперед не будет: они оказались бы тщетными. Не менее того имение сирот исчезло, деньги за билеты взяты, и лотерея уже восемь лет осталась без розыгрыша. Все сии обстоятельства устрашали женихов.
В то время была еще другая невеста в Тифлисе, славившаяся своею красотою, искусством петь и танцевать, недавно прибывшая с отцом своим, полька Александрина Перфильева. Отец ее, прибывший на службу в Грузию с семейством своим, был вскоре по покровительству Ховена назначен совестным судьею. Дом их имел все признаки шляхетского происхождения; но Александрина, вскружившая многим молодым людям голову, не могла никогда занять меня, хотя многие и предназначали мне ее в супруги. Непомерное желание нравиться и слухи об упрямых свойствах ее достаточны были, чтобы совершенно отклонить с моей стороны всякий иск или желание принять ее в жены. Еще перед выездом моим из Тифлиса я предупредил Мазаровича о желании моем и выборе и просил узнать о состоянии дел Ахвердовой и о расположении ее, но с тем, чтобы не объяснять ничего. В Джелал–Оглу я получил ответ его. Я мог видеть, что она ничего не имела; но я не искал состояния, а жену. <...>
<1827 год.>
В начале года я опять приехал из Манглиса в Тифлис, но с твердым намерением не отлагать более избрания себе супруги. Мазарович, коему я в прошлом году перед походом говорил о намерении моем жениться на Ахвердовой, тогда же писал к мачехе ее, и, как я после узнал, избираемая мною невеста не изъявила мачехе своей совершенного согласия быть за мною замужем, о чем, кажется, не было говорено Мазаровичу, который не мог сомневаться в успехе сего дела. Впрочем, я ему не поручал никакого ходатайства, и никому не поручал оного, желая сам все кончить, как сие и случилось без чьей–либо посторонней помощи. Я не колебался в выборе себе невесты и не помышлял избрать Александрину Перфильеву или дочь князя Арсения Бебутова, но устремил мысль на нынешнюю жену свою, хотя и не чувствовал к ней сильной страсти и хотя мне несколько нравилась княжна Нина Чавчавадзе; но ее лета, ум и воспитание далеко отстали от тех же качеств Сонюшки Ахвердовой. Я совещался с Мазаровичем, дабы узнать в подробности те обстоятельства, которые затрудняли меня в решении, а именно состояние дел ее, сношения с мачехою и тот обширный круг всякого народа, который ежедневно наполнял дом их и который бы я весьма желал удалить от себя.
Я узнал от Мазаровича, что хотя и нельзя было ожидать приданого (потому что все имение, оставленное ей и брату ее покойным отцом, было запутано, по–видимому, беспечностью опекуна князя Чавчавадзе и неумеренностью мачехи ее), но долгов она не имела, и сего мне было достаточно, ибо я не искал богатства, а искал жены. О состоянии мачехи я также узнал, что оно было в самом расстроенном положении, что она была вся в долгах, но что долги сии нисколько не падали на сирот. Насчет шумного круга, посещавшего дом ее, Мазарович уверял меня, что с появлением моим он весь разойдется, и сей последний предмет один только мог меня затруднять. Впрочем, дабы иметь лучшие сведения, я обратился к Грибоедову, коему состояние дел ее было известно. Он достал мне какую–то таблицу, по коей видно было, что долги старухи простирались сверх 30 000 руб., что имение падчерицы ее хотя и полагалось налицо, но что оно было все почти издержано старухою. Оно состояло из дома и сада, которые были заложены и сверх того разыгрывались в лотерею уже 7 лет в 80 000 руб.; деньги, за билеты вырученные, более 40 000 руб., были издержаны; выхлопотанные Алексеем Петровичем в пользу вдовы сей от государя 20 000 руб. были им удержаны в пользу сирот и отданы в Приказ общественного призрения, но опекуном взяты. Он по ним обещался платить проценты в пользу сирот, но не делал сего, и проценты добывались старухою, продававшею вновь билеты и записывавшею их на приход в капитал, коего таким образом собралось 44 000. Но между тем опекун был ей порукой в займе у другого лица денег. Довольно ясно было видно, что ни дома, ни имения сего более не существовало, но меня сие не беспокоило. Кроме того, имелся еще дом и пять дворов крестьян, которые давали небольшой доход и коим пользовалась старуха; но и сие не могло остановить меня. Касательно сношений моих со старухою Грибоедов уверял меня, что он на моем месте всячески старался бы удалить ее в Россию после свадьбы, в чем он был совершенно справедлив. Он сам был весьма рад намерению моему и всячески старался склонить меня в деле, в коем не нужно мне было посторонних советов, почему я и не просил его дальнейшего участия. Но тут же, при объяснениях, сознался я ему, что Нина Чавчавадзе мне более нравилась, а он сознался, что был неравнодушен к Ахвердовой, но не помышлял о женитьбе, потому что не имел состояния.
Я не имел с Грибоедовым никогда дружбы; причины сему были разные. Поединок, который он имел с Якубовичем в 1818 году, на коем я был свидетелем со стороны последнего, склонность сего человека к злословию и неуместным шуткам, иногда даже оскорбительным, самонадеянность и известные мне прежние поступки его совершенно отклонили меня от него, и в сем случае, хотя доверенность, мною ему сделанная, сближала меня с ним некоторым образом, но не склонила меня к нему с лучшим душевным расположением, и я до сих пор остался об нем мыслей весьма невыгодных насчет его нравственности и нрава.
Между тем слух, не знаю на чем основанный (ибо я оного повода не давал), разнесся по городу, что я женюсь на Перфильевой. Так как я не был оному виною, то я и не заботился о прекращении оного и оставил всех в заблуждении сем, более скрывавшем действия мои для достижения предполагаемой мною цели.
Жена моя имела несколько женихов. Давно уже, вскоре после смерти отца ее, ветреная мачеха ее обручила ее почти в ребячестве с офицером, родом греком, по имени Севинис, который стал всем известен славным воровством известной в мире жемчужины, сделанным им года четыре тому назад в Москве у купца Зосимы [См. подробности в "Воспоминаниях" Н. И. Шёпига в "Русском архиве" (1881, 1, 238). (Примеч. П. И. Бартенева.)]. Человек сей, пришелец из неизвестного отечества, прибыл в Грузию, распустил великолепные слухи о происхождении своем и богатствах своих, подложными письмами обольстил Прасковью Николаевну Ахвердову и сделался женихом Сонюшки Ахвердовой, но был через несколько времени изобличен в плутовстве своем Грибоедовым, который выгнал его из Тифлиса, прекратил связь его с домом Ахвердовых и тем приобрел неограниченную доверенность Прасковьи Николаевны.
Другие женихи, являвшиеся после того, были отдаляемы; но в последнее время походный атаман здешних донских полков генерал–лейтенант Василий Дмитриевич Иловайский стал часто ездить в дом и искать расположения Сонюшки, в чем он не мог успеть ни по уму своему, ни по качествам. Он был уже в некоторых летах, вдовец, человек тяжелого нрава и весьма глупый. Он думал жениться, но затруднялся в выборе невесты. У Прасковьи Николаевны, однако же, он мог надеяться на успех: ибо она, может быть, и пожертвовала бы падчерицею своею в надежде поправить расстроенные дела свои, выдав ее за человека богатого, хотя и пустого, каков был Иловайский; и Сонюшка, видя пользу сего, не поколебалась бы ни минуты отдать ему руку свою с тем, чтоб угодить женщине сей, которую она обожает, как родную мать, и к коей она имеет неограниченную доверенность; но Иловайский не принимал решительных мер и спрашивал у всех совета, на ней ли жениться или на Нине Чавчавадзе. В первом не успел, во втором получил отказ. Он ежедневно посещал дом Прасковьи Николаевны и служил посмешищем толпе молодежи, отчасти наглой, которую также принимали в доме сем слишком хорошо и которая, пользуясь сим ласковым приемом, веселилась и не переставала в неприличных шутках заочно превозносить красоту и качества Сонюшки, не имея на нее никаких честных видов супружества.
Итак, дабы чаще видеть ту, которую избирал себе в супруги, я стал ездить в собрание, в которое старуха находила удовольствие ее возить и хвалиться внутренно, видя толпу обожателей, окружавших ее. Глупое самолюбие сие, к счастью, не имело действия на Сонюшку Ахвердову, которая, будучи одарена природным умом и отличными правилами, пребыла равнодушной к сим похвалам и умела истинно величественною наружностью своею и приемами держать обожателей своих в должном почтении.
Вместе с нею видел я и Нину Чавчавадзе, которой наружность мне нравилась. Я стал засим ездить в оба дома сии, но не долго колебался и решил выбор свой на Сонюшке, после чего и начал чаще бывать в доме Прасковьи Николаевны.
Княжна Нина Чавчавадзе вышла в сем году замуж за Грибоедова. Дело сие сделалось внезапно, пока мы находились под Ахалкалаками. Кажется, что к сему способствовала Прасковья Николаевна, коей слишком короткое обхождение с Грибоедовым и даже дружба с ним весьма предосудительны и не могли мне нравиться, когда я весьма далек от того, чтоб иметь хорошее мнение о человеке сем. Мне даже не могло посему быть и приятно, что он был принят, в отсутствие мое, в доме, коего я хозяин, как самый ближайший родственник. Нет сомнения, что Сергей Николаевич Ермолов не мог быть супругом Чавчавадзевой; но, зная его добрый нрав и честные правила, я бы всегда предпочел его в сем случае Грибоедову, на правила коего не мог бы я положиться. В сем случае руководствовали родителями разные виды, кроме доверенности,; которую имели к жениху. Он был назначен министром к персидскому двору, получил непомерно большое содержание, получал от государя по представлениям (Паскевича, коему он вдобавок был по жене двоюродный брат) большие денежные награждения. Все сие способствовало ему, и он получил весьма скоро согласие родителей. Князь Александр (Чавчавадзе) так поторопился в сем случае, что даже не уведомил меня о том предварительно, как мы о том уговорились при прекращении ходатайства моего о Сергее Николаевиче, коему следовало бы сперва отказать.<...>
Курганов не прекращал своих доносов, и я недавно слышал, что Эрнстов и Мухранский, до смены Алексея Петровича, ходили по ночам, переодетые в бурках и грузинских шапках, к Паскевичу, показывая через сие опасность, в которой находились, если бы были открыты. Обстоятельство сие истинное и дает понятие как о предосудительном расположении друг к другу начальников, так и о глупости доносчиков.
Не подвержено почти сомнению и то, что Грибоедов в сем случае принял на себя обязанности, несогласные с тем, чего от него ожидали его знакомые [9]. Казалось бы,, что и самые связи родства, в коих он находился с Паскевичем, не должны были его склонить к принятию постыдного звания доносчика [Далее в подлиннике четыре строки зачеркнуты, и разобрать их невозможно. (Примеч. П. И. Бартенева.)].
<...> нас обвенчали 22 апреля 1827 года.
Мы выехали из церкви вместе и приехали в дом к Прасковье Николаевне, где она уже ожидала нас с Алексеем Петровичем, Мадатовою и Чавчавадзе. За ужином присутствовали только вышеозначенные лица и приглашенные еще Мазарович с женою. Грибоедов приехал без приглашения. Вечер был скучный. Алексей Петрович засел играть в вист; жена моя была в большом замешательстве от столь быстрого переворота в жизни ее. В первом часу ночи разъехались, и я пошел с женою наверх в приготовленные для меня комнаты. <...>
Накануне выезда своего [10] Алексей Петрович, прощаясь со мною в квартире младшего Вельяминова, отвел меня в сторону и предупредил меня, чтобы, невзирая на доверенность, которую ко мне оказывали, я никому из вновь прибывших не верил и, обращаясь со всеми по долгу службы, лично вел бы себя осторожно: ибо они показывали мне доверенность свою только по необходимости, которую во мне имели. Он предупредил меня, чтобы я не полагался на получение скоро места начальника штаба, которое мне обещали, потому что Паскевич для сего выписывал одного генерала из России, который должен приехать, и прибавил, чтобы я наблюдал за сим и вел бы себя согласно с сим и что я неминуемо сам замечу намерения их. Я благодарил его за совет, но не мог ничего заметить до самого приезда графа Сухтелена, о коем я узнал в Аббас–Абаде за несколько дней до приезда его в армию.
Я, помнится мне, тогда же сообщил слова Алексея Петровича Грибоедову, спрося его, справедливо ли сие; но он мне отвечал таким голосом, будто Паскевич не имеет сего в виду, что я более не мог бы усумниться в искренности намерений Паскевича относительно меня, если бы совершенно верил Грибоедову, который о сем, кажется, давно уже знал. <...>
<Май>. Часто повторявшееся состояние исступления, в которое приходил Паскевич без всякой причины, возродило в нем, наконец, желчную болезнь, с коею он через несколько дней своего пребывания в Шулаверах и выехал в Джелал–Оглу.
По прибытии в лагерь за Бабьим Мостом болезнь его усилилась до такой степени, что к ночи, казалось, уже было мало надежды к его выздоровлению. Видя, сколько потеря его могла произвести беспорядка, и помня обещание, данное мною Дибичу, не оставлять его и быть терпеливым, притом же руководимый человеколюбием, я принял личное участие в его болезни и вместе с Грибоедовым, который ему был родственником, не оставлял его и служил как ближнему, стараясь сколь возможно его успокоить и помочь ему, о чем он и отозвался однажды благодарностью. <...>
<Июнь>. Однажды, потребовав меня к себе, Паскевич вспомнил о давнишнем намерении правительства нашего завоевать Астрабад и приказал в ту же минуту написать о сем предположение, которое он хотел послать к Дибичу, а отвечал ему, что сие должно было основать на подробных сведениях о морских и провиантских средствах наших в Астрахани и Баку, что мне было неизвестно, и потому я не мог взять на себя положения сего, особливо в столь короткое время, как он сего требовал. Он отнес ответ сей к недоброй воле моей и приказал непременно сделать, говоря, что я там был и должен все знать. Видя, что нечего делать, я занялся сим делом и чрез несколько часов представил ему записку, в которой были самые неосновательные предположения по сему предмету, что оговорено было и в самом рапорте, изготовленном мною от Паскевича к Дибичу. Записка сия, которая ровно не могла ни к чему служить, сначала ему понравилась, и он принял меня ласково; но, по прочтении рапорта, ему показалось что–то в ней несогласного с его образом мыслей, а потому он начал перемарывать оную и поправлять. Паскевич читал и перечитывал рапорт сей, но сам не постигал его; наконец, по обыкновению своему, рассердился и, сказав, что он неверно списан, приказал к себе принести черновой, нашел его во всем сходным с подлинником, наставил еще точек и запятых, так что смысл оного совершенно уже затмил, и, отдавая мне оный для отправления: "Voila, monsieur, – сказал он, – comme il faut strictement observer la ponctuation; tout depend de la" [Вот, сударь, как нужно точно соблюдать пунктуацию; все зависит от этого (фр.).]. Я не мог смеяться; но вышел из комнаты, встретил Грибоедова, которому и объяснил, сколько я затруднялся послать сию бумагу к Дибичу, прося его совета, как поступить в сем случае. Он мне сказал, что делать было нечего и что рапорт надобно уже было так отправить, что я и сделал; но, кажется, на оный и ответа не было, по крайней мере, ответ сей мне в руки не попадался. Я старался достать список впоследствии времени с сего донесения, дабы поместить оный, как редкость, в сии записки, которые я предполагал всегда продолжать; но не нашел к тому средств и оставил дело сие, которое могло подвергнуть меня большим неудовольствиям.
29–го числа <июня> на рассвете я отправился к Аббас–Абаду с Ренненкампфом и сотнею казаков. Я держался влево, дабы скрыть движение свое за продолговатыми возвышениями, идущими на расстоянии одной или полуторы версты от крепости, и, скрывшись за бугор, спешил казаков, оставил за бугром лошадей и выслал пеших людей за бугор, дабы оставить неприятеля в недоумении о числе людей, оставшихся за бугром. Хитрость сия, как я после узнал от самих персиян, имела полный успех; ибо они, предполагая, что у нас за горою засада и скрываются силы, не смели с большими силами напасть на нас и не истребили мой слабый отряд.
По вершине сего продолговатого бугра я прошел с пешими казаками до оконечности, подходящей под самую крепость, откуда спустил несколько человек влево, а сам поехал с несколькими казаками вправо для обозрения крепости. Мы подъехали с Ренненкампфом к развалинам стенок, оставшихся с северной стороны Аббас–Абада, как увидели персидскую конницу в числе 600 человек, переправлявшуюся через Араке и подвигавшуюся ко мне. Я хотел отступить на бугор и защищаться на оном до прибытия новых сил из лагеря; но Ренненкампф советовал лучше потребовать к себе казаков, отступать равниною, понемногу отстреливаясь, а между тем послать в лагерь с приказанием 3–й сотне поспешить прибытием к нам на помощь. На сем и решили. Мы дождались на месте казаков, оставленных на бугре, и, построив их в две линии, отступали с одною шагом, пока другая стояла лицом к неприятелю. Персияне также выстроились фронтом и пустились было на нас рысью; но, увидя порядок, в коем мы отступали, остановились и выслали фланкёров, что и я сделал, чтобы занять их до прибытия подкрепления. Между тем я посадил засаду из 20 казаков в деревне, которая у меня была на правом фланге, дабы отрезать фланкёров их, задающихся слишком вперед; но 3–я сотня казаков уже скакала ко мне на помощь, и неприятель, собрав фланкёров своих, начал отступать под самую крепость. Причиною сего отступления персиян, кажется, более всего было то, что они заметили толпы конницы, подвигавшиеся к нам из лагеря, в коем делалось следующее.
Паскевич, увидя из окон своих перестрелку, засуетился и рассердился. Грибоедов, который в то время был при нем, и другие его окружающие советовали ему послать ко мне подкрепление, говоря, что я могу погибнуть с горстью людей против такого сильного неприятеля. "Пускай он погибает! – отвечал Паскевич. – Если он расторопный офицер, то сам отделается; если же он плох, то мне не нужен, и пускай погибает!" Надеясь, однако, захватить персиян, которые бы слишком далеко заехали в ожидаемом им преследовании меня, он вскоре поднялся со всею кавалериею и выехал на высоты, которые были за моим правым флангом; но, видя, что неприятель стал отступать, остановился и послал за мною Бородина, который застал меня уже совершенно вне опасности и свободного от неприятеля на лугу за завтраком и сказал, что Паскевич сердит, бранится и требует меня к себе.
Я приехал к нему. Он напустился на меня с криком, спрашивая, как я смел завязывать дело, тогда как он меня послал единственно для того, чтобы заманить неприятеля и скакать в лагерь, дабы дать ему случай отхватить гнавшихся за мною. Я отвечал ему, что если в том была цель его, то он бы с большим успехом употребил казачьего офицера с несколькими казаками, но что я такого приказания никогда не получал и, напротив того,, имел приказание осмотреть крепость. Неправда, сударь, сказал он в сердцах. Тогда я ему напомнил, как он приказывал мне осмотреть ров крепостной,, и сказал, что я опасался еще ответственности за то, что не исполнил в точности сего приказания. После сих слов Паскевич перестал браниться; он постоял несколько времени на возвышении с конницею и возвратился в лагерь.
Июль <...> я продолжал заниматься еще своею обязанностью и в ту же ночь пришел еще к нему, Паскевичу,, с докладом. Он тогда был занят реляциею о победе над Аббас–Мирзою, которая никак не клеилась по его желанию. Писал ее Вальховский, писал Грибоедов, и все не выходило того, что ему хотелось. Просмотрев со мною принесенные бумаги, он обратился ко мне с дружеским видом: "Mon cher general! – сказал он, – faites–moi l'amitie d'ecrire de ma part un mot au general Sipiaguine, pour le prevenir de la viteoire, en lui disant, que les details ulterieurs viendront a la suite" [Дорогой генерал, сделайте одолжение, напишите от меня словечко генералу Сипягину, уведомьте его о победе и сообщите, что дальнейшие подробности следуют (фр.).].