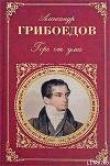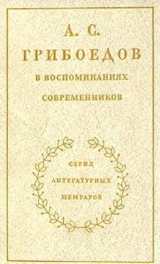
Текст книги "А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников "
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Четверг, 13–го. В три часа приехали мы в деревню Кошлак, где был назначен ночлег. Вскоре после нас прибыли и Грибоедовы. Они впрягли в коляски 5 пар быков и буйволов и были очень счастливы, что добрались до Безобдала. Обедали мы опять по–азиатски, в палатках. <...>
Воскресенье, 16–го. Мы проезжали сегодня те места где в прошлом году было пролито много крови. Объехав одну гору, увидали мы старый Арарат во всей красе... Мы разделились здесь на три партии: Грибоедов поехал через деревню Ачтарак, от которой до Эривана две станции, так как эта дорога удобней для колясок. Мальцев и Мирза–Нарриман поехали прямо на Эчмиадзин, который на 15 верст дальше; мы с Ваценко поехали через деревню Тугварт, которая отстоит от Эривана на 15 верст, туда же был направлен и наш багаж.
Вторник, 25–го. Мы встали с постелей рано, чтобы все уложить и навьючить на лошадей... Так как буфетчик Грибоедова перебил почти весь фаянс и стекло, а новую посуду придется долго ждать, Грибоедов просил меня уступить ему моего Семена, что я сделал охотно, хотя и знал, что такого слугу найти будет очень трудно. Вместо него я нанял одного грузина. К 10 часам мы были приглашены к кн. Чавчавадзе на прощальный завтрак. Он был персидско–грузино–русским и длился почти 2 часа; мадам Грибоедова видалась в последний раз с родителями; она была заметно огорчена: в первый раз расстается она с матерью и покидает ее для того, чтобы следовать за мужем в страну, которая не обещает ей общества и развлечений. В 12 часов расстались мы с Чавчавадзе и Грибоедовыми, чтобы раньше выехать в дорогу. В пять часов вечера достигли мы Камарту, наполовину армянской, наполовину татарской деревни, которая находится на расстоянии 4–х верст от Эривани. В южной части деревни находились два довольно приличных дома, из которых один был предназначен для Грибоедовых, другой для нас; в обоих не было окон; а так как в нашем не было и передней стены, то мы и были как будто под открытым небом... Коляски прибыли вслед за нами. Чавчавадзе провожали дочь до первой, не доезжая одной версты до Эривана, армянской деревни; в деревенской церкви они выслушали обедню и простились. Перед нашей квартирой росло несколько тополей и верб, которые делали вид очень приятным. Вечером мы поужинали с Грибоедовым, который пришел к нам, а потом легли спать. <...>
26–го, среда. От Камарту до Цадарака 5 агачей. В 4 часа утра мы должны были покинуть наш лагерь, чтобы приготовить вьючных лошадей... При выезде из станции мы все собрались ненадолго. Здесь мы увидели курдов, которые ожидали Грибоедова, чтоб его приветствовать. Их вождь был весь в шелку и к тому же очень красив. Для Грибоедова была разбита палатка где–то вроде сада (если так можно назвать зеленую площадку с несколькими фруктовыми деревьями). Мы выбрали себе комнату, которая была попросторнее и почище.
Четверг, 27–го. От Цадарака до Курачина 4 агача. Пока упаковывали наши вещи, я пошел с Ренненкампфом пройтись по деревне. Сегодня мы были все вместе, с Грибоедовыми. Едва мы выехали из деревни, как курды и персы, которых Ахмет–хан взял с собой из Эривана, начали различные игры... Мы с доктором Мальмбергом выехали раньше, так как оба не были голодны. Проехав около агача, мы встретили до 100 человек курдов и персов, которые как представители магала (магал – округ, включающий около 50 деревень и обычно имеющий свое собственное имя), называемого Шаруром, изъявили желание принять Грибоедова.
При въезде в деревню Нурамин нас догнали остальные в сопровождении по крайней мере 500 человек; так вошли мы в деревню. Грибоедов с женой заняли две комнаты в разрушенном караван–сарае; нам отвели помещение в самой деревне. Мадам Грибоедова сегодня нездорова и не обедала с нами; однако это не помешало нам веселиться. После обеда мы немного отдохнули от путешествия, а потом пошли к Грибоедову в палатку, которая была разбита во дворе караван–сарая; мы встретили здесь Ахметхана; нам подавали чай с соком гранат и ромом; последний особенно понравился хану; он отпивал немного чаю, беспрестанно доливая стакан ромом. После его ухода мы посидели еще часок у Грибоедова, который нам рассказал много интересного.
Тавриз, 15–го октября 1828.
С воскресенья 7–го мы находимся здесь, в столице Азербайджана; путешествие из Тифлиса сюда берет 6 или 8 дней, иной раз даже 4, нам же потребовалось на него 4 недели, в чем виноваты болезнь добрейшего Грибоедова, его жены и две коляски. Я не пишу о поездке из Эривана сюда, о жизни в Эриване и в Тавризе, о двух аудиенциях у Аббаса–Мирзы и т. д. Обо всем этом расскажет мой дневник в (если я посмею так его назвать). Я пользуюсь командировкой в Тифлис одного офицера, которому я передам эти строки. Не рассчитывайте на регулярное получение от меня известий; я смогу использовать только курьеров и случайные возможности, которые я, конечно не упущу, это я могу обещать с уверенностью. Я в Персии, и мое трехлетнее желание наконец исполнилось. Не знаю почему, но все, что я до сих пор увидел и узнал в этой стране, говорит мне многое; но самое замечательное из того, что я здесь видел, это, без сомнения, сам Аббас–Мирза; трудно себе представить, в каком угодно другом лице, что–либо более захватывающее. Но обо всем этом подробней сообщит в ближайшее время мой дневник.
Тавриз, 30 октября 1828.
Теперь о нашем дальнейшем персидском путешествии. Через 4 или 5 дней мы едем в Тегеран. Мадам Грибоедова остается до нашего возвращения здесь, так как путешествие в это время года было бы для нее слишком тяжело, нашей же резиденцией остается, к счастью, Тавриз. Шах ожидает только приезда в Тегеран министра, после чего уезжает на некоторое время в Исфагань. Подумай о моей' радости; наше посольство, по всей вероятности, будет его сопровождать, и я увижу этот знаменитый город. Кроме этой поездки, предвижу в будущем еще одну: Грибоедов и Завилейский (тифлисский вице–губернатор) передали императору план Закавказской экономической и торговой компании 7, которая, вероятно, будет основана, так как и Паскевич написал об этом императору; если это произойдет – Грибоедов пошлет меня в будущем году в Кашмир, чтобы там закупить шерсть и пригнать овец... По прибытии в Тегеран Грибоедов немедленно представит нас в кавалеры персидских орденов, о чем он нам уже объявил. Как это будет прекрасно, когда персидский кавалер будет рассказывать в Петербурге о своем путешествии в Тавриз, Тегеран, Исфагань, Шираз, Персеполис, Хомазан, Кашмир и т. д.
Дяде Гарри я, конечно, напишу из Тегерана; так как Грибоедов состоит с ним в официальной переписке, как с начальником пограничной стражи [8], я смогу воспользоваться этим обстоятельством.
Тавриз, 3–го ноября 1828.
Теперь о купленной мяте. На каждом пакете указана цена вложенной мяты: я их не сортировал, но так завернул, как их покупал; мне было трудно достать денег на эту покупку, я просил у Грибоедова 100 р., чтобы заплатить за мяту; но хотя он сам сейчас стеснен в деньгах, однако все же обещает достать мне денег сегодня. Мне нужна эта сумма на многие расходы.
Д.Ф. Харламова. Еще несколько слов о Грибоедове
Часто помещаемые в литературе воспоминания об Александре Сергеевиче Грибоедове побудили и меня, 84–летнюю старуху, воскресить в своей памяти все, что только об нем помню, а помнить есть что, так как в доме моей матери в Тифлисе он был ежедневным гостем. У нас зародилась и развивалась его любовь к княжне Нине Чавчавадзе, и в нашем же доме сделался он счастливым женихом, позабыв на время свою ипохондрию. К сожалению, во время всех этих событий я была совершенно маленькая девочка; мне было около 12 лет, когда его убили; вот почему воспоминания мои ограниченны.
Родилась я в Тифлисе в 1817 году, где мой отец командовал артиллерией (Отдельного Кавказского корпуса), после его смерти, в 1820 году, мать осталась жить в Тифлисе, где у нас на склоне горы, близ потока Салылак (Сололаки), был дом и чудный, волшебный сад [Дом после нашего отъезда был приобретен казной для Института благородных девиц, а теперь в нем живут таможенные чиновники. (Примеч. Д. Ф. Харламовой.)].
Мать моя была та самая Прасковья Николаевна Ахвердова, об которой всегда упоминается во всех биографиях А. С. Грибоедова. Она была необыкновенно гостеприимная, любезная, образованная и талантливая женщина, и дом ее был средоточием всего культурного общества Тифлиса в продолжение 10 лет. Мода и жажда почестей и наград манила много военной золотой молодежи на Кавказ, перебывали там и князь Ал. Ар. Суворов [Который полвека спустя, когда я уже была совершенно старая, называл меня не иначе, как уменьшительным именем. (Примеч. Д. Ф. Харламовой.)], (помню) и графа Самойлова, и Бутурлина, и Веригиных, и Арсеньева, и Симборского, и много других, одним словом, по 2 или по 3 офицера из каждого гвардейского полка. Каждый из них делал визит моей матери и затем и бывал почти ежедневно. И либеральная статская молодежь из будущих декабристов тоже наведывалась на Кавказ и бывала у матери, особенно часто, кажется, В. К. Кюхельбекер – давнишний друг нашей семьи; я, впрочем, его не помню, знаю это только по рассказам. После 25 года были отправлены проветриться многие слегка замешанные декабристы: из них помню двух – Рынкевича и Искрицкого. Около 1829 года посетил и обедал у нас и Александр Сергеевич Пушкин, я его превосходно помню, хотя это было в смутное для нас время, после смерти Грибоедова. По рассказам, Грибоедов, приехав в Тифлис около 22 года [1], сейчас же сделался героем, дрался на дуэли с Якубовичем (будущим декабристом) и, по всей вероятности, уже тогда познакомился с моей матерью. Сохранилось письмо от 1827 года, где он извиняется пред ней в неисполненном, из-за нервного припадка, поручении. Я лично начала его помнить лет 9-ти, когда он вернулся после долгого отсутствия из Тифлиса, почти ежедневно обедал у нас, а после обеда играл нам, детям, танцы. А детей нас было много, чуть не маленький пансион двух возрастов. К старшему принадлежали: дочь от первого брака моего отца Софья Федоровна, впоследствии замужем за Н. Н. Муравьевым-Карским, и брат Егор Федорович, бедная племянница моего отца Анна Андреевна Ахвердова, и приходили для совместного ученья знаменитая княжна Нина Чавчавадзе и княжна Мария Ивановна (Манко) Орбелиани.
Княжна Екатерина Александровна Чавчавадзе, впоследствии княгиня Дадиан-Мингрельская, княжна Софья Ивановна (Сопико) Орбелиани, Варенька Туманова и я составляли младший возраст.
Князь Александр Гарсеванович Чавчавадзе, соопекун моей матери над сестрой Софи и братом Егорушкой, нанимал небольшой наш флигель, рядом с нашим большим Домом; в нем жила его мать, жена – княгиня Саломе и дети – Нина, Катепька и Давид. Целый день находились у нас девочки, а Катенька даже и жила у нас в одной комнате со мной и гувернанткой нашей Надеждой Афанасьевной, той, которой А. С. Грибоедов в одном из писем к матери шлет целый акафист приветствий [2]. Летом ездили мы часто гостить в чудное имение Чавчавадзе – Цинац, дали в Кахетии, совершали путешествие всегда под конвоем не менее 20 солдат, из опасения нападения горцев Князя я менее других помню, он часто отлучался, а впоследствии, после взятия Эривани, был там губернатором [3].
Но семья его осталась в Тифлисе. Нам-то, младшему возрасту, и играл танцы Грибоедов. Расположение духа у него было необыкновенно изменчивое, иные дни проходили в полном молчании с его стороны, но без видимой причины чело его прояснялось, он делался весел, разговорчив (говорил всегда по-французски) и, если не было малознакомых гостей, шел в зал после обеда, говоря: "Enfants, venez danser" [Дети, идите танцевать (фр.).], – садился так, чтобы видеть наши неуклюжие танцы. Играл он всегда танцы своего сочинения, мелодию которых еще ясно помню, но очень красивые и сложные, потом переходил к другим импровизациям и проводил за роялем иногда весь вечер. Сонико Орбелиани имела обыкновение подходить вплотную к клавишам, это его раздражало, и он, после финального аккорда, ударял ее по выставленному животу указательным пальцем, что ее огорчало и приводило в бегство. К сожалению, я принадлежала к младшему возрасту, поэтому помню только то, что относилось к нашему детскому миру, и ничего из разговоров со старшими передать не могу. Младшего брата княжны Нины он всегда вместо приветствия гладил по курчавым волосам и в одном письме к матери пишет: "Давыдочку по головке" [4]. Но общее впечатление, которое производил на меня ласковый, но почти всегда серьезный средних лет статский господин в очках, внушающий мне глубокое почтение, граничащее с робостью, хорошо помню, а также удивление, что Нина настолько мало боялась его, что даже вышла за него замуж. Конечно, главное внимание Александра Сергеевича с того времени, как я стала его помнить, было обращено на княжну Нину Чавчавадзе, которой было лет 14 тогда, хотя она, как все южанки, была уже вполне сложившаяся женщина в эти годы. Он занимался с нею музыкой, заставлял говорить по-французски, и даже когда он, впоследствии, взял ее за руку и повел в наш сад делать предложение, она думала, что он засадит ее за рояль.
Не скажу, чтобы мать моя имела возможность воспитывать и обучать особенно блестяще своих питомцев: во-первых, кроме сестры Софи, все поголовно были ленивы и, кроме того, учителя были не из первоклассных. Не знаю, где они были преподавателями, и фамилий не полню, знаю, что их называли Акакий Кондратьевнч, Аксентий Трифонович и Афанасий Иванович Гиацинтов. Музыке нас учил капельмейстер Соколовский, только Нине Александровне давал сам советы Грибоедов, когда она подросла и он был в Тифлисе. Живописи учила сама мать, отменная художница миниатюрой и портретистка. Но что более всего процветало у нас – это французский язык. У маленького Чавчавадзе Давида был гувернер m–r Ravergi (Равержи), но за малостью флигеля, занимаемого Чавчавадзе, он и дочь его Josephine (Жозефина) жили у нас и занимались с нами теоретически и практически. Кроме того, около 1826 года наехало в Тифлис целое общество французов, которые основали шелковичную фабрику на паях, один из главных компаньонов Duello (Дюелио) жил в нашем доме, часто нас посещал и способствовал успешному французскому разговору. Танцам из любезности нас учила прелестная m–me Castello, жена одного из крупных пайщиков. Верхом ездил весь старший возраст; если ехала Нина Александровна и Грибоедов был в Тифлисе, то сопровождал ее; мы же, младший возраст, пользовались лошадьми только по возвращении кавалькады, немного по двору. Сестра моя Софи тоже была красавица, в другом роде, чем Нина Александровна, но почти не хуже ее. Мать ее, урожденная княжна Юстиниани, одарила ее этой красотой и такой величавостью, что ее прозвали Порфирородною. Они с Ниной Александровной составляли картинную пару, и все, что было молодежи в Тифлисе, увивались около них. Еще врезался мне в память маленький костюмированный бал у нас, где Нина Александровна появилась в старинном грузинском костюме, сохранившемся у бабушки ее Марии Ивановны. Костюм этот много живописнее новейшего, и красота ее в нем была неописанная. Но был ли Грибоедов на этом бале, не помню.
Хотя это и не касается Грибоедова, но не могу не упомянуть, насколько Тифлис того времени был еще пуст, даже не было хорошего дамского башмачника и его emploi (амплуа) исполнял лакей матери Егор Титов.
Когда предвиделся бал или свадьба, то понятно, что обшивал всех домочадцев, включая княжон Чавчавадзе и Орбелиани, но и посторонние княгини являлись к матери с рамбави (сплетнямми) и между прочим просили заказать башмаки своим дочерям Егору Титову. Отказывать она не умела, и выходило, что у нее лакей – башмачник на весь Тифлис и она почти постоянно лишена его услуг.
Как сейчас помню красные атласные башмаки, которые он сшил мне и Катеньке к свадьбе Грибоедова. Нас с ней очень плохо одевали и обращали внимание на туалеты Нины Александровны и Софи, которую мать любила не менее, если не более меня, поэтому красные башмаки составляли событие в нашей жизни. Сестра Софи была двумя или тремя годами старше Нины Александровны и вышла замуж немного ранее. Муж ее, Н. Н. Муравьев-Карский, который почему-то не ладил с Грибоедовым и не желал женитьбы его на приятельнице своей жены, хлопотал, чтобы она дала согласие на замужество с другом его, Сергеем Николаевичем Ермоловым; но она обладала всегда очень стойким характером, не поддалась и сохранила себя для того, кого любила сильно. После того как Грибоедов сделался женихом княжны Нины, он должен был присоединиться к армии Паскевича немедленно, он пишет 14 июля [5] из Карабаха матери, описывает военные действия и прибавляет: "Говорите с Ниной обо мне побольше, всякий раз, как нечего будет делать лучшего. Помните, что мы оба Вас любим как нежную мать; она и я..." Подписывается он так в этом письме: "Ваша приемная чета, Ваши дети". Он был тогда уже не прикомандирован к Паскевичу, а посланником, поэтому, вероятно, и не остался долго при армии; возвратившись в Тифлис, захворал лихорадкой...
Лихорадка не покинула его до свадьбы, даже под венцом она трепала его, так что он даже обронил обручальное кольцо и сказал потом: "C'est de mauvaise augure" [Это дурное предзнаменование (фр.).].
Когда после свадьбы они уезжали в Персию, все, у кого только были экипажи и верховые лошади, выехали их провожать, не помню только, до какого места, так как меня не взяли. В последнем своем письме из Тавриза, где он жил некоторое время с женой пред вечной разлукой и отъездом его одного в Тегеран, он пишет матери: "Дашеньке нежнейший поцелуй. Как мы ее с женой любим, пари держу, она и не подозревает о наших разговорах в Тавризе, все про нее и про Катеньку, как-то найдем их, когда воротимся, за кого их выдадут? Маленькие их кокетства в клубе, и т. д. и т. д." [6].
Три месяца после этого письма он был убит. Про то, как привезли останки Грибоедова в Тифлис, как его хоронили, я имею очень смутные воспоминания. Я была больна в то время, но все же видела похоронную процессию издали, с балкона нашего дома. Говорили тогда, что гроб его держали долго в карантине. По приезде из Таврнза Нина Александровна поселилась со своими родными уже не в каменном флигеле, а в городе. После того как нечаянно ей открыли правду, она долго хворала. И на нашем доме до самого отъезда в мае 1830 года все как будто тяготел траур. Приезжала раз Нина Александровна в Москву с сестрой своей княгиней Е. А. Дадиан-Мингрельской на коронацию императора Александра II [7], но нам не суждено было свидеться, вскоре после этого она скончалась. С княгиней же Екатериной Александровной Дадиани мы часто виделись впоследствии в Петербурге, после того как она должна была уступить свои владения России, были с ней в самых дружеских отношениях и в переписке до самой ее смерти, последовавшей в Мингрельском замке Зукзыдак.
Мать моя сохранила 9 писем А. С. Грибоедова, которые я, кажется, в 1888 году отдала в Публичную библиотеку. Одно из этих писем 1824 года совершенно незначительное, четыре 1827 года, когда он состоял при князе Паскевиче, описывает военные действия, рвется на свободу и недоволен всем. Три письма 1828 года, когда он был уже назначен послом, но все же был при армии князя Паскевича, тоже описывает военные действия и пишет много про свою невесту, последнее из Тавриза, уже женатый, до смерти за три месяца.
Воспоминания эти я должна диктовать, так как зрение мое ослабло и почерк неразборчив.
Удельная, 11 ноября 1901 г.
Г.А. Рассказ Амбарцума
Наш вазир–мухтар (полномочный посол) был очень добродушный и милостивый человек, – сказал старец-рассказчик, – хотя господин в высшей степени раздражительного характера. В числе лиц, желающих вернуться на родину, были и такие, которые сделались евнухами при дворе Фет–Али–шаха, и такие женщины, которые поступили в шахский гарем. В числе этих последних была одна очень красивая женщина, которая иногда, ночью, тайком приходила к вазир–мухтару в дом, находящийся в квартале Дараваза–Шах–Абдул–Азим (этот дом и до сих пор существует), и умоляла посла выслать ее на родину, в Тифлис. Ее принимали за мусульманку (она была грузинка). Когда узнали об этом, то как шах, так и народ страшно возмутились; подумали, что эта грузинка находится в любовных отношениях с вазир–мухтаром; в глазах же мусульман такой поступок может быть смыт только убийством нарушителя закона.
По шариату, и женщина, и вазир–мухтар должны были быть избиты камнями.
Шах считал себя обесчещенным, а духовенство считало святую религию поруганною. Каждый день на базаре мы слышали, как муллы в мечетях и на рынках возбуждали фанатический народ, убеждая его отомстить, защитить ислам от осквернения "кяфиром". Мы приходили и рассказывали вазир–мухтару, но он только смеялся и не верил тому, чтобы они осмелились что–нибудь подобное сделать. По настоянию наших казаков и телохранителей он только один раз обратился к шаху и заявил о возбуждении народа.
Шах просил быть покойным, говоря, что никто не осмелится ничего сделать.
В 1829 году, в последних числах января, волнение и возбуждение в городе постепенно увеличивались; шах со твоими приближенными и своим гаремом выехал из города поехал в одну из близлежащих деревень.
Мы – курьеры и казаки – постоянно держали наготове наши ружья и пистолеты, но посол считал невозможным какое бы то ни было нападение на посольский дом, над крышей которого развевался русский флаг.
30 января едва забрезжилось, как вдруг послышался глухой рев; постепенно слышались традиционные возгласы: "Эа Али, салават!" (С богом!), исходящие из уст тысячной толпы. Несколько служащих бегом пришли известить о том, что многочисленная толпа, вооруженная камнями, кинжалами и палками, приближается к посольскому дому, предшествуемая муллами и сеидами. Возглас "смерть кяфирам" был слышен очень хорошо. Посол теперь понял опасность: он приказал запереть ворота, всем казакам и курьерам числом около 40 велел стоять позади ворот и охранять дом, а сам вместе с двумя казаками, имея в руках ружье и пистолет, стал перед дверью комнаты. При криках "Эа Али, салават!" и страшном грохоте обрушилась дверь под ударами топоров. Толпа завопила: "Где неверующий вазир–мухтар?" Несколько десятков персидских солдат, пришедших для вида из соседних казарм, моментально скрылись. Казаки героически дрались, постепенно отодвигаясь к комнатам. Когда почти все были избиты и толпа приблизилась к комнатам, посол со мною и вместе с двумя казаками лицом к лицу стали навстречу толпе.
Видя, что наступила последняя минута, я подошел к послу и попросил, чтобы он вошел в комнату, влез в печную трубу и через нее поднялся на крышу дома. Оказалось, что он с места ранил нескольких и из ружья убил несколько десятков персов. Я остановился перед дверью и своим корпусом помешал толпе войти; сильные удары посыпались на мою голову, я упал, но все–таки произнес: "Вазир–мухтар уже убит, чего вы еще хотите?"
Не найдя никого в комнате, толпа поверила и вышла вон возвестить слух и отыскать труп. В это время кто–то заметил на крыше двух скрывающихся казаков; толпа тотчас взобралась на крышу и убила их камнями; один из мятежников заглянул в дымовую трубу и крикнул: "Вон один кяфир спрятался а печке". В одно мгновение разрушили печку и, извлекши оттуда уже избитое тело (это было тело Грибоедова), подвергли его тысяче ударов. Лежа на месте, я слышал эти удары; меня считали уже умершим, или, быть может, меня спасло от смерти то, что я был одет в платье персидского курьера.
Изуродованный и избитый труп посла вытащили во двор, и быстро все успокоилось...
Когда я очнулся через несколько часов, кругом себя увидел одни развалины, трупы, человеческое мясо и кровь...
Скрылся в доме одного милосердного персиянина, узнал, что целых два дня таскали по улицам трупы посла н казаков вместе с трупами дохлых собак.
Спустя два дня наконец пришел сам шах; сердился, горевал и приказал подобрать трупы.
Я спросил старца Амбарцума:
– По неужели не нашли труп вазир–мухтара?
– Нашли один труп и говорили, что это труп Грибоедова, но бог знает, тот был или нет...
К.К. Боде. Смерть Грибоедова
Постараюсь в этих немногих строках передать те сведения, насколько они сохранились в моей памяти, которые я почерпнул из личных расспросов во время моего пребывания в Персии о смерти Грибоедова в Тегеране 30 января 1829 года.
Не стану здесь разбирать всех причин непопулярности Грибоедова как русского посланника при шахском дворе, приведшей к роковой катастрофе; ограничусь тем, что главная причина состояла в неудовольствии шаха и его сановников против Александра Сергеевича за настойчивость, с которой он требовал выдачи наших русских пленных, укрываемых в гаремах персидских вельмож и во дворце самого шаха, равно как и за открытое покровительство, которое он оказывал тем русским подданным, которые прибегали к его защите.
Наконец враждебно расположенные к Грибоедову люди подстрекнули народ осадить дом посольства и силою вырвать из наших рук укрывающихся в стенах его русских пришельцев. Когда толпа теснилась около ворот, дерзко требуя выдачи дезертиров своих, как она выражалась, один из конвойных казаков, защищая вход во двор, выстрелом из пистолета убил, как говорят, персиянина. Ожесточенный народ поднял и отнес бездыханный труп на шахский майдан (или дворцовую площадь), куда собралось многочисленное духовенство, разжигая страсти черни на мщение за пролитую мусульманскую кровь. От слов перешло скоро к делу. Народ снова явился еще в большем количестве к дому посланника. Тогда Грибоедов и остальные чины миссии, видя, что дело плохо, приготовились к осаде и заделали все окна и двери; вооруженные и в полной форме, они решились защищаться до последней капли крови. Должно заметить, что близ самого дома русского посольства помещались заложники персидского правительства, бахтиарцы, племени лур, одного из самых буйных и диких племен, населяющих горные местности к югу и западу от Исфагана. Для них этот случай представлял завидную поживу. Как кошки, они перелезли через стены и забрались на плоскую (как всегда в Персии) крышу, просверлили широкие отверстия в потолке и начали стрелять в наших сверху вниз. Между тем толпа ворвалась в ворота и, положив наповал всех казаков, вломилась в дверь. Говорят, что Грибоедов одним из первых был убит пулей из ружья бахтиарца; второй секретарь миссии Аделунг и, в особенности, молодой доктор (имя которого, к сожалению, ускользает из моей памяти) [1] дрались как львы; но бой был слишком неравен, и вскоре все пространство представило взору одну массу убитых, изрубленных, обезглавленных трупов. Александра Сергеевича, вероятно, отличили но его мундиру и внешним украшениям, потому что разъяренная толпа, упившись кровью несчастных русских, повлекла труп нашего посланника по улицам и базарам города, с дикими криками торжества [В мое время еще красовался один персидский серхепг (полковник) в воротнике и обшлагах, черных бархатных с густым серебряным шитьем, снятых, должно быть, с мундира Грибоедова. (Примеч. К. К. Боде.)].
Когда все было кончено и наступила мертвая тишина, явилась на сцену городская стража и военный отряд, присланные будто бы по повелению шаха, для усмирения народа. Это была горькая ирония вслед за ужасной трагедией. Узнав, что труп находится в руках черни, шах приказал отобрать его и уведомить первого секретаря Мальцева, который один из русских спасся каким–то чудом, потому что жил не в посольском доме, а на квартире мехмандаря (т. е. персидского сановника, прикомандированного к миссии), что блюстители порядка успели вырвать тело российского посланника из рук разъяренной черни и шах желает знать, какое распоряжение сделает Мальцев по этому случаю. Мальцев просил препроводить бренные останки посланника в Тавриз, куда и сам отправился.
Пока эти печальные события происходили в Тегеране, молодая супруга Грибоедова, Нина Александровна, урожденная княжна Чавчавадзе, осталась в Тавризе в полном неведении, ожидая с нетерпением возвращения мужа. Даже когда тревожные известия проникли до Тавриза, никто не решался сообщить о них несчастной женщине, еще в то время беременной. Наконец было поручено одной француженке при дворе Наиб–султана, г–же де ла Мариньер (бывшей лектрисе неаполитанской королевы, младшей сестры Наполеона I), сообщить со всевозможною осторожностию г–же Грибоедовой, что будто бы супруг ее, озабоченный важными делами, не может писать ей; но просит ее выехать в Тифлис, куда и сам за нею немедленно последует. Г–жа Мариньер, исполнив поручение, вызвалась в то же время сопутствовать несчастной. Нина Александровна смиренно покорилась мнимой воле мужа и с стесненным сердцем выехала из Тавриза, но во время пути сердце предвещало ей нечто недоброе, ее смущало странное и таинственное обращение с нею окружающей прислуги. Добравшись до Эривани, она приступила к своей спутнице, умоляя со слезами вывести ее из тяжкого положения и не скрывать от нее всей правды, присовокупляя, что самое тяжелое горе было бы для нее легче переносить, чем мучительную неизвестность [2]. Однако ж весть об ужасной смерти мужа так сильно потрясла ее, что несчастная, одним ударом лишившись обожаемого друга, потеряла и драгоценный залог их любви. Безутешная вдова вернулась обратно под кров своих родителей.
Приведенные здесь сведения были мне переданы самой г–жой Мариньер. Я же имел счастье познакомиться впервые с Ниной Александровной в конце 1837 года в доме графини Симонич, супруги бывшего посланника нашего в Персии, а в 1838 году на обратном пути из России в Персию я опять посетил Тифлис, где имел случай короче оценить всю прелесть души этой редкой женщины. Узнав о желании моем взглянуть на могилу покойного ее супруга, Нина Александровна сама вызвалась быть моим путеводителем. По крутым тропинкам вместе мы добрались пешком до вершины горы, на которой стоит обитель св. Давида. Тут, в пещере, высеченной в дикой скале, поставлен ее заботливой рукой памятник, под которым покоится прах высокоталантливого человека. Мы преклонили колена в безмолвии.
Грибоедов при жизни трудился для славы и вполне достиг ее. Но что в моих глазах ставит Грибоедова даже выше всех его литературных заслуг, как велики они ни были, это та настойчивость и неустрашимость, с которою он умел поддерживать достоинство русского имени на Востоке. Эти качества повсюду уместны в государственном человеке; но на Западе они могут проявляться без особого опасения, совсем иное на Востоке. Там проявление их часто сопряжено с опасностью для жизни и требует особенного мужества и нравственной силы. Таково было положение нашего посланника в Персии. Имея перед собою для руководства статьи Туркманчайского трактата, в силу которых персидское правительство обязывалось выдавать нам беспрекословно, по востребованию нашему, всех русских подданных, взятых в плен не только в продолжение последней войны, но и прежде, когда персияне делали набеги в наши пределы и уводили в рабство наших кавказских жителей, – Александр Сергеевич не давал потачки ни сановникам персидского двора, ни мусульманским духовным лицам, ни самому шаху, когда одни или другие старались укрывать и разными уловками не выдавать требуемых нашею миссиею русских невольников. Таким образом, он восстановил против себя почти всех влиятельных лиц, окружающих двор "Центра мира" – Кебле–элем, как величают падишаха Ирана, и только нужна была одна искра, чтобы воспламенить все те горючие вещества, которые окружали нашего посланника.