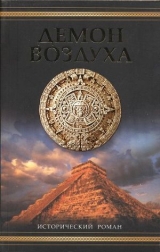
Текст книги "Демон воздуха"
Автор книги: Саймон Ливек
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
– Эй ты! А ну вернись!.. – взревел Рукастый, бросаясь вдогонку за жертвой.
Мы неслись по узким ступенькам вприпрыжку, и если богам присуще чувство юмора, то кто-нибудь из них наверняка смеялся. А между тем наш раб вдруг остановился и свесился вниз между двумя каменными столбцами.
Я понял, что он собирается прыгнуть.
– Эй вы все! Послушайте меня! – крикнул он, словно раскинувшийся внизу огромный город мог услышать его. – Большая лодка… Большая-пребольшая лодка!.. Остерегайтесь большой лодки!
– Постой! – воскликнул я в отчаянии.
Ну что я мог сказать человеку, который собирался умереть? Я пытался разглядеть выражение его лица, но на фоне вечернего неба и сверкающего в предзакатных лучах озера он был просто тенью с огромными ушами.
– Не вздумай прыгать! Ты предназначен для бога войны. Ты же слышал, что сказал твой хозяин, – к утру ты попадешь в солнечную свиту!..
Тогда невольник повернулся ко мне и, шагнув назад, застыл на самом краю пропасти.
– Это ложь, – спокойно и невозмутимо произнес он. – Омовенные рабы снисходят в Долину Смерти, как и все остальные. – Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. – Только поведайте об этом старику, – добавил он.
Я бросился вперед в надежде схватить его за ноги – даже сам чуть не перелетел через край, когда приземлился там, где он только что стоял. Но он уже сделал свой последний шаг и теперь лежал переломанный далеко-далеко внизу.
Глава 3
Иногда я затрудняюсь припомнить, сколько всего случилось с тех времен, когда жрецы приносили свои жертвы богам на вершине Большой Пирамиды. Теперь эти старые устои, несомненно, кажутся немыслимыми и варварскими, и люди все гадают, как такое могло происходить и почему многие и многие, подобные рабу Сияющего Света, принимали смерть от кремневого ножа огненного жреца.
А ведь этому нас учили.
Мир был разрушен четырежды – один раз прожорливыми ягуарами, один раз бушующим ветром, один раз огненным дождем и один раз потопом. Каждая из этих катастроф уносила великое множество человеческих жизней или преображала людей до неузнаваемости, поэтому после потопа, в самом начале нынешней эры, богам пришлось населить землю заново.
После последней катастрофы они послали бога Кецалькоатля, или Пернатого Змея, в преисподнюю, с тем чтобы тот собрал там кости мертвых. Это поручение он выполнил, и даже Владыка Царства Мертвых не смог помешать ему в этом. Но даже после того, как он раздобыл кости и вручил их богине Сиуакоатль, которая размолола их в муку, жизнь в них так и не вернулась. Тогда Кецалькоатлю пришлось добавить туда своей плоти и на собственной крови замесить из той муки тесто, из коего можно было бы вылепить первых мужчину и женщину, а все остальные боги последовали его примеру. Боги отдали свою кровь, чтобы подарить нам жизнь, поэтому наш долг перед ними может быть выплачен только кровью.
Но и это еще не все. Так, например, мы верили, что без ежедневных подношений в виде человеческих сердец Солнце не сможет ходить по небу. Об этом имеется такая легенда. После того как были созданы мужчины и женщины, Мир по-прежнему оставался во тьме, и тогда все боги собрались, чтобы сотворить заново Солнце. Они соорудили огромный костер, полыхавший четыре дня. Потом они призвали сиявшего великолепием бога-красавца Текуксистекатля, которому предстояло прыгнуть в огонь и, сгорев, возродиться заново в обличье Солнца. Но пламя было слишком жарким, и, пока красавец бог колебался, пятясь в страхе от пылающих огненных языков, презренный невзрачный уродливый коротышка бог Нанауацин прыгнул в полыхающий ад вместо него. Когда плоть Нанауацина начала пучиться и пузыриться в огне, снедаемый стыдом красавец бог сумел превозмочь свой страх и тоже прыгнул в костер. Так Нанауацин возродился в обличье Солнца, а Текуксистекатль стал Луной. Поначалу оба светила сияли с равной силой, но другие боги швырнули в лицо Луне кролика, чтобы приглушить ее свет, – вот почему мы и поныне можем видеть на поверхности луны кроличьи очертания.
Теперь Солнце и Луна обрели жизнь, только тогда они еще не восходили. Они просто сидели на линии горизонта, колыхаясь из стороны в сторону, и тогда остальные боги принесли себя в жертву, чтобы дать светилам энергию, необходимую для движения по небу. Кецалькоатль вырезал у них одно за другим сердца и бросил их в огонь, после чего прыгнул в него сам. И вот благодаря богам, принесшим себя в жертву, наступил первый день жизни, поэтому мы верили, что должны следовать их примеру и что день, когда боги отвергнут угощение из человеческих сердец и крови, станет последним днем мироздания.
И все же мы были подобны богам! Нет, ни ацтеки, ни даже сам император не считали себя богами, но и люди и боги создавались по единому образцу и существовали в этой вечной борьбе за поддержание Солнца, за то, чтобы оно могло ходить по небу. Иначе зачем тогда понадобилось богам воздвигнуть наш город и сделать его вопреки всем соперникам величайшим городом мира? Иначе зачем тогда было посылать вперед наши воинства, если не для добычи пленников, коим предстояло пройти жертвенный путь – «цветистый путь смерти», как мы его называли? И зачем тогда участвовали мы в этих трапезах богов, поедая плоть тех, кто принял смерть на жертвенном камне? Зачем тогда пировали мы наравне с богами, чьей пищей были человеческие сердца?
Да, не нашу собственную грудь мы вспарывали для удовлетворения богов. Но свою собственную кровь мы отдавали легко, и все ацтеки принимали участие в этом, когда прокалывали мочки ушей шипами кактуса как символ всего лишь скромного воздаяния. А наши жрецы далеко превосходили нас, протыкая себе языки и половые члены обсидиановыми ножами и протягивая через них веревки, а потом предъявляя всем эти кровавые нити как доказательство своей преданности богам. Но самые дорогие подношения – человеческие сердца, необходимые для восхода Солнца, – брались у пленников и рабов, купленных специально для этой цели.
Плененные враги ценились как жертвы превыше всего, и чем храбрее и доблестнее были в битве эти воины, тем с большим удовольствием потом боги вкушали их сердца. Ацтекский воин, добывший в бою доблестного противника и преподнесший его в жертву богам, получал за это великие почести – щедрые дары от самого императора, право на ношение хлопковой одежды, сандалий и особой прически, право принимать участие в дворцовых трапезах и пить священное вино. А помимо этого он получал то, о чем мечтали все ацтеки, – славу и возможность превознести себя перед собратьями.
Впрочем, и рабы иной раз представляли собой не меньшую ценность, чем плененные воины. Это были так называемые омовенные рабы, их приобретали за большую цену, выхаживали, холили, омывали, пока они не становились гордостью своего хозяина и достойным даром богу, в честь которого им предстояло умереть. Преподнести такого раба в жертву считалось делом особенно почетным. Тем самым жертвующий взваливал на себя часть нашего всеобщего тяжелого долга перед богами и становился героем дня.
Ни одно сословие в городе не соревновалось так отчаянно за право принесения в жертву омовенных рабов, как сословие торговцев. Все они, независимо от размеров состояния, обычно довольствовались малым – носили накидки из грубой шероховатой ткани, распускали, как простолюдины, волосы и не имели обуви. В городе, где богатство, нажитое торговлей, а не боевой доблестью, вызывало зависть и презрение, подобная скромность являлась всего лишь проявлением благоразумия. Однако в то же время некоторым избранным торговцам иногда разрешалось носить одежду воинов и предоставлять для жертвы рабов, как если бы они сами пленили тех в бою. Это происходило как раз во время праздника Поднятых Знамен, устраиваемого в честь бога войны Уицилопочтли.
Я догадывался, каких трудов и трат стоили нашему молодому торговцу приготовления к этому празднику. Ему пришлось съездить в Ацкапоцалько, город в глубине страны, славившийся своим невольничьим рынком, и там выбрать себе самого сильного и красивого раба. Рабы выставлялись в красивой одежде и в кожаных сандалиях, с янтарной пластиной в нижней губе и янтарными серьгами в ушах – все это работорговец снимал с них, как только сделка осуществлялась. Покупатель тщательно осматривал раба – щупал мышцы, заглядывал в глаза и в рот, проверял тело на предмет синяков, шрамов и вздутий, смотрел, как тот танцует под звуки барабана. Хороший танцовщик стоил целого состояния, и наш молодой торговец скорее всего уплатил за своего невольника все тридцать, а то и сорок накидок.
Потом он привел купленного им раба, босого, одетого в грубое тряпье, к себе домой и запер его в деревянную клетку.
Меня частенько мучил вопрос: что заставляло этих омовенных рабов так безропотно идти на смерть? Кто-то, несомненно, верил нашим поэтам, воспевавшим сладость «цветистого пути смерти», и завидовал участи мертвых воинов, коим довелось сопроводить само Солнце к зениту, а потом возродиться на земле в обличье колибри или бабочки. Другие, возможно, просто смирялись с этой мыслью, но я всегда подозревал, что многим, чей путь, исполненный ошибок, дерзновений и пагубных обстоятельств, привел в ряды рабов на невольничьем рынке, все это казалось чем-то странным и далеким, и только кремневый нож огненного жреца оставался единственной убедительной вещью.
Омовенному рабу в доме торговца выдали новую хлопковую накидку и широкую набедренную повязку, продели в уши заостренные перья птицы кецаль, нанизали на руки и на ноги погремушки из раковин и кожи оцелота, а в волосы вплели золоченые нити и снизки бирюзы, коралла и обсидиана. Его угощали табаком, кормили сытной пищей, подносили цветы. А потом заставили танцевать.
Четыре ночи подряд он танцевал под звуки барабана, исполняя танец змеи для семьи торговца и его гостей. На третью ночь к его нарядам и украшениям прибавились длинная, отороченная перьями куртка с рисунками в виде черепов и костей, украшенная перьями прическа, обсидиановые сандалии, бумажные крылья сокола и побрякушки из бирюзы. Все эти предметы носили священный смысл, и, надев их, человек должен был почувствовать себя изменившимся – он как бы еще на шаг продвигался по дороге, ведущей к смерти и последующему перерождению.
В ту же третью ночь его знакомили с его спутниками, с теми, кому предстояло сопровождать его в этом пути, – стражниками, которые остановят его, вздумай он броситься наутек в последний момент; жрецом, что будет наблюдать за его бдением в последнюю ночь на земле; и с купальщицей, непременно старенькой женщиной, кто по-матерински ласково будет ухаживать за ним и останется рядом до последнего момента.
На четвертую ночь раба отвели в храм в торговом квартале. Там его заставили выпить вина, настоянного на специальных грибах, и, одурманенный этим ритуальным зельем, он проплясал под барабан до полуночи, после чего ему обрили голову.
Прическа имела большое значение в Мехико. По прическе, как и по одежде, определяли, кто ты таков и чего добился. По спутанным, слипшимся от крови космам распознавали жреца. Простолюдины и торговцы носили длинные распущенные волосы. Не пролившие крови юнцы, которым еще только предстояло добыть своего первого пленника в бою, брили голову целиком, оставляя справа на затылке единственный локон, – его тоже сбривали, когда молодому воину удавалось без посторонней помощи захватить в плен вражеского бойца. Так по прическе даже посторонний мог узнать, чего добился тот или иной человек. Выбритая на макушке тонзура показывала, что владелец ее так и не сумел самостоятельно добыть пленника, а громоздкое сооружение из волос под названием «каменный столб» означало, что этот воин захватил в бою по меньшей мере двух пленников. Наши самые могучие и опытные воины, так называемые остриженные, носили на наполовину бритой голове тугой жесткий гребень из волос.
Отрезать взрослому мужчине волосы означало не просто унизить его. Тем самым его навсегда лишали какого бы то ни было статуса. С того момента, когда у омовенного раба состригали волосы, он просто переставал существовать. Отныне он считался уже мертвым.
Глава 4
На западе души умерших во время родов матерей уже тащили Солнце вниз в Долину Смерти.
– Пора. – Рукастый убрал недоеденный кусок в котомку. – Всегда оставляю что-нибудь для детишек, – объяснил он.
Я смотрел на темнеющую гладь воды у наших ног, в ней отражались огни храмовых костров, горевших на вершине пирамиды.
– Интересно, почему он это сделал? – сказал я.
Рукастый зевнул.
– Нечего было терять, так я понимаю. Может, надеялся спастись. – Он поднялся. – Только вот непонятно, что это он за чушь молол про какую-то большую лодку. О чем это он? Да и вообще омовенному ли рабу, направляющемуся в Долину Смерти, рассуждать о чем-то? Так ведь?
– Что верно, то верно. Они ведь не попадают в свиту утреннего Солнца, как пленные воины. И заметь, – прибавил я задумчиво, – мы ведь не открываем им этой тайны. Вот мне и любопытно, как он узнал.
– Да. А мне еще любопытно, что это еще за старик такой, которому мы должны что-то поведать.
– Не представляю. Только я имел в виду не раба, а этого молодого торговца по имени Сияющий Свет. Зачем он взял себе такого костлявого слабака? Представь, каково ему было, когда тот на глазах у всей публики и у самого императора сиганул с пирамиды? – Подобные поступки не приветствовались в Мехико, где даже обреченные на смерть достойно играли свою роль до конца в надежде обрести взамен великую честь пройти по «цветистому пути смерти». Обмануть богов, лишив их причитающегося, как это сделал раб Сияющего Света, считалось позором. – Представь только, что теперь ждет этого парня. Хорошо еще, если он сможет снова показаться в городе. И почему он выбрал именно этого раба? Просто дурь какая-то.
– Да уж, хорошо, что я нанялся всего на день, – многозначительно заметил Рукастый. – Хотя бы завтра утром об этом думать не придется.
Где-то далеко прогудела труба-раковина, возвещая о заходе солнца. Я поднялся.
– Да мне в общем-то тоже безразлично. Интересно вот только, как мне доложить об этом своему хозяину.
Ну и как же я собирался доложить об этом хозяину? По дороге домой я репетировал эту сцену, воображая, как буду мямлить и запинаться, почтительно сидя на корточках перед стариком и ожидая, когда терпение его лопнет и он налетит на меня как ураган.
Рабы в Мехико имели множество прав, так как считались священной принадлежностью Тескатлипоки, Курящегося Зеркала, капризного бога, любившего посмеяться над людьми и поменять местами рабов и их хозяев. Мы могли владеть своей собственностью – деньгами и даже собственными рабами. Мы могли жениться и заводить детей, и наши семьи не становились имуществом наших хозяев. С нами нельзя было дурно обращаться. Хозяин не мог продать раба, если тот не дал ему повода избавиться от него, но даже это происходило только после третьей провинности. Раба нельзя было убить, так как лишь омовенные рабы, по своему положению, с самого начала предназначались для принесения в жертву. Таков был закон.
Только меня угораздило оказаться рабом не простого хозяина, а самого господина Тлильпотонки, чье имя означало «тот, кто облачен в черное оперение». Он имел титул советника сиуакоатля – в честь богини, называемой Женщина-Змея, – и выполнял обязанность главного жреца, главного судьи и главного министра. Старик Черные Перья был самым влиятельным и могущественным после императора человеком в стране и если не стоял выше закона, то по крайней мере был равен ему. А вдруг он подумает, что я должен был предусмотреть подобное, предвидеть все, что произошло с рабом Сияющего Света? Сам-то он, конечно, мне ничего не сделает, но может посмотреть сквозь пальцы на то, как проклятый Уицик, его живодер-прислужник, спустит на меня всех собак.
Рукастый правильно заметил, что я видел множество жертвоприношений. Я видел их в непосредственной близи, я знал каждый шаг этого ритуального действа, так как сам когда-то был жрецом.
Храм и Дом Жрецов стали для меня родным домом еще в детстве, когда отец мой, распираемый гордостью за сына, принятого в стены этого сурового заведения, которое мы называли Домом Слез, отдал меня в руки зловещих чужаков в черных одеяниях.
Дом Жрецов мы называли Домом Слез неспроста, ибо там я пролил их великое множество. Я плакал, пока смотрел вслед уходившему отцу, и когда мне сажей вымазали лицо и надрезали уши, чтобы сбрызнуть кровью лик истукана. Я плакал много и много раз позже, во время ритуальных кровопусканий, постов, изнуряющих ночных бдений, во время этой бесконечной зубрежки священных гимнов и «Книги Дней» и во время постоянных побоев, прописанных за малейшую провинность. Впрочем, с годами я закалился – научился обходиться без еды и без сна, привык к спутанным вшивым волосам и к сухой корке из пота и крови на коже. Я научился любить эту жизнь жреца, так как она стала моей средой, а еще потому, что даже самые свирепые воины, встречая меня на улице, сторонились при виде моего черного от сажи и перепачканного кровью лица. Слезы, пролитые мною в тот самый первый день, были не горше тех, что я проливал потом, когда все это у меня отняли, грубо вышвырнув в мир обычных людей.
Я бы с удовольствием не вспоминал о тех временах, но, приближаясь к дому главного министра, я почему-то думал обо всех жертвоприношениях, которые видел в бытность свою жрецом, – о тех разнообразных способах, коими мы отправляли мужчин, женщин, а иногда и детей, к богам, – и я понял, что Рукастый был прав. Я действительно никогда не сталкивался с тем, что случилось сегодня. И дело было вовсе не в том, какую смерть нашел омовенный раб, и не в загадочных, кажущихся пророческими словах, произнесенных им перед тем, как прыгнуть вниз. Странным и необъяснимым было то, как он и его хозяин вели себя в течение всего дня, – я, помнится, еще подумал, что они словно играют отведенные им кем-то роли. Но все равно я никак не мог бы предсказать произошедшее в дальнейшем.
В общем, хозяину не в чем было меня упрекнуть. Это я твердил себе, торопливо шагая к хозяйскому дому. Я бубнил себе под нос эти слова оправдания в надежде, что главный министр поймет меня; я не переставал их бормотать, когда, свернув на узкую дорожку, ведущую от канала к дому, налетел на какого-то верзилу, идущего навстречу.
– А ну брысь с дороги, неуклюжий болван!..
– Простите!.. – начал было я, но голос, слишком хорошо мне знакомый, перебил меня:
– Яот! Ты вот, оказывается, где, муравьишка! А мы тебя ищем, замучились бегать по городу!
Не веря своим глазам, я едва не застонал от осознания несправедливости жизни. Я еще раз посмотрел на верзилу, на этот раз заметив в его громадных ручищах увесистую дубинку, потом на его спутников, словно высеченных из гранитных глыб, и наконец на того, кто стоял посреди них и кому принадлежал этот хорошо знакомый мне голос. Человек этот ни размерами своими, ни страшным видом ничуть не уступал своей свите.
На нем был желтый с красной каймой хлопковый плащ, прикрывавший икры, в ушах трубчатые пластины. Белые ленты держали волосы, туго завязанные узлом на затылке. Тело его, как у жреца, было вымазано сажей. На ногах красовались желтые сандалии. Его наружность сразу не говорила любому о том, кем он являлся, – прославленным воином, чьи доблестные достижения отмечались в самых высших государственных сферах. И человек этот прекрасно знал, что его умудренные боевым опытом подручные в сине-белых накидках с воинственными столбами-гребнями на голове будут только счастливы пустить в ход свои дубинки по первому же призыву своего начальника. Внимательный и любознательный наблюдатель тут же определил бы в нем судебного исполнителя атенпанекатля, то есть городского стража – люди, занимающие эту должность, поддерживали порядок в городе, раскраивая черепа, вешая или кромсая на куски тех, кому вынесли приговор судьи.
Впрочем, я не нуждался в подсказках какого-то там любознательного наблюдателя. Ибо, даже если бы я очень хотел, я вряд ли смог бы не узнать собственного брата.
– Мамицли! – отозвался я, стараясь сохранять невозмутимость, между тем как его молодцы недоуменно зыркали на меня сверху вниз, явно теряясь в догадках, как поступить, – то ли отвесить мне тройной поклон, то ли оглоушить по башке. – Какая редкая честь для меня! Это с каких же пор судебные исполнители рыщут по городу в поисках столь скромной персоны, как раб главного министра?
И имечко у моего брата было подходящее. Оно означало «горный лев». Только ни один горный лев отродясь еще не смотрел на жалкую дрожащую зверушку, распластавшуюся у его ног, таким свирепым взглядом, какой он обратил в мою сторону. Впрочем, в моем взгляде было не меньше ярости.
– Даже больше чести, чем ты думаешь, братец, – поспешил уверить меня Лев. – Вовсе не к господину Черные Перья пожаловали мы, а к тебе.
– Тогда придется вам потерпеть. – Я с опаской глянул на его свиту и постарался унять дрожь в голосе. – Ты же знаешь, я не могу заставлять ждать главного министра.
– Нет, сможешь. Ведь это не я хотел повидать тебя.
– Тогда кто же?..
Впрочем, ответ я уже знал – и осознание этого, как какая-то безжалостная когтистая лапа, казалось, вытягивало из меня все внутренности. Чей еще вызов мог бы заставить ждать самого главного министра?
– А ты как думаешь? Император, конечно. Поздравляю тебя, братец! Тебе несказанно повезло – ведь ты умудрился обратить на себя внимание нашего владыки Монтесумы!








