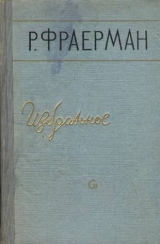
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
Жена уже топила печку и крошила рыбу, когда Васька вернулся домой. Женщины и дети толпились около котла над очагом. Вдовая сестра Васьки Тамха, жившая в одной избе с ним, месила тесто для пресных лепешек. Семилетний сынишка Васьки Панга стоял у печки и, выставив живот, курил трубочку, которую мать поминутно вырывала у него, затягивалась раза три и совала ему обратно в рот.
От табаку и печки в избе было дымно, темно. Запах вяленой рыбы, нерпичьего жира, сивучьих кож, сушившихся под крышей на жердях, показался Ваське после тайги особенно тяжелым. Он попросил есть.
Жена поставила на нары китайский столик на низких ножках, накрошила юколы и заварила кирпичного чаю. Тамха начала печь лепешки, скупо смазывая их нерпичьим жиром, и в избе, кроме всего, запахло еще горелым тестом.
Тамха была одета по-праздничному, хотя праздника никакого не было. В ее жестких волосах, заплетенных, в отличие от мужчин, в две косы, синели ленты из китайской канфы, в ушах болтались оловянные серьги, праздничный фартук был обшит красным сукном.
Она надела это ради старшего брата ее покойного мужа, ради Митьки Галяна, за которого она, по вдовьему обычаю, на-днях выходила замуж.
Васька знал, что дело тут не только в обычае, который Митька при желании мог бы обойти, но и в том, что Тамха молода, а покойный Начах оставил ей избу в Тымах, полную нарту собак и рублей на сто серебра и одежды. Тамха могла бы остаться вдовой, но она была бездетна, и все наследство мужа переходило к брату его. Калым же за нее никто не вернет Митьке Галяну[6]6
По старым обычаям гиляков, вдова обязана выйти замуж за брата покойного мужа. Если же она хочет выйти за другого, то должна вернуть калым в семью мужа. Имущество все тоже переходит в его семью.
[Закрыть]. Плох был улов за последние годы. А Митька был сам богат, вдов и не так уж стар, как иногда казалось Тамхе.
Однако Васька его недолюбливал за многое: за то, что разбогател он обманом, скупая у своих рыбу для русских купцов, и за его сердце, жадное и хитрое, как у лисы.
Митька хотел, чтобы, как знатному, при встрече приседали ему.
Васька поел и начал готовиться к охоте: переменил ремни на лыжах, осмотрел свои тюленьи торбаса, набитые сеном, надел гарье[7]7
Меховые штаны.
[Закрыть] и взялся за ружье.
В это время вошел Митька. Он был низкоросл, широкогруд и носил не обычную собачью шапку чепчиком, а беличью, с длинными ушами, подражая Семке-собачнику, с которым вел дела и часто судился.
В черной косе Митьки была уже седина. Но выглядел он не старым, так как пил мало, а в самое тяжелое время, весной и осенью, держал русского работника. Он мог бы иметь трех, даже четырех жен, но остался вдов после смерти Гинги. Он не собирал в сундуках кусков парчи, серебряных безделушек, как другие богатые гиляки. За старинную кольчугу, расцениваемую стариками рублей в триста, он не дал бы и гроша. Но зато любил золото, хорошую одежду и всегда носил кафтан из меха черных собак, что считалось большим щегольством.
– Здорово! – сказал Митька, остановившись в дверях.
Васька поздоровался с ним холодно, не привстав даже с нар, как это сделали все бывшие в фанзе. Но Митька был на этот раз особенно ласков с Васькой.
– На охоту собираешься? – спросил он, поглядывая на его ружье.
– Да.
– Я думал, ты уж с охоты пришел, лису принес. Стрихнин у меня хороший, не китайская челибуха[8]8
Растение-кустарник, из ягод которого китайцы приготовляют яд, отраву для зверя.
[Закрыть]. Лучшего не найдешь ни в городе, ни на Сахалине. Зверь только понюхает – тут же ложится.
– Не шибко хороший, – хмуро сказал Васька. – Лиса и на зуб брала, да ушла.
– О-о-о! – Митька сочувственно покачал головой. – За ней пойдешь?
– Пойду, недалеко ушла. След есть.
– Это хорошо. Пусть твоя охота счастливо начнется и счастливо кончится.
– Спасибо. Пусть и тебя счастье не оставляет, – равнодушно ответил Васька.
– Какое у нас, у гиляков, счастье! – Митька присел на нары и вздохнул. – Сухое дерево на тропе. Кто бы ни остановился, для костра рубит. Вот у Семки – счастье. Вчера опять двух собак у тымских гиляков купил. Видел я сегодня, из Погиби в город поехал. Твоего Орона в нарте передом пустил. Хорошая собака Орон! Дурак ты, Васька, – мне, гиляку, не продал, русскому купцу досталась.
Как заговорил Митька об Ороне, так Васька и про охоту забыл, пододвинулся ближе и даже подал Митьке кисет.
– Ты, Васька, хороший человек, – продолжал Митька, закуривая. – А Семка – зверь бешеный, всех кусает. Нет такого охотника, который бы этого зверя убил.
Васька подозрительно поглядел на Митьку и осторожно ответил:
– Никто этой шкуры не купит, Охотника же свяжут и в город повезут.
Митька с минуту молча курил, потом усмехнулся:
– Шкуры не купят, это верно, зато все гиляки спасибо скажут. И в город, однако, повезут, однако и нет. Вчера варкинский гиляк приезжал, рассказывал – на Амуре товарищей много собралось. «Красными» себя называют и еще «партизанами», – Митька с трудом выговорил незнакомое слово, – с большим войском на город идут, японцев не боятся, никого не боятся. Купцы нанимают гиляков с нартами пушнину из города на Сахалин отвозить и сами уезжают. Однако купцам плохо будет. И Семке плохо будет.
– Я тогда у Семки Орона обратно возьму, – сказал Васька. – Дам ему три шкуры нерпичьих и новые торбаса. Больше он мне денег не давал.
– Все равно дурак ты! – Митька ласково хлопнул Ваську по плечу. – Орона отними у Семки, а ему ничего не давай. Хитрый купец, но больше от нас не уйдет.
– А тебе, Митьке-купцу, плохо не будет? – спросил Васька в раздумье, силясь представить себе это войско красных людей, которых так боятся богатые.
– Мне что! – Митька строго глянул по сторонам. – Я гиляк, человек бедный. Кому будет хорошо, кому плохо.
«Хотел бы я быть таким бедным», – подумал Васька, но промолчал и заторопился на охоту.
Скатал спальный мешок из оленьего меха, переложил спички из кармана за пазуху, чтоб не отсырели, нащупал трубочку, огниво, кисет с табаком и выпил перед дорогой ковш холодной воды.
Жена дала ему с собой мороженой рыбы, лепешек и вышла проводить. Васька хотя был «крещеный» гиляк, но все же заглянул в амбарчик, где стояли идолы, зашитые в шкуры, а в углу был прикован годовалый медведь. В темноте звякала его цепь и синим светом мерцали глаза. Васька не обратил на него внимания. Он помолился злому Кинсу – страшному духу смерти и буранов, потом взял лыжи под мышку и сказал жене:
– Не обкорми щенков, присмотри за медведем и не жди ты меня одно солнце[9]9
День.
[Закрыть], два солнца. Взойдет солнце в третий раз – приду. А не приду – не жди.
Таких ясных дней давно не помнил Васька, привыкший к частым пургам и ветрам. У берега тайга была мелкая, гнилая, с еловым буреломом, но дальше в сопки пошла лиственница и кедры, под которыми снег голубел от сумерек. Здесь было так тихо, что даже сквозь меховую шапку, закрывавшую уши, Васька слышал шорох снега под лыжами.
Уж два раза засыпал он в своем оленьем мешке под кедрами и звездами и два раза после сна, смочив снегом глаза, видел угасание небесных огней. А лиса не давалась, и след не пропадал. Даже белка – и та куда-то исчезла.
– Шатун-лиса, без норы живет, а куда бежит, шаман ее знает.
Все это казалось злой напастью, и Васька жалел, что перед уходом не помолился, кроме Кинса, еще доброму духу Кушу, поднявшему землю из моря. Но больше жалел он, что не взял с собой гольдской суки Пахты, единственной из всех его ездовых собак, умевшей хорошо выслеживать зверя.
Табаку оставалось мало, лепешки были съедены. Но какой охотник, не потерявший следа, уходит домой? Уж близко Амур. Большое озеро осталось далеко налево. На север – город, а направо, за глубокой излучиной реки, село Богородское, в котором Васька нередко бывал в гостях у рыбака Макарова. Бывал и тот у Васьки, когда приезжал на низовье рыбачить.
На третий день утром, когда Васька совсем уж решил идти в Богородское, он увидел лису. Она бежала шагах в тридцати от него, держа в зубах задушенную белку. Он потемнел от испуга и радости и опустился на колени, сбросив рукавицу. Слабый ветерок, дувший на него, наносил запах снега, зверя и еловой коры.
Лиса будто плыла по снежной заводи, обогнула бурую корчагу, нырнула под куст и снова показалась под низкой елкой. Тут она остановилась и положила белку на снег.
Васька осторожно поднял ружье. Далеко – и елка мешает. В бок стрелять – мех испортишь. А лиса – настоящая крестовка, голубовато-серая, будто подернутая инеем сталь. Васька ждал. Уж начало пощипывать палец, наложенный на собачку курка, когда мушка винчестера влипла чуть пониже лисьего уха. Ничего не хрустнуло. Васька был неподвижен, тих, как земля. Но вдруг почувствовал, что лиса его заметила. Он узнал это потому, что в тот самый момент страшно сжалось сердце. В глазах метнулась тревожная морда зверя.
Слушая через минуту повторенное эхо выстрела, Васька уже знал, что лиса ушла. Далеко выброшенный след и крутые повороты на снегу рассказали ему, как она пырскала, уносимая ужасом. Он воткнул ружье в снег и, вдыхая сладкий запах пороха, растерянно огляделся вокруг.
Два дня охоты пропали даром. Придется идти в Богородское.
Он сел на лыжи и набил трубочку последним табаком.
«Нет бедному человеку счастья».
Васька громко чмокнул, выражая свою печаль и уныние. Усталый, он поднялся и двинулся дальше.
Тайга пошла в гору. Начинались сопки, кругом становилось глуше. Все чаще встречались поваленные, истлевшие ели и пихты. Едва прикрытые снегом, эти холмы гнилого валежника становились опасными для лыж. Приходилось далеко обходить их. Наконец стал попадаться кривой бледно-зеленый слойник, веселый предвестник высоких мест и близкого перевала.
Подъемы становились круче. Васька крепко и наглухо привязал лыжи к ногам. Он шел на них, как в горных башмаках, подбитых острыми гвоздями. Обшитые снизу шкурой, вырезанной из голени оленя, они легко скользили только вперед по шерсти. Это давало упор и крепость шагу охотника.
Васька добрался до самой вершины хребта.
Желтоватые от мха камни выглядели голыми и холодными. В расщелинах курился снег. Сухо звякали под ногами обледенелые кустики брусники. Но Васька улыбался. Внизу волнами клубилась тайга. Там лежал Амур во льду, запорошенный буранами, но всегда желанный для каждого гиляка.
Васька начал спускаться. Чуть согнув колени, отставив палку, он летел вниз, делая опасные повороты между деревьями. Когда поворот был особенно ловкий, Васька весело вскрикивал. Брови, ресницы, тонкая коса его, выбившаяся из-под шапки, побелели на морозе. Он был уверен в себе, в своих лыжах больше, чем старый тунгус.
И вновь пошла тайга, но более редкая, с ложбинами, с полянами, где снег был рыхл и так глубок, что Васькина палка не доставала дна.
Шагу он не убавлял, но идти становилось трудней. Лыжи врезались в снег, насту не было. Вдруг Васька почувствовал толчок, услышал легкий треск и рванул ногу назад. Лыжа с разбегу въехала под валежник, заметенный снегом. Секунды две Васька шатался, стараясь упасть на бок, но повалился навзничь, на лыжи, подвернув ноги.
От боли и неожиданности он закрыл глаза. Когда же открыл их, то прежде всего посмотрел, где палка, которую он выронил при падении. Она лежала шагах в пяти от него. Потом пошарил вокруг, отыскивая свалившуюся рукавицу. Снег обжег его пальцы. Рукавицы не было. Тогда он попытался подняться, но лыжи, крепко привязанные к ногам и придавленные тяжестью валежника и собственного тела, не давали возможности встать. Случилось то, чего гиляк не пожелал бы даже врагу на охоте. Васька лежал на спине, словно связанный и прикованный к лыжам, не в состоянии ни подняться, ни сесть, чтобы отвязать ремни.
Он попробовал повернуться на бок. Снег всасывал каждое движение. Наметенный с Амура, с тайги, с сопок, просеянный буранами, он был рыхл и беспощаден.
Ныли мокрые пальцы на руке. Два раза Васька всовывал их под язык, чтобы отогреть. От этого становилось еще хуже. Его жесткие, как у собаки, ресницы стали влажны. Он знал, что в тайге часто находят мертвых охотников, замученных собственными лыжами.
Никогда Васька так близко не видал своей смерти.
«Нет счастья бедному человеку», – подумал он снова и лег спокойно на спину, засунув голую руку за пазуху и глядя вверх, ибо каждый охотник, умирая, открывает глаза перед небом. Оно было так же беспощадно, глубоко и холодно, как этот снег.
Над краем поляны качались вершины деревьев, и дымные струйки стекали с высоких пихт, сверкали на лету и падали на лицо колючими кристаллами. Начинался ветер.
Васька лежал не долго. Но никогда столько мрачных мыслей не приходило ему в голову.
Он вспомнил отца, утонувшего на тюленьей охоте, жену Мингу, чуть не замерзшую во время родов, когда ее, как не чистую, вынесли, по обычаю, в берестяный шалаш на мороз. Она кричала, и Васька ушел, чтобы не слышать ее крика. Жена осталась жива, но младенец замерз. Это был бы хороший гиляк.
Потом он вспомнил Орона и представил себе, как по дороге на Сахалин бежит нарта. На нарте – Семка в рысьей шапке размахивает хореем и кричит: «Тах, тах!» Но Орон слышит – не Васькин голос – и не ведет собак. Лег, грызет снег, оглядывается, словно кого-то ждет.
Васька знает, кого ждет Орон, и улыбается ему замерзшими губами.
Потом проплыл мимо Митька в новой дохе с пуговицами, сестра Тамха, знакомый китаец Лутуза, работавший на рыбалке у купца Кузина. У купца этого на Амуре лучшие заездки[10]10
Места, отведенные для лова рыбы, где промышленники ставят свои снасти.
[Закрыть]. Железные катеры забрасывают и вытаскивают его невода, потому что никто живой с ними не справится.
«Зачем купцу так много рыбы? Дельфин – и тот столько рыбы не съест! Почему Семка собак не выкармливает, а имеет их больше сотни? Почему Митька не замерзает в тайге на охоте, а одежды его и денег хватило бы на два стойбища?»
Все это вдруг показалось Ваське таким обидным, несправедливым, что он даже застонал. И только тогда почувствовал, что вокруг темно, что он засыпает и глаза его закрыты.
Он в ужасе открыл их, увидел снова небо, струи снега над вершинами пихт – и закричал. Во всем теле начиналась крупная дрожь, предвестник замерзания. Собственный крик придал Ваське силы. Он ощупал лицо, потер снегом нос, щеки и помахал руками, чтобы согреться. Дрожь стала утихать. Он вспомнил о ноже: нельзя ли расколоть лыжу? Но это оказалось еще трудней, чем подняться.
– Лопни твое сердце! – выругался Васька и яростно рванулся направо, потом налево, как собаки, трогающие примерзшую нарту.
На одной лыже ремни будто ослабли. Крича от боли в подвернутых ногах, он рванулся еще раз и вдруг вытащил ногу из торбаса. Грязная, с клочками сена между пальцами, с ногтями, твердыми, как у зверя, она показалась ему страшной под чистым небом. Он опустил ее в снег, отодвинул из-под себя освободившуюся лыжу и сел.
На лбу его заледенели капли пота, жгло босую ногу, но Васька с минуту блаженно раскачивался, воздавая должное жизни и добрым силам ее. Потом плюнул на лыжи, на снег, на черную тайгу и стал развязывать ремни. На Амур он вышел с первыми звездами. Всходила луна, отражаясь в синих торосах. Снег зеленел, как трава.
4Васька снял лыжи и пешком пошел по направлению к Богородскому. Натруженные ноги особенно чутко ощущали протоптанный снег на дороге. Безмолвен был зеленоватый простор. Он казался светлым, но в этом призрачном, дымчатом свете ничего не было видно. Нельзя было различить, где кончаются мысы и начинаются торосы. Васька несколько раз попадал с дороги в сугробы. Этот мерцающий свет не пугал его. Он был так же знаком, как эта тишина и месяц в оранжевом круге. Васька шел, ни о чем не думая. Он долго не слышал глухого окрика, повторенного несколько раз.
– Стой, кто идет?
Васька отскочил.
В первую секунду хотелось убежать, потому что для гиляка нет ничего ужаснее человеческого крика в ночи.
Но голос впереди был не строгий, даже как будто ласковый.
– Постой, куда? Стрелять буду!
При луне фигура, которая приближалась, казалась страшной, особенно ее тень, бежавшая впереди, – огромная, остроконечная, как тень старой ели.
Когда человек подошел, Васька увидел, что страшным его делают высокий башлык на голове и тяжелый бараний тулуп.
Из башлыка шел голубоватый пар и торчала заиндевевшая борода.
Потом из-под скалы показался другой человек, в таком же башлыке, и тоже подошел к Ваське.
– Ты кто такой? – спросил первый.
– Гиляк, – ответил Васька и для ясности повторил: – Охотник, Васька-гиляк.
Человек нагнулся к нему:
– Э-э-э, верно, гиляк! И куда тебя, друга, носит? – сказал он сочувственно. – Ты куда идешь?
– В Богородское. Тут мой друга живет, Макаров.
– Это какой Макаров? Кажись, в третьей роте есть такой командир. Из низовых рыбаков он, что ли? Не Андреем зовут?
– Андрейка, Андрейка! – Васька, обрадованный, протянул говорившему руку, как человеку, который знает имя его друга.
Но тот не взял, а задумчиво, даже недовольно, обратился к товарищу:
– Что с ним делать? В штаб, что ль, отвести?
– Вот еще! – неохотно ответил другой. – С гиляком в штаб таскаться?! Отведи к Макарову. Может, признает. Только, гляди, ружье у него возьми.
Васька молча, с недоверием отдал свой винчестер и долго шел за человеком, глядя себе под ноги.
Накатанный снег на дороге светился лунным пламенем. Огни деревни на невидимом берегу казались звездами, и, поднимая к ним глаза, Васька смутно видел перед собой все тот же заиндевевший башлык. Теперь он уж не казался ему страшным.
Следы полозьев на дороге были глубоки, тверды, края их мерцали под луной.
«Много коней прошло по дороге, много людей проехало, и возы были тяжелые. Правду сказал Митька о красных», – думал Васька.
Он был теперь спокоен за свое ружье. Он верил, что эти люди не могли его обидеть, и с уважением поглядывал на башлык и широкую спину, заслонявшую изредка огни на берегу.
Несмотря на поздний час, изба, куда привели Ваську, была полна народу. Пили чай. На столе лежали куски соленой рыбы, хлеба и сахару, о котором Васька слышал так много чудесного.
Было жарко, дымно, и Ваське сразу захотелось курить. Он жадно втянул горячий, горьковатый от дыма воздух.
– Товарищ Макаров, гиляка в гости к тебе привел, – сказал партизан, постукивая Васькиным винчестером.
Макаров о чем-то громко рассказывал и ответил не сразу. Васька первый подошел к нему и протянул руку. Этому приветствию научился он у русских.
– Здорово, Макарка!
Макаров поднял свои густые рыжие брови и глянул на Ваську удивленно и настороженно.
– Васька, ты? Как попал сюда? – С минуту все изумленно смотрели то на Ваську, то на Макарова, лицо которого постепенно принимало свое обычное выражение озабоченности. – Через город шел по Амуру? – спросил он.
– Нет, через сопки по тайге пришел, лису гонял.
– A-a-а! – разочарованно протянул Макаров. – Я думал, через город пришел, вести принес. – И добавил, обращаясь к другим: – Знакомый гиляк один, охотник хороший.
– Свой, значит, человек? – спросил партизан, приведший Ваську.
– Свой, свой! – недовольно ответил Макаров, словно досадуя, что помешали его беседе. – Отдай ему винчестер.
Но партизан не отдал. Он поднял к свету ружье, еще матовое от мороза, и долго смотрел на него, покачивая головой.
– Да-а, штука ладная, жалко отдавать, своим бы пригодилась. Кто их, гиляков, знает!
– Отдай, Боженков, волчья твоя душа! – резким голосом сказал бритый парень, сидевший в углу.
– Покричи, покричи, может, я испугаюсь, – спокойно возразил Боженков, поглядывая на Ваську веселыми глазами.
Лицо у него было пожилое, обветренное, с красными жилками на щеках. Васька с тревогой смотрел на свой винчестер. Боженков, помолчав секунду, словно выжидая, что ему еще скажут, неожиданно улыбнулся широко, от чего лицо его, несмотря на старческие жилки, приобрело наивное, задумчивое выражение.
– Отдать можно. И то сказать, какой он без ружья охотник!
Боженков протянул Ваське винчестер и, стуча подмерзшими валенками, вышел.
Вскоре про Ваську все забыли. Он пил чай с хлебом и соленой кетой, курил чужой табак, кучей лежавший на столе, и слушал малопонятный для него разговор.
Сахар, который он пробовал впервые, показался ему сначала невкусным, но потом он съел куска три и один даже спрятал для сынишки за пазуху вместе с табаком.
От тепла и сытости, после двух ночей, проведенных в тайге, сильно хотелось спать. Но Васька сидел, сжав между коленями винчестер, и старался не закрывать глаз. Красные ленты на папахах казались сизыми. Голоса звучали то далеко, то близко, и звенело в ушах. Васька с трудом слушал.
Говорили о японцах, о том, что в городе экспедиционных войск, вместе с белыми, больше двух тысяч, что драка предстоит тяжелая, и если на помощь не подойдут приисковые и сахалинские, то город будет трудно взять.
Потом говорили о рыбалках, о заездках, о том, что Кузин и крупные промышленники захватили все побережье. Рыбацким артелям негде даже тони выбрать. На приисках – голод, а в городе – казни и аресты рабочих.
– Купцы из города пушнину на Сахалин отвозят, – вставил Васька в общий разговор.
– Ишь что делают! – сказал все тот же бритый парень с резким голосом, которого Макаров называл Кумалдой. – К японцам прятать повезли.
– От народа добро не спрячешь. – Макаров поднялся и подкрутил фитиль в потухавшей лампе. – Ну что ж, ребята, спать пора, – сказал он по-хозяйски. – Завтра делов пропасть. Может, выступать назначат, слыхал я в штабе.
По его твердому голосу и уверенным жестам Васька понял, что Макаров – начальник. Он же, Васька, – его друг. Это льстило ему больше, чем если бы сам чомский шаман был его братом. Не раз в путину Макаров спал под крышей Васькиной фанзы, ел его юколу, пил его воду, и маленький Панга в веселую минуту держался за его палец.
Макаров вышел на улицу. Васька пошел вслед за ним. Над деревней стояла луна; дома, улицы были в серебре, и Васька, взглянув на небо, подумал, что уже полночь и в это время в стойбище начинают выть собаки.
– Друга, – оказал он Макарову, чувствуя непреодолимую благодарность за хлеб и сахар, за табак и приют, в котором не отказали ему эти люди с холщевыми патронташами, с красными лентами на папахах, – друга, ты хороший человек. Хочешь, я тебе свои лыжи отдам? Лучше во всем низовье не сыщешь.
– Не надо мне твоих лыж, – запахивая тулуп и зевая, ответил Макаров.
– Друга, – снова начал Васька, – я два дня за лисой гонялся, а она ушла. Нет счастья Ваське. – Он хотел рассказать про лису-крестовку, про то, как он в тайге пропадал и о чем он там думал, замерзая в снегу под валежником.
Но Макаров прервал его и прислушался. С Амура доносилось гудение, словно кто-то чуть трогал струну.
– Не до твоей лисы теперь!
Он отмахнулся и торопливо зашагал к ближнему краю села. Низкорослый Васька еле поспевал за ним. Кто-то встречный громко сказал:
– Эй, амгунские с приисков пришли.
– Ой ну? – радостно отозвался Макаров.
И голоса были гулки в разреженном воздухе.
С высокого берега были видны Амур, снега, игравшие лунными всполохами, мерцавшие торосы и на тракте – обоз.
Конец обоза терялся в темноте, под скалами. Над передними возами, въезжавшими на крутой подъем в деревню, стоял синий пар; от скрипа снега под полозьями, казалось, трепетали в небе звезды.
– Идут, видишь, – говорил оживленно Макаров, глядя куда-то поверх головы Васьки. – Идут амгунские, костюкинские, соловьевские.
И он радостно смеялся, выбрасывая изо рта морозный дым, оседавший на бороде инеем.
Ночь Васька провел плохо. Лег близ порога, у бочки с водой, и ночью встававшие пить наступали ему на ноги. Он часто просыпался и выходил из избы. На улице было тоже беспокойно. В избах всю ночь горели огни, слышны были голоса. У ворот стояли сани с поднятыми к небу оглоблями.
Все же Ваське изредка удавалось заснуть. Тогда ему снился Орон, лиса и будто Семка отнимает у него винчестер.
Утром в селе было шумно и тесно от вооруженных людей. У волостной избы висел красный флаг с обледенелым древком. Несмотря на ранний час и мороз, пели песни. Никогда – ни у костра после удачного лова, ни во время медвежьего праздника в стойбище – Васька не чувствовал себя так хорошо, как в этой толпе.
Он узнавал людей по обуви и одежде. Тут были рыбаки в пимах, расписанных узорами, амгунские старатели и китайцы в высоких ичигах, щеголеватые корейцы, любящие белые одежды. Тут были даже амурские гольды в лосиных унтах, бесстрашные охотники на медведей.
Ваське встретились тунгусы в дохах, в оленьих торбасах, искусно расшитых разноцветными шкурками, – тунгусы, которым он всегда завидовал, потому что нет на свете лучше охотника, нет на свете добрей и честней человека, чем тунгус.
– Куда вы идете? – спросил их Васька по-тунгусски. – Разве вы будете стрелять в японцев и русских капитанов?
– Дагор, – ответили они ему. – Это верно! Мы бьем только зверя. Но нет нам житья от купца Кузина. Каждый тунгус ему должен, каждый тунгус ему платит. Это хуже ясака. Ясак в старину платили только раз в год. Мы же зимой и летом приносим Кузину на склад соболей, панты, шкуры медведей и рысей. Мука же его горькая, порох нечистый и дорог. Мы обзавелись бы, как отцы наши, луками, если б не научились так хорошо стрелять из ружья.
– Не брат ли этот Кузин тому купцу, который имеет рыбалки на низовье? – спросил Васька. – У него работает китаец Лутуза?
– О Лутузе мы не слыхали. Купец же – этот самый. Большие прииска на Амгуни тоже его.
– Ай, ай, зачем же ему так много рыбы, пушнины и золота? Не знаете ли вы?
– Этого мы не знаем. Но слыхали в тайге, что на Амуре большая война. Приисковые рабочие пошли в город купцов наказывать. Такой закон вышел. И мы пригнали сюда красным двести оленей для езды и мяса.
– Кто же вам за это заплатит?
– Старики нам сказали – об этом не думать.
– Цо, цо! – И, чтоб не сказать больше, Васька с укоризной опустил глаза вниз.
Он узнавал обычную беспечность тунгусов. Они, как всегда, были веселы, разговорчивы, добродушны.
Но никогда гордый тунгус не пропустит случая посмеяться над гиляком. И один из них, молодой, в дохе с барсучьей выпушкой, сказал Ваське:
– Я по ногам вижу, что ты гиляк. Э, кривоногий, вкусно ли собачье мясо?
Васька понял насмешку:
– Ноги у нас кривые от гребли: мы с детства сидим на дне лодки, а ты плавать не умеешь, ты гнилая береза. Приезжай в гости, я тебя щенком угощу. Его мясо вкуснее, чем олений желудок со мхом[11]11
Любимое кушанье тунгусов.
[Закрыть]. И рыбы у нас больше, чем у вас вшей.
– Дагор, – сказал тунгус постарше, – у всех у нас вшей больше, чем радости, не обижайся на молодого. Его по-русски зовут Петром, а по-тунгусски Кабаргой[12]12
Бараном.
[Закрыть].
Васька рассмеялся, и ссора кончилась. Тунгусы ушли.
Он постоял немного, глядя им вслед и любуясь их стройностью, их меховыми одеждами, их тонкими, чуть вывернутыми внутрь ногами, не знающими устали ни на летней тропе, ни на лыжах.
Был отдан приказ наступать. Из села выезжал первый обоз.
На возах сидели люди, и дула их винтовок глядели в белое небо, предвещавшее ветер и пургу.
На одном из возов – или это только показалось Ваське – он увидел среди партизанских ушанок грязную заячью шапку Лутузы.
Васька окликнул его. Но мимо проскакал верхом партизан в огромных пимах. Потом пробежал гольд на лыжах, размахивая руками, и возы скрылись под берегом.
Внизу, на Амуре, было видно, как вслед за обозом выскочили из-за поворота нарты тунгусов. Олени, пугаясь лошадей, сворачивали с дороги и, вытянув морды, тонули в снегу. С Амура долетал веселый, молодой голос Петра, кричавшего на оленей. Васька все еще стоял в задумчивости, присматриваясь ко всей этой незнакомой суете. Что делать? Уйти обратно в тайгу казалось невозможным так же, как бросить охотника без помощи. Остаться в деревне, когда уходит друг и хозяин, казалось еще невозможнее. И Ваське вдруг захотелось вместе с Макаровым, с Лутузой, с Петром и этим незнакомым гольдом идти на восток, в город, с ружьем за плечами, навстречу тому страшному зверю, на которого собралось столько людей.
«Так вот они, красные, которые чтут бедных и преследуют богатых, – подумал он. – А я, Васька-гиляк, не бедный ли человек и я не зол ли на богатых?»
Так решил он сказать Макарову, но, когда увидел его густые брови и озабоченное лицо, сказал другое.
– Друга, сегодня десять раз меня люди назвали «товарищем». А я для них еще ничего не сделал. Я никогда не слышал, чтобы русские называли гиляка «товарищем». Как мне заплатить за это?
– Отстань! – сказал Макаров, занятый в это время разговором с Кумалдой, тем самым бритым парнем, который вчера помог Ваське выручить винчестер. – Уходи ты, ради бога, домой, не до гостей мне теперь!
– Эх, зачем так говоришь? – Васька укоризненно посмотрел на Макарова.
Он готов был обидеться и повернулся, чтобы уйти, но Кумалда остановил его.
– Друга, что ты хочешь сказать?
– Я хочу вместе ходить, Васька-гиляк тоже красный.
– В партизаны хочешь? – удивленно спросил Кумалда и долго с любопытством смотрел на Ваську. Потом рассмеялся. – Это тебе не лис гонять. Каюк может быть. – И парень, закрыв глаза, сделав страшное лицо, показал, как умирают люди.
– Ай, ай! – Васька печально вздохнул. – Медведь тоже страшный, но гиляк не хуже гольда знает, как на него охотиться. Медведь мне не враг, и если охота моя удачна, я не убиваю его, а сажаю на цепь в сенях моей фанзы, и жена кормит его брусникой и поит из длинной ложки до дней великого праздника. Но что я могу сделать с Семкой-собачником, с Митькой-гиляком, с купцом Кузиным? На цепь они не пойдут. В них можно только стрелять.
– Вот-те и гиляк! – сказал с одобрением Кумалда. – Косу носит, а мозгами шевелит не хуже нашего. Хочешь ко мне в отряд лыжников? У меня там и гольды, и тунгусы, и китайцы – чистый Интернационал. Весело будет.
– Цо, цо, тернационал? – Васька, улыбаясь, произнес незнакомое слово.
Макаров впервые сквозь суету, боевые заботы и тревоги посмотрел на гиляка ласково и внимательно.
– А я-то тебя не понял, Васька, – сказал он виновато. – Значит, вместе рыбачили, вместе и воюем?
И Васька увидел перед собой его обветренную руку, с плоской ладонью, с пальцами, припухшими от ревматизма.
Васька вложил в нее свою. Потом вышел на двор, достал свои лыжи из сарайчика и присел на снег, дожидаясь Кумалды, чтобы отправиться в отряд.
На душе его все же было неспокойно. Казалось, будто в буран, когда надо молчать, беречь дыхание и гнать собак домой, он вдруг поворотил на открытый ветрам Амур и запел веселую песню: «Ой-де! О-лай!»








