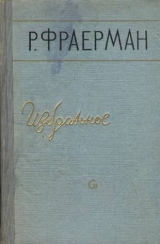
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
Описав полукруг, насколько хватало невода, кунгас снова подошел к берегу. Боженков стремительно бросил веревку забежного конца Ваське. Сам он прыгнул на камни, поскользнулся, упал в воду, но быстро вскочил и весь мокрый, взволнованный, крикнул:
– Тащи, братцы!
Он рыбачил много лет, но каждый раз, когда вытаскивали невод, испытывал такое ощущение, словно ставил на карту последние сапоги.
Артельщики кинулись к веревке. Сначала тащить было легко, но вдруг словно застопорило. Стало тяжело, на шее Васьки вздулись жилы, в мозгу застучала кровь. Но это был радостный груз. Ваське казалось, что он тащит на веревке все это огромное море с тусклой далью и дымом над сопками.
Косяк попался хороший. Рыба стояла в неводе так плотно, что верхние давили нижних. Надо было немедля выгружать. Тогда оказалось, что многого не хватает.
Не хватало черпаков, не хватало носилок. Наконец, не хватало людей. Это было самое страшное. Кащук сидел у засольных ям и требовал соли. Боженков протирал икру на сите. Лутуза один стоял за огромным столом и чистил рыбу, Лутуза был замечательный чистильщик, но и он мог вычистить лишь тысячу штук в день. Его нож мелькал, точно стриж на солнце.
Что можно сделать в секунду? Он подхватывал горбушу за жабры, с силой ударял о стол, и в то мгновение, когда она, оглушенная, лежала неподвижно, он одним взмахом разрезал ей брюхо, переворачивал нож и другим взмахом рукоятки выбрасывал икру и требуху. Он успевал еще мизинцем вырвать у рыбы сердце, чтобы бросить его в ведро для счета. Считать было незачем. Но так сильна была привычка, приобретенная на хозяйских промыслах. Каждое сердце – копейка. Лутуза дал бы сейчас за каждое сердце пятак, потому что все росла и росла вокруг него гора нечищенной рыбы. Бечева, намотанная на рукоять ножа, чтоб не скользили пальцы, набухла от крови и слизи.
Васька тоже взялся за нож и поставил еще у стола Тамху. Через два часа она ослабела от усталости и бросила нож. Лутуза кричал, топал на нее, хотя не был еще ее мужем и хозяином. У ног грызлись собаки, растаскивая рыбьи кишки.
Пашка и человек десять гиляков уже вернулись с лова в стойбище и теперь смотрели, как работают артельщики. Васька предложил им за помощь по три горбуши с десятка. Пашка рассмеялся:
– Пусть собаки тебе помогут.
Никогда Васька не презирал так Пашку, Ная и весь народ свой за лень и равнодушие. Он называл их «гнилым, проклятым племенем» и бросал в лицо им горбушью требуху.
Три дня проходила косяками горбуша у чомского берега. Четвертую ночь не спали артельщики: то стерегли косяки, то таскали рыбу, то прятали ее от солнца. Гиляки засыпали тут же, на острой гальке, у груды неубранной горбуши. Васька поднимал их ударами своих торбасов. Но и сам он, как все, обезумел от усталости и в последний день не мог поднять руки, чтобы закурить трубку. Ломило плечи, шею, горели ладони. В глаза точно насыпали пороху. Солнце пахло солью, закаты казались розовым мясом горбуши. Но когда Васька заглядывал в огромные ямы, полные рыбы, или смотрел на длинный ряд шестов со свежей юколой, сушившейся на ветру, то закрывал свои воспаленные глаза и улыбался.
23Лето давно уже глядело в спину рыбакам. Падал первый снег. Он был мокрый, тяжелый и пузырил воду, как дождь. Но все же это был снег. Он покрыл дерн на фанзах и оставил белый след между камней. Лов кончился. Но для Васьки оно, казалось, все еще тянулось: все еще не забывались эти дни, полные ужасного труда, огорчений, радостей.
Событий за лето накопилось много. Васька два раза ездил на шампонке с Кащуком и Боженковым в город. Один раз – за бочками, чтобы выгрузить рыбу из засольных ям, другой – чтобы сдать эту рыбу. Обе поездки были удачны. Рыбу приняли, даже похвалили за нежный засол.
После всех расчетов оказалось, что артель заработала тысяч пятнадцать. Эта сумма была так велика, что теряла для Васьки всякий смысл. На каждого пришлось рублей по восемьсот. Васька предпочитал бы заработать ровно столько, сколько нужно было ему, чтобы купить на зиму муки, табаку и немного водки. Однако ни молодой Кинай, ни другие гиляки так не думали. Артель увеличилась вдвое, и даже непримиримый Пашка принес и бросил на порог Васькиной фанзы свою старую снасть. После долгих споров Пашку приняли в артель, так как он все-таки был лучшим стрелком и каюром.
Крупным событием было еще то, что Боженков, Лутуза и Кащук выстроили себе за лето новую фанзу, рядом с Васькиной, но более просторную, с кирпичной трубой, выходящей сквозь крышу. Вместе с Лутузой в этой фанзе поселилась и Тамха, хотя года еще не прошло с тех пор, как она покинула мужа. Иногда Васька думал об этом с беспокойством и грустью. Но, к счастью, умы гиляков были заняты событием более важным и интересным.
Немного в стороне от стойбища русские выстроили небольшую избушку, крытую дерном, которую они называли «баней». Любопытные, заглядывавшие туда, не находили там ничего, кроме трех полок и груды камней, наваленных на очаг. Но Пашка, ходивший смотреть, как моются русские, рассказывал, что только злой дух может сидеть в таком пару и обливать себя водой, кипящей от раскаленных камней.
Боженков объявил баню общей. Каждый, кто захочет, может прийти и мыться. Тогда гиляки привели в баню шамана. Най потрогал остывшие камни, посидел на лавке, задумчиво глядя на гиляков.
Право же, он не знал, что им сказать. Но все же сказал:
– Грех мочить глаза, глядящие на солнце. Так говорят нибхи. Но купаются же дети. Мочит же дождь наше тело и бросает нас в воду великий Кинс, когда гневом своим хочет наказать нас…
Гиляки молчали. Одни приняли эти слова как разрешение мыться, другие – как запрещение.
Васька, первый из гиляков, помылся в бане. Тамха тоже попробовала и потом долго мучилась со своими жирными волосами. Минга и все женщины смеялись над ней. Пашка тоже хохотал, но в душе он завидовал смелости Тамхи и Васьки. Любопытство мучило его.
Однажды, когда Боженков затопил баню и ушел, чтобы переждать первый угар, Пашка забрался туда и помылся. Он вылил на себя ведро воды, холодной, еще не успевшей нагреться, и потом, голый, дрожа всем телом, присел у раскаленных камней. Он не испытывал никакого удовольствия, но сидел долго, пока совсем не согрелся. Слегка тошнило. От камней шел странный запах – горелой сажи и тлеющих углей. Болела голова; язык и нёбо были сухие. Тянуло на свежий воздух. Пашка едва оделся и вышел. Он удивился багровому цвету неба и тайги. Шел дождь, казавшийся кровавым. Огненные чайки садились на ресницы. Пашка крикнул и, шатаясь, пробежал несколько шагов.
Гиляки нашли его лежащим под дождем, в грязи на тропинке, ведущей к бане. Васькины собаки обнюхивали его мокрую голову. Такого позора Пашка не простил бы и матери.
Это случилось как раз за день до того, как с Погиби приехал Митька. Гиляки с удивлением встретили его лодку. В ней добра было меньше, чем Митька увез зимой на нартах. Он хмуро приветствовал гиляков. Но все же они помогли ему выгрузить из лодки собак, сундук, оленьи дохи и сказали, что место в его фанзе еще никем не занято. Дня два Митька не показывался на улице, потом неожиданно явился в новую избу. Было время обеда. За высоким столом сидели, не по-гиляцки свесив ноги с лавки, Васька, старый Кинай, Лутуза, Боженков и еще кто-то. Тамха подавала на стол уху из соленой кеты с картошкой – кушанье, тоже не знакомое гилякам. Увидя Митьку, она поставила котелок обратно на печь и вытерла руки, словно готовясь к драке. Лутуза вскочил из-за стола. Боженков тоже поднялся. Васька молча, внимательными глазами смотрел на вошедшего. Только Кащук, не знавший Митьку, сказал по обыкновению ласково:
– Тебе чего, друга?
Митька задыхался. Ему хотелось убить Тамху, сказать ей такие слова, чтобы страшно стало даже этим ненавистным людям, лишившим его покоя и почетной старости. За что не любят его гиляки и преследуют красные? Разве он виноват, что люди по нужде продавали ему свою рыбу дешевле, чем могли продать другому? Разве в этом мире каждый не живет, как и чем он может?
Тамха подошла ближе к столу. Он со злобой поглядел на ее упрямый лоб и маленькие уши, оттянутые тяжелыми серьгами.
Это были его серьги. Их когда-то носила мать, потом покойная жена – сильная, послушная Кинга, которая никогда не посмела бы так глядеть на Митьку, как эта упрямая женщина.
– Отдай! – крикнул он, показывая на серьги.
Тамха сняла серьги и бросила их на пол. Митька не нагнулся за ними, даже не повернул головы. Он видел только осторожный и строгий взгляд Васьки.
– Отдай! – крикнул он еще раз, глядя в самые глаза Ваське. – Я калыма тебе не прощу. Я тебе ничего не прощу.
– Я отдам тебе калым, – сказал Васька сдержанно. – Приходи ко мне в фанзу завтра, когда солнце будет над Сахалином.
Вдруг Лутуза, молчавший до сих пор, топнул ногой. Шея его побагровела. Глаза стали узкими, почти незаметными.
– Говори со мной! Я муж Тамхи.
Митька не ответил и отвернулся.
– Нет, ты будешь говорить со мной! – хрипло сказал Лутуза.
Он поднял серьги, плюнул на них и поднес к Митьке на своей огромной жесткой ладони. – Бери! Мы, красные, не торгуем женами, как рыбой. Но я верну тебе калым, чтобы не видеть следов твоих. От них дохнут собаки.
Тогда Митька заплакал. Это было так удивительно для гиляков, что Тамха подошла к нему и тронула его за рукав.
– Уходи. Когда ранен медведь, он либо бежит, либо бросается на охотника. Тебе нечего ждать, – сказала она тихо.
Митька ушел.
Он не приходил больше ни за серьгами, которые так и остались, оплеванные, на ладони Лутузы, ни за калымом. Говорили, что он страшно пьет и по целым дням играет с Пашкой в карты. Это было верно. Пьяный он играл хуже мальчишки. Когда упал первый снег, Митька был беднее всех в стойбище. В его нарядной черной дошке Пашка выходил кормить своих собак. Их было у него теперь вдвое больше, чем у любого гиляка.
24За первым снегом долго еще пришлось ждать шуги и ледостава. Осень затянулась. Полярные дожди смывали снег со скал. Пролив был черный, как тайга. С Шантарских островов налетали штормы, катали с шумом гальку на берегу и буреломом заваливали в тайге полянку, взрытую Лутузой под огород. Мальчишки таскали с берега прозрачные, дымчатые листья морской капусты и гибкие стебли водорослей, похожие на смоляные веревки.
Несколько раз шторм разбивал заберег, застывающий в холодные ночи, и звенел мелким льдом о камни. Потом, шурша об острые мысы, проплыла мимо Чоми шуга, ушли дельфины – и пролив стал. Пошел крупный, лапчатый снег.
Из Варок приехали за нерпичьим жиром первые нарты, и каюры рассказали, что из города прислали к ним русских докторов лечить темные болезни и что доктора едут в Чоми. Они пускают детям в кровь светлый сок жизни, которого боится даже великий Кинс.
Васька был рад этому.
– Кумалда – честный человек, – сказал он каюрам. – Он делает то, что обещал Ваське-гиляку. Скажите русским докторам спасибо.
Но, по совести говоря, Ваську сейчас мало интересовали доктора. Вместе с зимой вернулись к нему мысли об охоте. Потянуло в тайгу, к лыжам и к пороху.
Раза два уходил он за Кривой мыс, в сопки, бросив все дела в сельсовете, и ставил петли на соболя. Белка была еще не совсем в цвету, с рыжеватыми подпалинами. Медвежья лежка уже началась.
Не одного Ваську тянуло в тайгу. Он встречал на тонком снегу следы Пашкиных лыж и еще чьи-то, незнакомые. Оказалось, что это шаман Най на своих старых лыжах ходил травить лис. И Васька подумал, что скоро Най умрет, потому что только перед смертью тянет стариков на охоту.
Однажды Пашка вернулся из тайги возбужденный и радостный. Он нарочно зашел к Ваське, чтоб сказать ему при народе, что первый нашел медвежье логово, Васька позавидовал.
Не скрывая своей зависти, он сказал:
– Ты счастлив, Пашка. Как раз время подумать о медвежьем празднике. Я тоже искал берлогу.
Медведя можно было застрелить или принять на ножи, но старики говорили, что стыдно будет, если на праздник в этом году Чомам придется покупать медведя на Сахалине. Решено было взять медведя живым.
Пашка не знал, велик ли зверь, медведица ли это с пестунами или самец. Судя по тому, что вокруг на большое расстояние снег был чист, без всяких следов, можно было думать, что маленький зверь далеко обходит берлогу, чуя крупного и хищного старика.
Признак был неточный. Но все же лишний народ не помешал бы. Пашка, которому, по обычаю этой старинной гиляцкой охоты, принадлежало право приглашать, обошел с поклонами всех охотников в стойбище.
Те льстиво угощали его хамшином и на всякий случай спрашивали, кто первый будет нападать на медведя.
– Я! – отвечал он с достоинством, но встречал беспокойные, нетвердые взгляды гиляков. – Разве вы не верите в мою храбрость?
– О! Ты крепок, как корень лиственницы! – отвечали ему.
И некоторые тут же отказывались от охоты.
Пашка понимал, что большинство хотело иметь вожаком Ваську. Это было тем обидней для Пашки, что берлогу нашел он. Но приходилось соглашаться, иначе охота расстраивалась. Зато Пашка не отказал себе в удовольствии пригласить Митьку, старшего Киная и других стариков, чтобы сделать охоту более многолюдной и менее славной для Васьки.
День выбрали тихий, ясный, после пурги, когда в тайге намело много снегу, чтобы легче было топтать и вязать медведя.
Вышли на охоту утром и к месту пришли как раз в полдень. Васька шел впереди. Его кафтан из собачьего меха был перевернут прорехой на спину, чтобы зверь случайно не мог зацепить его когтями. При нем был только большой гольдский кож. Так же был одет и Пашка, который нападал на медведя вторым. Другие охотники были вооружены ружьями, копьями, ножами, на всякий случай, если медведя не удастся взять живым. Боженков захватил с собой топор. Пашка не приглашал его и Лутузу на охоту, но они все же пошли, так что в стойбище никого не осталось, кроме Ная, женщин и детей.
Насту в тайге не было. Снег был рыхлый, глубокий – такой, какой нужен. Васька заранее распределил, кому нападать вслед за ним. Он был так доволен погодой и предстоящей охотой, что даже Митьке дал важное поручение – шестом вытолкать медведя из логова.
Берлога была уже видна. Медведь лежал под вывороченным корнем лиственницы, защищавшим его от северного ветра. Иней, пожелтевший от дыхания зверя, влажно блестел вокруг на низких и редких кустах багульника. Чело берлоги было хорошо заметно. Большим ноздреватым пятном темнело оно на снегу. Трущобно, тихо было вокруг. Гиляки подходили бесшумно, не потревожив даже высоких снеговых шапок на кустах и елях.
Васька посмотрел вверх. Все было прекрасно. Чело берлоги глядело на юг, прямо на солнце. Это на лишнюю секунду-две ослепит медведя.
Охотники плотно стояли вокруг берлоги. Митька осторожно поднял длинный березовый шест. Лицо Митьки, обрюзгшее за последнее время от пьянства, было в эту минуту сосредоточенным, серьезным. Он с силой воткнул шест в чело берлоги. Медведь поднялся быстро, без рева, только треснул хворост, приподнятый его спиной. Васька, стоявший впереди всех, первый увидел его широкую бурую голову и клочок белого мха, прилипшего к шерсти повыше надбровья. Васька поднял руки и бросился грудью вперед, словно желая закрыть от солнца этот жалкий клочок мха на лбу зверя, В следующее мгновение должен был упасть на медведя сбоку Пашка и вслед за ним все пятнадцать охотников – вдавить зверя в снег, оглушить и связать ремнями.
Но Пашка не упал. Он увидел вдруг шест, который Митька нарочно держал перед ним, мешая ему прыгнуть. Пашка отшатнулся и закричал:
– Что делаешь?
Он все же прыгнул, но поздно – Васька был уже на снегу. Медведь страшным ударом лапы встретил налетевшего Пашку. В ту же секунду все охотники кинулись на зверя. Никто уж не думал о том, чтобы взять медведя живым. Его кололи ножами, копьями, в тесноте раня друг друга. Он был убит очень скоро.
Пашка с пробитым черепом лежал вверх лицом, глядя мертвыми глазами на вершину тайги. Ваську нашли втоптанным в снег. Он был без памяти, весь в крови.
Митьку увидели в стороне, шагах в тридцати от берлоги. Он сидел на снегу и курил трубку, по-стариковски закрыв глаза. Лутуза поднял его за воротник, чуть не задушив. Он потащил его к стойбищу. Боженков шел сзади, печально помахивая топором. Ваську несли на дохах. От качки он два раза приходил в себя и снова впадал в беспамятство.
Его принесли в новую избу к Боженкову и положили на высокие нары. В суматохе мало кто обратил внимание на просторные русские нарты, стоявшие у крайней юрты. Русских заметили лишь в самой фанзе, около Васьки, где стало особенно тесно от их тяжелых, неудобных одежд.
Шаман дремал в своем углу, на нарах, когда дети сообщили ему, что случилось на охоте. Он поднялся с колотящимся сердцем. Он едва мог сообразить, что если Ваську принесли в стойбище – значит он еще жив. И когда, наконец, сообразил, то долго не мог найти в себе силы взяться за шаманский бубен и пояс. Он не желал смерти Васьки и не огорчился бы, если б тот умер, потому что много беспокойства принес с собой в стойбище этот бедный гиляк. Но живому Най считал нужным помочь. Он облачился в полный шаманский костюм. При каждом шаге его гремели бляшки на поясе и на шапке. Он нацепил на шею целебные стружки, набил карман амулетами, божками, зашитыми в шкурки, и достал мазь, приготовленную из медвежьей желчи и собачьей слюны.
На улице холодный ветер звенел бубном, которым Най закрывал лицо. Он открыл его, лишь перейдя порог новой фанзы, и тут же снова закрыл. Он увидел позорную для гиляка картину. Склонившись над нарами, стоял доктор в белой одежде, и перед ним, на раскинутом парусе, лежал голый окровавленный Васька. И самое страшное – этот доктор была женщина.
Най повернулся и вышел, гневно тряхнув бубном. Он не сомневался в том, что Васька умрет, ибо велика месть Кинса. Недаром же первым гиляком, которого коснулся русский доктор, был сам Васька.
Шаман медленно шел по стойбищу, шатаясь от старческой слабости, гнева и удивления. Даже здесь, на воздухе, его преследовал душный запах йода.
Когда Васька пришел в себя, он был тоже поражен к испуган, увидев над собой лицо той женщины, которая в городе, в партийном комитете, дала ему книжечку. Он до сих пор не заплатил за нее, и в первый момент ему показалось, что именно за этим приехала женщина. Он хотел поднять руку, чтобы достать книжечку, которая так долго лежала у него за пазухой, но почувствовал страшную боль и снова потерял сознание. Он только позднее догадался, что эта женщина в то же время и доктор.
Васька выздоравливал медленно. У него было сломано два ребра. Во время его болезни новая изба, где он лежал, стала медицинским пунктом. Сюда приезжали гиляки даже с сахалинского берега.
Лутуза и Боженков сторожили Митьку, запертого в амбарчике, где раньше держали медвежат. Молодые гиляки хотели убить его хореями. Старики тоже не понимали, как мог он помочь зверю против человека: ведь он гиляк. Пашка был нехороший человек, но и он этого не сделал. Он поступил как настоящий гиляк и охотник. Митька держался по-прежнему спокойно, даже с важностью. Когда его, связанного, вывели из амбарчика, чтобы отправить в город, он долго щурился на снег, словно запоминая его цвет и запах. Он взял с собой две дохи и две пары торбасов, так как собирался долго сидеть в тюрьме. Когда сносится одна доха, он наденет другую.
Его увезли на следующий день – в час, когда долгая заря начинает раздвигать снеговые дали.
1924
Никичен
Я зову тебя, друг, и иду по следу…
Тунгусская песня
1. Говори, дагор, Ламское море!
Никичен искала пропавшего оленя.
– Н'чоу! – кричала она, и крик ее был похож на зов оленьей важенки.
В тайге было росисто. Ровдужные олочи[24]24
Обувь, сделанная из ровдуги – оленьей замши.
[Закрыть] Никичен, ее грязная рубаха были мокры насквозь. Роса блестела на жестких волосах, заплетенных в косы.
Никичен остановилась, прислушалась и подняла над головой аркан, цеплявшийся за сучья. Она могла бы заплакать от досады, если б не была тунгусской девочкой и не знала, что плачут только от боли.
Она крикнула еще раз. Толстоклювый ворон завозился на высокой ели, снялся и полетел в сторону, на восток, откуда вдруг донесся запах гниющей рыбы. Близко было море. Никичен направилась туда. Ели стояли тесно. Нога тонула в холодном ягельнике. Как проталины на снегу, чернела среди белого мха земля, покрытая опавшей хвоей. Тут были самые оленьи места. Но где же олень?
Испуг и тревога отражались на лице Никичен. Олень был не хозяйский, не соседский, а свой.
Вот уже двадцать дней, как Никичен с отцом и еще три семьи из бэтюнского бродячего рода спустились с гор и стали стойбищем на берегу Удской губы. Гнус и комары гнали оленьи стада к морю. И время уже было выбираться из долин Джуг-Джура. Дикие олени и косули не приходили больше пастись на выжженные поляны, где весной появляется первая зелень. Наступил июнь. Зверю стало привольней. Обнажились моховые пастбища. Затерялись на каменных тропах ходы кабарги. Лоси выбрали глухие, не известные охотникам места для водопоя. А в устьях Тугура, Тыла и Уды появилась корюшка.
Вчера Никичен починила сеть для соседа, старика Аммосова. В стойбище ждали хода горбуши. Это тоже тревожило Никичен. Кто промыслит для нее рыбу? Ураса[25]25
Шалаш, крытый берестой.
[Закрыть] их была пуста.
Две недели назад отца ее Хачимаса послали с Афанасием Олешеком на приисковые склады к русским – узнать, чем кончилась война и почему на чумуканскую ярмарку не привозят больше товаров.
Пятнадцать дней – достаточный срок, чтобы вернуться. Но до сих пор нет ни Олешека, ни отца.
Никичен, на минуту забыв о пропавшем олене, шла в раздумье по лесу, сбивая концом аркана росу с сизых кустов голубики.
Она думала об Олешеке, о том, что нет во всей тайге среди родов бытальского, далыгирского, бэтюнского такого молодого охотника, как он. И если Олешек беден к живет зимой по чужим юртам и нанимается в пастухи, то в этом виноваты только его беспечность и сиротство. Он был из племен негидальцев, называемых оленьими людьми.
Никичен четырнадцать лет. Олешек старше ее на два года. Но и она не хуже взрослой женщины умела поставить урасу и испечь лепешки из порсы[26]26
Мука из тертой рыбы.
[Закрыть], пока чайник кипит на костре.
И, думая сейчас об Олешеке, она рассуждала, как взрослая:
«Ох, натерплюсь я с ним горя и бедности!» Но если не Олешек, то кто же возьмет ее замуж без зимней одежды, без рукавиц, подбитых лисьими лапками, без расшитых камаланов[27]27
Коврик из оленьей шкуры.
[Закрыть] и оленьих шкур? У нее нет даже листа бересты, чтобы покрыть урасу жениха. Было у них всего три оленя, старое ружье Хачимаса, банка пороху и кусок дрели на палатку. Одного оленя из трех Хачимас отдал Никичен и сказал:
– Мы бедны, но пусть и у тебя, по нашему обычаю, будет свой севокин – почетный олень. Ты приведешь его в стадо своего мужа. Не запрягай его, не ставь под седло и, если потеряется, не ищи: это – твоя судьба. Помни: если он заболеет, его убьют, а тебе не купят нового севокина, чтобы заколоть на твоей могиле.
Никичен приняла оленя в день смерти своей матери, росла с ним вместе и научилась владеть арканом, как мужчина, чтобы ловить своего севокина среди чужого стада.
Олень был крупный, аянской породы. Между его рогами можно было повесить люльку с годовалым ребенком; он нес бы ее, не сгибая шеи. Никичен звала его Суоном. Он был нежен, крепок и бел, как молодой ягельник, и не боялся отходить от стада.
Хорошо Хачимасу, старому человеку, говорить: «Не ищи его, если потеряется». Ему не надо ни севокина, ни новой урасы.
Но Никичен ожидала Олешека и желала себе долгой жизни. Этот старый обычай не искать пропавшего севокина казался ей сейчас безумным.
Никичен приложила руки ко рту и снова позвала оленя. Голос ее осип от утренней прохлады, был неверен и тих. Она боялась, что Суона задрали медведи. Ночь сегодня была лунная, и вечером, когда женщины доили важенок, роса жгла руки. В такие ночи медведи подходят к самому стойбищу, а из стада пропадают белые олени – они виднее других при луне и светятся, как серебристые ясени среди елей.
Никичен вышла из тайги. Ветер пахнул ей в лицо, высушил росу на волосах, зашуршал под ногами, в тонкой траве. Кончился лес. Его запах и тишина остались за спиной Никичен. Только одна широкая лиственница, словно не желая уступать морю, росла у края гальки и, корявая от бурь, качала раздвоенной вершиной. На самой верхушке сидел, нахохлившись, орел-рыболов. Несмотря «а ранний час, он был уже сыт. Никичен тихо обошла дерево, чтобы не потревожить птицы. Кучи наплавного леса, гниющих водорослей и дохлой рыбы обозначали границу высоких приливов. Пар струился над ними. Пахло влажным песком. Море было мелко и бледно. Далеко из воды торчали скалы. Над ними серыми стаями носились кулики. Между камнями ворочался прибой, качая листья морской капусты. Его шум окутал Никичен. Она слушала. Раннее солнце отражалось в ее глазах. Никичен взмахнула арканом, будто хотела накинуть его на эту тихую зыбь, и сказала:
– Капсе, дагор[28]28
«Говори, друг» – якутское приветствие, которое употребляют и тунгусы.
[Закрыть], Ламское море!
Свист куликов был ей ответом. Она постояла еще минуту неподвижно, потом огляделась по сторонам. И вдруг попятилась, присела за камень, поднесла руку к глазам. Она прислушалась к стуку своего сердца.
– Н'галенга! – Никичен назвала медведя по-тунгусски – «страшный» – и закрыла глаза.
Но зверь был далеко и не видел ее. Он лежал на скале, низко выступавшей над самой водой и сторожил нерпу. Его трудно было отличить от темного камня. На волнах прыгало солнце. Прижав голову к лапам и косясь на блики, он следил за узким пространством, втиснутым между камнями. Прибой, зеленея, заливал их все выше, оставляя лишь источенные верхушки. Из воды поднялась безухая голова нерпы, блеснув мокрым челом. У медведя дрогнули веки. Но нерпа была еще далеко. Приходилось ждать, прижавшись к камню. Зверь был спокоен – добыча не уйдет от него. Каждое утро приходил он сюда, ложился на скалу, ждал и бывал сыт. Нерпа подплыла ближе. Медведь чуть подался вперед, к краю скалы. Сейчас он бросится вниз, глотнет горькую воду и ударом лапы вышвырнет нерпу на берег. Он сжимал и разжимал влажные ноздри. Сквозь запах камня и птичьего помета уже мерещился ему рыбный вкус тюленьего сала.
Но вдруг нерпа нырнула. Протяжный звук, колебля влажный воздух, наполнил пространство. С лиственницы поднялся орел. Медведь повернул голову. Никичен тоже посмотрела на море. Из-за мыса показалась белая труба. По ветру плыл чесночный запах дыма. Вместе с ним широко, как прибой, несся к берегу рев. Пароход «Эльдорадо» давал знать о себе тунгусам. Медведь задом сполз с камня, грузно шлепнулся в воду и выбрался на берег. Он постоял неподвижно, глядя на ревущую трубу, на дым, чернивший воздух. С его шерсти на гальку стекала вода: от испуга он забыл отряхнуться. Потом словно придя в себя, поднялся на задние лапы, рявкнул и, повернувшись к тайге, бросился бежать. Но и тайга чем-то испугала зверя. Никичен вновь увидела его. Он бежал прямо на нее.
– Н'галенга! – с ужасом шепнула Никичен. – Я не корю тебя за Суона. Он твой!
Она сказала это, чтобы отвести от себя гнев хозяина тайги, и легла, прижавшись теснее к камню.
Зверь не видел ее, не слышал ее молитвы. Он пронесся мимо, хрустя песком, мелким камнем и оставляя за собой струю вони.
Никичен подняла голову. Зверя уже не видно было среди кустов и молодых берез, росших на пригорке.
Снова стало тихо. Направо, чернея хвойным лесом, уходила в пустое небо сопка Суордон. Низко над краем тайги летели лебеди на тугурские мари.
На опушку вышли люди.
Никичен поднялась и пошла к ним навстречу. Она узнала Олешека и отца, стоявших впереди, как подобает проводникам. Остальных она не знала. Их было восемь, одинаково одетых в широкие штаны и рубахи из старой парусины, уж, видно, побывавшей на палатке. Но что больше всего удивило Никичен – на каждом были высокие сапоги и за плечами на ремне винтовка.
Одиннадцать оленей, навьюченных железными ящиками, стояли поодаль. Их ноги дрожали. Вьюки были тяжелы.
«Русские, – подумала Никичен. – Зачем привел их сюда отец и что им нужно?»
Она подошла, поздоровалась с отцом, подала руку Олешеку и еще двум, стоявшим поближе (при русских пусть будет по-русски). Она не умела выразить путникам большего привета.
Русские приняли ее маленькую руку со смехом.
– Дочка моя, капитан, – обращаясь к старшему, сказал Хачимас. Он кочевал близ приисков и хорошо говорил по-русски.
Никичен посмотрела на старшего. Он показался ей моложе других. Его лицо не заросло бородой, а только золотилось от загара. На лбу и за ушами краснели глубокие, налитые кровью расчесы – следы комариных укусов. Он опустил старый театральный бинокль, в который смотрел на море, вслед исчезавшему пароходу, и обратился к Хачимасу:
– Спроси у нее, были ли в Чумукане японцы?
И Хачимас сказал Никичен:
– Рассказывай.
– Потерялся Суон, я ищу его с самой зари. А горбуша еще не пошла. Корюшку уже сушили. Старый Аммосов обещал дать нам целый мешок: я починила для него сети. А Прокофий убил кабаргу, и мы ели мясо. – Никичен сказала все, что могло интересовать отца, и, подумав немного, добавила: – А муки у нас нет и нет порсы. Гости твои лишние.
Новости были интересные. Хачимас забыл о японцах. Но дочкой остался недоволен. Ее скупость, не свойственная тунгусам, удивила его. В кого уродилась эта маленькая Никичен? Ее мать была доброй женщиной.
– Гости никогда не бывают лишними, – строго сказал он. – Если нет у хозяина, то, может быть, есть у гостя, и оба будут сыты. Никогда не думай об этом, Никичен. А Суона твоего мы видели. Он убежал к медвежьему ручью. Олешек поможет тебе поймать его.
Хачимас показал в ту сторону, куда убежал олень, потом закурил длинную трубку и обратился к русскому:
– Нет японцев, товарищ!
– Чей пароход не знаешь, Хачимас?
– Я, как и ты, вижу только дым. Но пароход плывет к Тугуру, а мы идем в Чумукан, и наши следы не сходятся.
Отряд двинулся дальше.
– Чо! – крикнул Хачимас на оленей.
Зашуршали вьюки о низкие ветви каменных березок, пепельно-серых и блестевших на солнце.
Люди пошли за обозом один за другим. Их тяжелая обувь оставляла на глухой траве заметную тропинку, по которой долго потом будет ходить зверобой.








