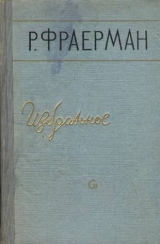
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
Олешек и Никичен отправились в другую сторону искать Суона. И, пока они шли по берегу, море провожало их плеском, криком океанских клуш, похожим на кряканье чирков. Солнце поднялось выше. Море блестело, как свежий надрез на свинце. Ветер тихо свистел в дуле винчестера, который Олешек стал носить, как русские, за спиной на ремне.
– Сними ружье, – сказала Никичен, – я видела близко Н'галенгу.
– Где? – живо спросил Олешек и схватился за винчестер.
– Не спеши. Он уже далеко.
Никичен рассказала, как медведь ловил нерпу и бежал, оставляя следы на песке. Олешек смеялся.
– Он может издохнуть от страха. Надо его поискать.
– Не ищи, я боюсь Н'галенги, даже мертвого.
– Не бойся, Никичен, когда я с тобой, – важно сказал Олешек и пошел вперед, сняв на всякий случай ружье.
У мыса, далеко вдававшегося в море, они свернули в тайгу. Берег здесь был крутой. Камни грелись на солнце. Пахло теплым мхом. Меж камнями росли ползучий кедровник и тонкие голые пихты.
А на самом верху, над морем, сразу начиналась тайга, высокоствольная, сумрачная, с душным, скипидарным запахом аянских елей. Здесь Олешек остановился, подождал Никичен и отер с лица пот.
– Суон недалеко. Поищем где-нибудь в пади…
Но нашли они его не скоро. Оба были невнимательны и думали о другом. Две недели не виделись они. Для их дружбы это был большой срок. Никичен, идя следом за Олешеком, смотрела ему в спину с завистью. Он был на приисках у русских, много видел и многое может рассказать. Но Олешек молчал, а Никичен из гордости не хотела спрашивать. И они говорили о пустяках: о новой каптарге[29]29
Кисет.
[Закрыть], которую Никичен вышила для Олешека синим бисером и разноцветными шкурками, о новой трубочке, сделанной Олешеком из черемухи.
Наконец, не вытерпев, девочка спросила:
– Кто они, эти гости, пришедшие с вами на оленях?
– Красные, – ответил Олешек.
– Они белые, – упрямо сказала Никичен, вспомнив парусиновые штаны русских.
– Они называют себя красными, что значит по-ихнему – бедные люди. Они прогнали с приисков солдат и хозяев и теперь воюют с японцами. Они убили солнце-царя и могут убить урядника Матвейчу, который живет в Чумукане у купца Грибакина под железной крышей и который крестил тебя, Никичен, и дал тебе имя Марфа.
– Так злы они? – с испугом спросила Никичен.
– Так сильны они, – ответил Олешек.
Никичен с сомнением посмотрела на него. Но если Олешек хвалит этих людей, а отец провел их сюда сквозь тайгу и мари, значит они хорошие. И Никичен больше не спрашивала о красных.
– Вот Суон! – крикнула она вдруг. – Посмотри, Олешек!
Шагах в тридцати под елью, казавшейся в сумраке голубой, стоял олень и, подняв голову кверху, сдирал мох, свисавший с нижних ветвей. Он повернул уши на знакомый голос девочки. Секунду-две смотрел на подходивших людей, потом метнулся в сторону, волоча на шее оборванное путо.
– Зачем ты пугаешь его? – сказал с досадой Олешек. – Проклятый зверь, его труднее поймать, чем соболя. Зайди слева и гони его прямо на меня.
Олешек взял из рук Никичен аркан, размотал его, снова смотал, пробуя собственную ловкость. Аркан был тяжелый, длинный, сплетенный из тонких ремней, – настоящий пастуший аркан, которым Олешек владел, как никто в стойбище. Он стал за ель, прижался к стволу, вдыхая запах лишаев. Голос Никичен то приближался, то затихал. Из ласкового зова он превращался в крик досады, и, наконец, в нем зазвучали слезы. Слышался треск сучьев, мягкий топот, на который тайга отвечала тихим качаньем вершин. Ели роняли желтые иглы. Суон кружил и не давался в руки.
– Проклятый зверь! – повторил Олешек. – Я убью его, если он попадет в мое стадо.
Но вот среди бурых стволов мелькнула белая голова Суона. Он понесся мимо Олешека, закинув назад рога.
Тонко, как иволга, свистнул аркан. И едва только скользкий ремень коснулся рога, олень мгновенно остановился, будто осаженный невидимой рукой. Он не повел даже головой, чтобы попытаться сбросить еле державшуюся петлю, и ждал, опустив рога, пока Олешек перебирая руками по аркану, не добрался до него и не обнял за шею. Тогда он вздрогнул и вздохнул в лицо негидальцу – оленьему человеку…
В полдень Олешек и Никичен были снова на берегу моря. Как и утром, над скалами носились кулики.
Был уже отлив. Море уходило. Нагревался и высыхал песок. Нерпы подплывали к камням, чтобы поспать и погреться. Далеко за сопками горела тайга, и горизонт в том краю был затянут дымом, похожим на горы.
Никичен была весела. Снова с ней ее почетный олень, которого Олешек вел за повод. Снова с ней сам Олешек, спутник ее игр, охотник и олений пастух. Как красив он!
Он был строен и ласков. Узкие глаза, поставленные прямо, большой веселый рот – все лицо его с желтоватым румянцем на скулах выражало беспечность и прямодушие. Тонкие ноги не знали устали. Он шел легко по камням, будто лишь сегодня покинул урасу. И только трава, торчавшая из его рваных олочей, черная трава, сгнившая от пота, говорила о долгом пути.
Он мог бы бродить без конца. Немногое нужно было ему для этого: олень, береста, ружье и еще морской ветер, отгоняющий гнус от скотины. Но и этого не было у Олешека. Кроме ветра, все было чужое. Даже ружье принадлежало купцу Грибакину, у которого Олешек прошлой зимой гонял нарты с товарами. Еще двух лис и осеннюю шкуру оленя надо отдать за этот винчестер. А белобокий Суон? Будет ли он когда-нибудь в его стаде? Какими оленями заплатит он калым старому Хачимасу? Ведь даром тот не отдаст Никичен.
Но грустные мысли не тревожили Олешека. Он был овен[30]30
Тунгусы зовут себя в разных местах по-разному: то овенами, то сахами, то донками, что всюду означает – люди.
[Закрыть] и был молод. Еще много неисхоженных троп, невыслеженного зверя, непрожитого времени!
Никичен отстала. С зари она была на ногах. И лицо ее, более узкое и светлое, чем у Олешека, выражало усталость.
Олешек подождал ее и спросил с улыбкой:
– Не потому ли назвали тебя Никичен[31]31
Никичен – по-тунгусски – утка.
[Закрыть], что ты ходишь медленно, как утка?
– Нет, – ответила ему девочка, – Осенью в час, когда я родилась, над нашей урасой пролетели утки; свист их крыльев погасил огонь в очаге, и мать закричала: «Кто это?» Отец сказал ей: «Никичен». А устала я потому, что все утро искала Суона.
Олешек поднял Никичен и посадил ее на оленя, Потом порылся в сумочке, висевшей у него на поясе, вынул кисет, новую трубку и пачку японских галет.
Никичен потянулась к табаку, но Олешек подал ей галеты.
– Ешь, это мне дали красные.
– Хорошо ли тебе было у них?
– Я был сыт каждый день, – ответил Олешек.
– О-о, – с восхищением протянула Никичен, – тебе было хорошо!
Она громко раскусила сухарь, показав широкие зубы, еще не пожелтевшие от табака. Лицо ее расплылось, переносье вовсе исчезло под дугами резких бровей, и глаза под толстыми веками загорелись от удовольствия. Она съела всю пачку, которой хватило бы взрослому на день. Крошки солдатских галет падали с тонких губ Никичен на белую шерсть Суона; он стряхивал их на землю, опускал красивую голову, принюхивался, но не ел, а лишь выдувал ноздрями песок. Не его это была пища, сухой человеческий хлеб, он ел только ягельник.
Близко было стойбище. Но за мысом не видно было ни дыма, ни домов Чумукана. Берег и море по-прежнему казались пустынными. Орлы ловили рыбу. Морская капуста гнила на песке. Ветер стих, и даже над самой водой, над отливом, где черные камни медленно вставали из моря, появились гнус и комары.
3. Потомок капитана СиднеяГерберт Гучинсон скучал в своей каюте. Охотское море удручало его, За всю дорогу от Сахалина до Тугура он не сделал в дневнике ни одной заметки, хотя намерен был записывать свои наблюдения. Он не так любил север, как это казалось ему в сан-францискском колледже.
Сегодня он, наконец, записал:
«Это море тоски, втиснутое между берегом и океаном. Угрюмая вода без горизонта. Целый день торчат перед глазами Шантарские острова, скучные, как дядя Джильберт в своей зеленой куртке и резиновых сапогах. Впрочем, он не так скучен, как плутоват. Боюсь, что этот пройдоха надует меня на своем пловучем граммофоне».
Герберт Гучинсон имел основания быть недовольным Охотским морем, дядей и пароходом «Эльдорадо», переделанным из старой шхуны.
Весь груз принадлежал Гучинсону. Это были товары, которые дядя Герберта – Освальд Джильберт, владелец и капитан «Эльдорадо», лет десять плававший между Аляской и Калифорнией, – обещал выгодно продать на охотском берегу.
Гучинсон выгоды пока не видел.
Он вложил в товары все свое состояние и собирался удвоить его, чтобы начать потом ученую карьеру. Он мечтал быть антропологом. Он сделал то, чего никогда не сделал бы дядя Джильберт: выучил русский язык и несколько слов по-якутски. В своих же деловых способностях не сомневался, имея в роду три поколения капитанов и купцов.
Но с самого Владивостока он ничего не продал. Вчера в Татарском проливе, у Де Кастри, их остановил японский миноносец. Он стоял поперек фарватера, точно сторожил туман. Американский флаг не избавил «Эльдорадо» от осмотра. Пришлось открыть трюмы и показать японцам мешки с мукой и рисом, охотничьи топоры, куски плиса и ситца, разложенные, как в лавке, на полках.
Провожая японцев до трапа, Герберт Гучинсон не отказал себе в удовольствии сказать офицеру:
– Напрасно вы ищете большевиков на американской шхуне. Они там, у себя дома, – и показал на запад, откуда дул бриз, доносивший с берега запах хвойных лесов. – Не знаю, удастся ли нам пройти в Николаевск. Вас, кажется, большевики не пустили?
– Не советую, – по-английски с акцентом и вполне серьезно ответил офицер.
Гучинсон и без того знал, что в Николаевск идти незачем. Партизаны ушли в тайгу, город был покинут и горел. Близ устья Амура «Эльдорадо» встретил чаек с обожженными крыльями. Плыли трупы. Ночь пахла гарью.
«Эльдорадо» шел до рассвета на север.
– Тем лучше, – сказал утром капитан Джильберт. – Мы идем в Чумукан. Хвалю большевиков. Они по-настоящему разделываются с желтолицыми.
– Тем лучше, – подтвердил Герберт Гучинсон. – Ни большевикам, ни японцам не до нас. Мы должны зайти в Тугур. И там могут быть тунгусы.
Капитан Джильберт был сед, толст и не любил неожиданностей. Он с удивлением посмотрел на племянника.
– Для этого придется повернуть назад и сделать лишних семьдесят миль.
– Очень жаль. Но это не много. Надо же посмотреть, где жил мой сумасшедший прадед, – сказал настойчиво Герберт.
В меру худой и рослый, он имел бы приятный вид, если б не светлые глаза, глядевшие слишком холодно на багровом от ветра лице.
Дядя Джильберт поморщился. Но сейчас он был только капитаном зафрахтованного парохода.
– Не дай бог, – проворчал он, – вести серьезные дела с молокососами.
«Эльдорадо», не дойдя до Чумукана, повернул назад и взял курс на Тугурский мыс. С левого борта на горизонте снова показались Шантары. Точно черные ковриги на голубом поддоне, лежали острова на холодном море. Было тихо. Но, казалось, штормы дремали меж кварцевых скал.
В семье Герберта было предание, что прадед Гучинсона Сидней, шкипер китоловной шхуны, пять лет прожил в этих местах. Он поселился в устье Тугура, выстроил дом с бамбуковым водопроводом, женился на тунгуске, бил тюленей, охотился на соболей и, наконец, вернулся в Сан-Франциско один с большим капиталом.
Теперь Герберту хотелось посмотреть на этот дом.
Он был сентиментален в тех случаях, когда дело касалось фамилии Гучинсонов.
В полдень «Эльдорадо» отдал якорь у входа в Тугурскую бухту и на воду спустил моторную шлюпку.
На берегу никто не встретил Гучинсона.
Одна лишь семья тунгуса Васильча сушила юколу на шестах перед палаткой. Золотые мухи носились над шестами, урасой и желтым обрывом Тугура. Старуха с кровавыми веками отгоняла их от рыбы еловой лапой. Ее глаза были мутны, как вода в Тугуре. У шалаша оборванный мальчик сосал рыбью голову. Гучинсон не нашел здесь ни дома с бамбуковым водопроводом, ни памяти о капитане Сиднее.
Мальчик проводил его на мыс и показал под высокой скалою огромный котел, вросший в камни, в нем когда-то варили ворвань.
«Не это ли?» – подумал Гучинсон.
Он постоял в раздумье над котлом, постучал носком ботинка о чугунный край, послушал. Чугун оброс землей, был так стар, что даже не звенел. Гучинсон пожал плечами и пошел обратно к шлюпке. Мальчик и старуха проводили его. Они не приставали, не просили ни табаку, ни денег, и Герберт Гучинсон подивился этому в душе.
На прощанье, кланяясь ему, старуха показала темной рукой на скалу, под которой валялся котел, и промолвила:
– Сырраджок.
Гучинсон не понял.
Еще долго потом видна была с кормы «Эльдорадо» эта скала. Она стояла одна, точно пастух над стадом серых волн залива. А за ней стремилась вверх, к «гольцам» Шантарского хребта, зеленой мглой тайга.
Мальчик вошел на скалу и стал над стремниной. Приставив ладони к глазам, он смотрел вслед пароходу. И так широка была даль, что старуха успела с Васильчем закинуть сети в реку, вытащить их пустыми и, устав от мух, соснуть у горячего пепла костра, а мальчик все еще видел белую трубу «Эльдорадо».
Потом целый день он приставал к старухе.
– Улька! – так звали ее. – Что ты сказала гостю?
– Ты видишь, Чильборик, как много мух и как мало ветра, – отвечала Улька. – От нашей рыбы останется только шкура. Ты бы тоже взял ветку и помог мне, я рассказала бы тебе о скале Сырраджок.
Мальчик принес большую ветку лиственницы с синей хвоей.
И под гудение мух, разгоняемых взмахами веток, Улька рассказала предание.
Мальчик слушал ее, задумавшись и не отгоняя мух.
– Где же те лисы, голубые, как тень на снегу? – спросил он, когда она кончила.
– Ты их не увидишь, Чильборик. Даже рыбы стало меньше, чем было. Завтра и мы уйдем отсюда на Лосевые ключи, за Чумукан, и будем идти до тех пор, пока солнце пять раз не взойдет над морем.
– Где же те лисы?! – Мальчик, плача, бросил на землю тяжелую ветку и поднял к солнцу лицо, сомкнув плоские желтые веки.
И мухи тотчас же выпили слезы, скопившиеся в уголках его глаз.
Предание о скале Сырраджок[32]32
Это предание я слышал в Тугуре в 1920 году от тунгуса.
[Закрыть]
Сырраджок – имя женщины овенского племени. Она жила давно, когда на Большом Шантаре водились якутские лисы, голубые, как тень на снегу. Охотники не ставили на них самострелов, не травили челибухой, потому что Окшери – милосердный дух охоты – запрещал убивать их за красоту. Зато на Малом Шантаре и на Большом Шантаре водилось столько соболя, что платить ясак солнце-царю и платить ясак китайцам было легче, чем снять свою урасу и уйти. Тогда черный соболь с Алдома стоил сто рублей. Но дороже, чем самый лучший соболь с Алдома, стоили оленьи торбаса, вышитые рукой Сырраджок. Не было искусней ее вышивальщицы ни в нашем племени, ни в других. Шила она жилками, вышивала сукном и бисером и разноцветной камасой, вырезанной из голени молодых лосей. Сто оленей давали за нее калыму, но отец ее Чученча просил двести, потому что она вышивала цветы и деревья, которых никто не видал в нашей тайге.
Однажды с моря пришел человек. Он приплыл на большой лодке за дельфинами и нерпой, и лодка его была крылата, и крылья ее полны ветра. И большие камни и малые камни сказали ему: «Здравствуй!» Но он не говорил ни по-якутски, ни по-русски, ни по-китайски и начал жить не так, как живут овены. Он построил себе юрту и высокий очаг. И дым никогда не ночевал под его крышей.
Он не дарил соседям мяса, когда убивал кабаргу, но брал, когда ему дарили. Он убивал орлов. Он не боялся духа Н'галенги и бросал его кости на землю.
И великий Н'галенга отомстил ему.
Овены прозвали его Бородатым Волком. Волки приходят к нам редко с Амура, Амгуни и Алдана. Но этот волк-человек пришел к нам с моря и был хуже других. Он никогда не ходил в стае: один бил нерпу, один забрасывал сети в море, один ходил на охоту и веселился в своей большой юрте. Он был бы сыт, если бы Н'галенга не вселил в его сердце жадности.
Он никогда не ставил знака, если забирал из чужого капкана соболя. Овены думали, что он делает это по нужде. Они пришли к нему в юрту, чтобы помочь, если неудача идет по его следам. Но увидели много связок соболей, голубых лисиц и беличьих спинок.
– Разве мало тебе? – спросили они.
– Мало, – ответил он. – Несите мне меха и добычу. Я вам буду платить радостью, которой полны мои бочки.
И овены поняли, что у Бородатого есть водка. Она была темней звериной крови, пьяней, чем настой мухомора, и давала сердцу печаль. Но печаль эта была такая сладкая, что, раз попробовав ее, овены просили еще и помнили всю жизнь. За это приносили они Волку соболей и рысей и мясо кабарги, а сами были сыты одной печалью. И Н'галенга отомстил ему.
Бородатый не хотел жить, как овены. Он строил свой амбар – нияку – не на столбах, как мы, а на земле позади юрты. И пришел Н'галенга со своей женой, со ста своими братьями. Они разломали нияку, съели бруснику, юколу, сало – все, что припас Бородатый, и разорвали его меха. Он звал на помощь овенов. Но они не любили его и боялись Н'галенги. Голод зазимовал в юрте Бородатого. Он выкуривал его пахучим дымом багульника и молился Окшери[33]33
Добрый дух.
[Закрыть]. Но дым уходил в трубу сквозь крышу, а голод оставался над очагом. Никто не принес ему порсы и мяса и даже хвоста от юколы. Он варил на обед сосновую заболонь и запивал ее своей печалью.
Для него она была горька.
За эту печаль полюбила его Сырраджок.
Она принесла ему мяса и порсы и кусок медвежатины с праздника кука-куке.
И Н'галенга наказал ее. Она стала женой Бородатого за темную пьяную воду, которую Чученча ценил больше калыма.
А за Джуг-Джуром на большой реке, на холодном озере[34]34
Здесь, по-видимому, подразумевается Ангара, впадающая в Байкал.
[Закрыть], жил овен Улабан, имевший тысячу оленей и не имевший жены. Он никогда не видел Чученчи, не видел Сырраджок, но всегда носил нагрудник, вышитый ее рукой. Он не снимал его даже ночью, когда ложился у костра на оленью шкуру. И снилась ему тогда страна, где нет тайги и растут те деревья с широкими листьями, которые вышивала одна Сырраджок.
И Улабан сказал якутским купцам:
– Вы гоняете нарты к морю. Передайте Чученче – я приведу ему тысячу оленей за одну Сырраджок.
Но купцы вернулись без ответа и сказали:
– Тугурские овены погибают от Волка, а Сырраджок стала его женой.
Тогда Улабан взял лук и стрелы и пальму – широкий нож, насаженный на древко из ясеня.
– Я ходил с пальмой на медведя и медведицу, – сказал он братьям, – неужели не убью Волка?
Две зимы и два лета шел Улабан сквозь тайгу с копьем и оленями.
И, пока он шел, Сырраджок родила дочь Лючиткен, вернувшую Волку удачу. Он снова стал богат, но теперь уже сам не бил зверя, не ловил унжу. Он был сыт добычей охотников и богат их промыслом. Когда же мехов в его юрте накопилось столько, что больше не давал он за соболей ни сладкой печали, ни товаров, он сел в свою лодку и уплыл за весенними льдами. И, чтобы Сырраджок не шла за ним, как идет жена за овеном, а отец ее был рад и доволен, он сделал его хозяином своей юрты.
А ночью пришел Улабан, постучал пальмой в дверь Волка. И открыл ему отец Сырраджок.
– Кто хозяин этой юрты? – спросил Улабан.
– Я, – ответил Чученча.
Улабан ударил его пальмой, и широкий нож легко вошел в сердце, как входил он в сердце всякого зверя.
– Я убил Волка, – сказал Улабан Сырраджок.
– Ты убил отца моего, – ответила она. – Уходи!
Улабан ушел. Овены похоронили Чученчу: зашили в шкуру, поставили гроб на пихту, съели оленя и кости привязали к ветвям.
Все хотели забыть Бородатого, но Сырраджок не забыла его.
Каждый день ходила Сырраджок с сестрой на эту скалу – вышивать. Но шила лениво и роняла бисер в воду.
– Что с тобой? – спросила однажды сестра.
Сырраджок поцеловала ее, поручила ей много поклонов и бросилась в море.
С тех пор скалу эту зовут Сырраджок.
И Нянгняко – небожитель – и он же Н'галенга – страшный – наказал Бородатого Волка. Овены сожгли его дом, не дали счастья дочери его Лючиткен. Кто взял ее замуж – мы не знаем, может быть, какой-нибудь бедный человек. Но мы знаем макагырский род – богатый род – не принял ее, и бытальский род не принял ее, потому что женщина никогда не облегчает ясака[35]35
Подать, которую платили раньше тунгусы. Брали ее и с женщин, меж тем они не добывали зверя и потому считались в семье обузой.
[Закрыть]: она ясачную душу имеет, а зверя не бьет.
Комиссар Небываев знал свой мандат наизусть. Он был написан пышным языком:
«Идти к тунгусам. Учредить советы. Вести революционный суд и расправу над врагами рабочего класса. Оказывать всяческое сопротивление японцам. И если справа и слева и кругом будут враги, то держаться до оказания помощи, или до смерти, или до победы над врагами трудящегося народа. Связи не держать по случаю непроходимости тайги, а действовать самостоятельно».
Небываев со стоном стянул сапоги. Он сидел на земле возле урасы Хачимаса. За десять дней пути он пришел к горькому заключению, что сапоги – неподходящая обувь для такого похода. Партизаны разувались. Каждый делал это по-своему. Устинкин, угреватый и огромный, зацепив ногой за пенек, прыгал на одной ноге, хватаясь за голову сидящего Степунова. Тот сопел, занятый собственными сапогами. Кореец Ким, уже разутый, улыбался пунцовым, всегда открытым ртом. Один только командир Десюков, сухой, легкий, слывший за хорошего танцора, бегал в сапогах вокруг обоза.
Тунгусы снимали вьюки, радуясь гостям. Аммосов, черный от дыма старик, качал головой, вытирая рукавом рубахи потные спины оленей. Хачимас подошел к нему, подал обе руки, как самому старому в стойбище, и помолчал в ожидании, что тот скажет.
– Кого ты привел к нам, Хачимас? Они еще никогда не ходили по тайге.
– И олень, поднимаясь с земли, не сразу становится на ноги, – ответил уклончиво Хачимас; он сам хорошенько не знал, что это за люди, хотя в дороге пил их чай и ел их хлеб.
– Не привезли ли они нам пороху, свинца и муки?
– Что во вьюках, не знаю. Они не развязывают их на ночь.
– О чем вы там, старики? – спросил издали Небываев. Он был подозрителен, несмотря на молодость.
– Мы говорили о твоих оленях. Вьюки слишком тяжелы. Сытый олень несет только одну урасу, и то осенью. Если путь твой далек, то подумай об этом. – Хачимас не хотел обидеть русского и поднял глаза, призывая в свидетели солнце, стоявшее над сопкой Суордон. Но как еще можно спросить у гостя, собирается ли он дальше?
Небываев понял его и усмехнулся.
– Мы пробудем здесь еще долго.
– Тогда скажи людям, чтобы ставили палатку и варили чай. В моей урасе еще найдется немного унжи и корюшки, которой хватит на всех.
Хачимас хвастал, называя свое жилье урасой. То была убогая халтарма – семь жердей, покрытых ветошью с одной лишь стороны. Рядом с ней на поляне, вытоптанной оленями и белевшей свежими пеньками, стояли еще четыре шалаша. Было видно море, плоское во время отлива. А направо лесная река, темная от сока корней, спешила к морю, выбегая на песчаные косы. На берегу жались от ветра дома и юрты Чумукана. Их было не больше десяти. И среди них горели от солнца цинковые крыши казенного склада и дом купца Грибакина.
Небываев влез в урасу Хачимаса и сел под дырявой ветошью палатки на камалан.
– Беден твой дом, – сказал он.
– Бедные – вам друзья. Так я слышал на приисках, – ответил Хачимас.
Пришел Олешек один с белым Суоном, без Никичен. Она ушла в Чумукан, чтобы попросить в долг горсть муки для саламата. Надо же чем-нибудь встретить путников, чтобы они унесли с собой радость. Она не сомневалась в их силе. Но так ли добры они, если убили солнце-царя и могут убить урядника Матвейчу, давшего ей имя Марфа? О «а спросила об этом купца Грибакина. Он не ответил и дал ей столько муки, сколько никогда не давал в долг отцу ее Хачимасу. Она обратилась к уряднику Матвейче, но и тот не ответил и только спросил, много ли их.
Никичен вернулась в стойбище, когда Олешек навязал новое путо на шею Суона и погнал его вместе с оленями красных на мох.
Хачимас похвалил Никичен за муку, но саламата жарить не пришлось. Красные, взяв с собой только винтовки, двинулись в Чумукан редкой цепью.
Предосторожность была напрасной. На доме купца Грибакина уже висела красная тряпка. А тунгусский староста Гаврила Белолюбский, по прозвищу Чекарен, сам подал лодку и перевез партизан через Уду. Он был приветлив, спокоен и не чувствовал никакой вины; первый выскочил на берег, вынул из кармана вместе с кисетом березовую печать и молча вручил Небываеву. Одного только человека не могли найти партизаны. Урядник Матвейча исчез. А казенный склад оказался пустым.
И комиссар Небываев сказал:
– Зря мы, братцы, разувались…
На вечер в стойбище был созван сход. Тунгусы пришли, как на суглан[36]36
Ярмарка.
[Закрыть], в праздничных одеждах и принесли с собой меха, чтобы повеселиться и поторговать.
Пришел на оленях богатый тунгус Осип Громов с сыном Прокофием, кочевавший на Лосевых Ключах. Спустились на долбленых лодках охотники, стоявшие повыше, на Уде, за Медвежьим перекатом. Пришли староста Чекарин и купец Грибакин и жившие в Чумукане две якутских семьи. На богатом Осипе был старый кафтан разрезного бумажного бархата и унты из дымленой коровьей кожи. Девушки спрятали косы под платки, надели кушаки и легкие перчатки из оленьей ровдуги, подбитые по краю лисьей выпушкой.
Даже Хачимас натянул на плечи свою летнюю дошку, вытертую до подшерстка, плешивую, как голова новорожденного. Никичен не во что было нарядиться. Она вплела в косы лосиный ремешок со стеклянными пуговками и надела чистую рубаху. Один только Олешек ходил по-прежнему в рваных олочах и в старой шапке из шкуры молодого оленя, которую носил зимой и летом. Но и в этой одежде он был весел. Он смеялся над пуговками Никичен и говорил, что Хачимас зарежет сегодня белого Суона, ибо чем же он будет кормить гостей?
И верно, Хачимас был озабочен. Ураса его тесна, и беден его промысел. Он срубил для костра гостей сухую березу, которая одна лишь не дает искр, и развел огонь возле их палатки, еще не знакомой с заплатами. Дым поплыл навстречу сумеркам, серый, как лось. Над тайгой зажглась Большая Медведица. Тунгусы пододвинулись к костру партизан. Пламя осветило их коричневые лица, глаза. Сколько приветливых и любопытных взглядов!
– Надо начинать, – сказал Небываев.
– Надо, товарищи, – ласково подхватил купец Грибакин, вертевшийся возле вьюков.
Он пришел в старой одежде и рваной обуви. Полуякут, полурусский, с широким лицом, с желчным взглядом, он старался подобострастием скрыть свое беспокойство.
– Надо, товарищи, – повторил он. – Я их знаю, такой народ веселый, только бы повеселиться и выпить. Свое съедят начисто, потом за ваше примутся.
– Мы веселью не враги.
Небываев поднялся с земли, поправил кобуру на поясе и открыл тунгусский сход.
Горели костры. Пылая желтым жаром, поднялась над морем луна. Свет ее был рассеян в воздухе, как мелкий дождь. За спиной тихо шумела тайга, а впереди билось о берег пустое море. Небываев говорил о советской власти.
Хачимас переводил его слова, прибавляя к ним то, о чем думал сам в этот момент.
– Якуты и русские купцы называют нас веселыми, – он показал рукой на Грибакина. – Не думают ли они, что мы рады своей бедности? Мы платили ясак царю по два соболя с юрты. Мы платили старосте Чекарену по рублю с охотника. Мы платили уряднику Матвейче – хозяину казенной фактории, мы платили попу Иванче по две лисы за крестины, а если не было Иванчи, то плати опять уряднику. Не потому ли он с такой охотой снимает свою саблю, когда входит в урасу, и надевает крест на шею? А сколько платим мы купцу Грибакину?
– Что ты говоришь, Хачимас! – крикнул пронзительно Грибакин. – Не потому ли ты беден, что больше всех любишь водку?
– О, ты пьешь больше меня, но от этого не стал беднее. Скажи, кто из нашего бэтюнского рода не должен тебе и сколько раз берешь ты плату за один и тот же мешок муки?
– Врешь, Хачимас! Ты первый мне не должен.
– Ты правду сказал. Я тебе ничего не должен, потому что я беден. Ты никогда не дашь в долг тому, кто ничего не имеет. Но если вы, овены, думаете, что богаты мехами и оленями, то посмотрите в свой содок, где храните посуду и бумажки, на которых записаны долги купцам. Вы богаты долгами, а не посудой.
– Не слушайте, не верьте ему! Хачимас говорит не то, что русский! – крикнул по-тунгусски Грибакин.
Он появился в свете костра, блеснув желтым лицом, и снова исчез в темноте. Он потрясал маленьким кулаком.
Но вокруг Хачимаса стояли партизаны. Огонь играл в их глазах и на дулах винтовок, и комиссар улыбался Хачимасу, отмахиваясь от ночной мошкары.
– Скажи им еще, что советская власть только за бедных, против богатых, только за тех, кто сам промышляет зверя и ловит рыбу. А купцов мы возьмем к ногтю. Об этом не беспокойтесь, товарищи тунгусы.
Небываев с остервенением чесал искусанные уши. Уж очень хотелось ему ввернуть слово насчет белых гадов, капитала и буржуазии, но напрасны были бы здесь его слова.
Между тем Хачимас кончил, и тунгусы, сидя у костров, степенно слушали Грибакина. Он не подходил к огню партизан, не говорил громко, как Хачимас, но те, кто должен был слышать, слышали.
– Хачимас зол на меня, что я не давал ему в долг. Но он говорил правду. Многие бэтюнцы и бытальцы должны мне за муку и порох. И я тоже за советскую власть, как Хачимас. Я дарю вам долги свои, помните это всю жизнь. Пусть я буду тоже беден. И пусть Осип Громов будет старостой в совете. Он мне должен больше всех.
– Что говорит этот человек? – спросил Небываев у Хачимаса.
– Купец говорит тунгусам, что он тоже за советскую власть.
Небываев вздохнул. Невозможным казалось ему понять этих людей, одинаково благосклонно слушавших друзей и врагов.
– Как бы унять купчика, да потише, чтоб тунгусов не напугать? – в раздумье сказал он Десюкову.
– Арестовать, – ответил Десюков. – Арестовать – и никаких разговоров.
Он подозвал Грибакина и тихо сказал ему:
– Пойдем, милый человек, переночуешь дома.
Двое партизан стали рядом с ним.
Ни один костер не погас. Тунгусы подбросили свежего хворосту и остались сидеть. Сова на круглых крыльях пролетела низко над поляной и свернула в сторону от огней.
Кто-то сказал:
– Пусть Осип будет старостой в совете.
– Пусть будет Хачимас! – выкрикнул Олешек.
Хотя он был еще молод и слушать его старикам было стыдно, но те, которые никогда не держали пастухов для своих оленей, тоже сказали:
– Пусть будет Хачимас!
И тунгусы снова подбросили сучьев в костры. Они продолжали сидеть, поглядывая на вьюки партизан.
В них, должно быть, много ситцу, пороху и крупчатки. Если эти люди увели купца Грибакина, то они богаче его.
Но кто же торгует ночью, когда так весело летают искры от еловых сучьев, когда песчаный берег белеет при луне и так вкусно пахнет мукой, поджаренной на нерпичьем сале?
Хачимас готовил у своей урасы саламат. Никичен и Олешек помогали ему. Хачимас ничего не жалел, гордый тем, что его выбрали председателем. Он знал, что если кончатся припасы в его урасе, то гости перейдут в другую. Но одного саламата казалось ему мало для таких гостей. Праздник без мяса – как оленья кость без мозга. И Хачимас подумал о Суоне. Это был единственный олень, которого он мог зарезать. Остальные были матками, от которых ожидался приплод.








