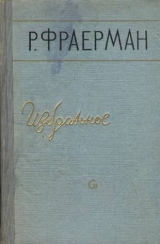
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
До самого утра следующего дня, когда японцы, наконец, оставили Амур и окопались в городе, Васька не знал, кого, кроме Семки, захватил он ночью на дороге.
Пленные были переданы в штаб. Все были заняты боем.
Зато на следующий день не только партизаны, но и низовые гиляки узнали, что пленные были: Семка-собачник, Осип Кузин и Софья Андреевна Борецкая, или, как ее звали в городе, «мадама» из контрразведки. В нарте нашли на сто тысяч золота и соболей.
Имя Васьки-гиляка стало известным от Тырей до Чоми. В обозе у партизан появились гиляцкие нарты с рыбой и мороженой олениной.
Молодой тунгус Петр, встретив Ваську, первый поклонился ему. Он теперь не шутил над кривоногим.
– Капсе! – сказал он. – Старики просят тебя в гости, приезжай с женой и детьми в дни больших снегов. Мы накормим твоих собак мясом.
Гольд Ходзен, стоявший рядом, тронул Ваську за плечо:
– Не обещай. Ты в эти дни приедешь к нам на охоту. Мы накормим твоих собак рыбой и медвежатиной.
Лутуза же ничего не сказал. Но позже, несмотря на строгий запрет, он достал у кахинских китайцев светлого хамшину, пахнувшего дрожжами и хлебом, и втроем, с Васькой и Боженковым, они выпили две бутылки.
Взводный ругался, грозя за пьянство всем троим размозжить наганом головы.
Васька рассердился на взводного и, пьяный, пошел жаловаться в штаб Кумалде. Но по дороге от снежинок, падавших на ресницы, от радости он отрезвел немного и решил лучше поговорить с Семкой, не отдаст ли он ему обратно Орона за сотню белок и пять нерпичьих шкур.
Это, конечно, дешево за такую собаку. Но тогда пусть их рассудит суд.
Сначала Ваську не пускали к арестованным, но потом, узнав, что это тот самый гиляк, который захватил пленных, разрешили.
Он увидел Семку в грязной комнате, на полу, босого, без шапки, с рябым распухшим лицом. Должно быть, его били. Рядом с ним сидел, тоже босой, в разорванном пиджаке и в бобровой шапке, Кузин. Его широкое лицо в золотых очках казалось мертвым. Он не пошевелился, не поднял даже глаз.
Но всех больше поразила Ваську женщина. Ее беличья шубка, накинутая на плечи, и оленьи торбаса были целы, а глаза, сухие, сумасшедшие, синие, не мигая, смотрели на гиляка. В них не было страха и отвращения, но та же безнадежность, что и на лицах Семки и Кузина.
Все знали, что она – любовница Исикавы и по ее настоянию майор выдал парламентера Макарова контрразведке. Не было сомнения в том, что ее расстреляют. В грязной, прокуренной комнате еще пахли ирисами ее японские духи. Васька отодвинулся подальше от женщины и посмотрел на Семку.
– Отдай Орона, Семка. Сто белок заплачу. – Пять нерпичьих шкур он решил прибавить потом, когда купец начнет торговаться.
Семка испуганно шевельнулся и не ответил.
– Э, Семка, в суд подам!
Тогда Кузин поднял на Ваську тяжелые, близорукие глаза.
– Дурак!
И Васька вдруг понял, что в самом деле, никакого суда не надо, что Орон навсегда его, а Семке-купцу – конец и Кузину – конец, и все вышло так, как сказал еще дома Митька Галян.
Васька торопливо вышел, оглянувшись в дверях. Женщина все так же смотрела перед собой, не мигая. И он не пожалел этих безумных глаз, предавших друга его – Макарку.
10Сообщение между городом и крепостью было отрезано красными. Японские солдаты мерзли в казармах минного городка, расположенного в самом центре крепости. Не было возможности привезти из тайги дрова. К тому же еще накануне начался буран. Гудящая мгла разрывала снежную землю. Ветер был пронзителен, невыносим. У солдат из носу шла кровь, словно их поднимали на страшную высоту. Пришлось увести наружные караулы с фортов. Солдаты замерзали.
Пурга длилась три дня, то усиливаясь, то стихая. Когда же она кончилась, верхний сектор крепости был в руках партизан.
В последнюю ночь, когда пурга ослабела, сорок красных лыжников, перейдя Амур, заняли верхнюю батарею, стоявшую на самом высоком холме. Она была заброшена еще с 1918 года, когда артиллеристы-красногвардейцы, оставляя крепость, спрятали замки и снаряды. Эти артиллеристы были сейчас среди лыжников. Всю ночь налаживали орудия и откапывали снаряды. Ветер вырывал дыхание и заглушал стуки молотков, обмотанных тряпками. К утру орудия были очищены от снега, исправлены и повернуты на минный городок. Приютившиеся внизу, под окрестными холмами, в самом центре крепости, японцы еще спали там, в казармах, когда медленно занялась ветреная заря. Партизаны ее встретили выстрелом. Снаряд лег на самой окраине минного городка.
Японские солдаты, еще не одетые, в фуфайках, с зубными щетками, выскочили из казарм на улицу. Над Амуром качался тусклый туман. Второй снаряд, выпущенный партизанами, ударил левее, за цейхгаузами.
Тогда началась та путаница, которая непонятным образом передалась и в город, где тоже сидели японцы и белые. Обыватели говорили, что это стреляют из крепости по партизанским обозам. Среди белых, сидевших в городских окопах, прошел слух, что к городу пробивается через пролив японский ледокол и за ним крейсер.
Японский штаб, потерявший связь с крепостью, не принимал никаких мер. И только комендант ее, Кабаяси, низенький даже для японца, но крепкий, с энергичными скулами, понял, в чем дело. Он отдал приказ поджечь цейхгаузы, взорвать искровой телеграф и топить в уборных затворы лишних винтовок.
Через час он вывел обе роты из крепости на Амур и, опасаясь засады на дороге, повел их целиной к городу. Полушубки у солдат были вывернуты белой овчиной вверх, желтые шлемы обмотаны полотенцами.
Дым от пожара мешался с туманом. Можно было бы незамеченными пройти эти пять-шесть километров до городских окопов. Но ветер! Он шел навстречу, упираясь в грудь, зажимая нос, вдавливая глаза внутрь. Чтобы вздохнуть, надо было отвернуться. Солдаты спотыкались и падали, так как закрывали лицо перчатками. У многих были уже отморожены пальцы и щеки. Так прошли пять километров. Были уже видны у пристани железные баржи во льду.
Тогда случилось то, чего не ожидал Кабаяси. Секрет, выдвинутый белыми за баржи, донес, что на город наступают партизаны. По всей цепи началась частая стрельба. Японцы остановились. Потом тихо легли на лед. Звенел снег, ударяясь о пряжки амуниции и дула винтовок. Мертвели губы, леденели слезы, их приходилось отрывать вместе с ресницами.
И десяти минут нельзя было выдержать, а стрельба продолжалась уже полчаса. Раненых терли снегом, и все же они замерзали. Кабаяси приказал поднять японское знамя и кричать: «Банзай, японцы!» Ветер вгонял крик обратно в легкие, вызывая тошноту. Огонь усилился. Белые видели только красный круг на японском знамени.
Дольше нельзя было лежать, и младшие офицеры предлагали с боем ворваться к своим. Кабаяси не соглашался. Он недаром прошел немецкую военную школу. Он подполз к Симото, самому высокому солдату в первой роте, и сказал:
– Эй ты, труба фабричная!
Тот неподвижно сидел на снегу, засунув в рот помороженные пальцы. На его темно-желтом лице южанина виднелись белые пятна.
– Ты спишь, собака!
Кабаяси ударил его кулаком по лицу. Симото вынул пальцы из рта и с трудом улыбнулся своими замерзшими губами. Он не знал, что может быть так приятно, когда бьют. Но Кабаяси показал ему наган. Симото поднялся, не чувствуя ни пальцев на ногах, ни пяток. Он был действительно высок, словно не японец: выше Кабаяси на три головы. Ему подали знамя. Но побелевшие руки не держали его.
– Сложи их, как Будда, – сказал Кабаяси и просунул древко под скрещенные руки Симото. – Иди к городу. Не прячься, выбирай самые высокие места и кричи: «Банзай, японцы!» Если придешь, то скажешь первому, что здесь – японцы, а не большевики.
Симото пошел по гребням сугробов, кланяясь ветру. Слева всходило солнце. Туман по-прежнему качался над головой.
Симото хотелось плакать, ибо этой весной кончался срок его службы. Он думал вернуться в Кочи, где работал на табачной фабрике.
Странно, что лучший друг Симото – хромой Хигучи – тоже называл его «фабричной трубой». Что за несчастье быть большим, когда другие малы! Когда Симото отправился в Сибирь, Хигучи на прощанье угостил его в кабачке теплым саки, медом и зеленью.
– Мне жаль тебя, Симото, – сказал Хигучи. – Тебя отправляют в Россию воевать с людьми, которые делают для нас, рабочих, хорошее дело. – И он рассказывал ему долго о Катаяме и еще об одном человеке, чье имя Симото запомнил: Ленин.
Симото не думал ни с кем воевать.
– Я понимаю, Хигучи: что нашему брату хорошо, то всегда хорошо.
Навеселе после саки, они потом бродили, обнявшись, в порту и пели песню, за которую их чуть не арестовали жандармы.
Симото вспомнил это, потому что думал о Хугучи. Он не чувствовал себя виноватым. Его обоймы полны – ни одного выстрела не сделал он в этой стране. И он знал даже некоторых из этих удивительных большевиков, для которых ничто не препятствие: ни мертвый ветер, убивающий Симото, ни снег, по которому они бегают быстрее рикшей, ни пушки, которые они поворачивают куда им надо. Симото медленно шел по сугробам. Ветер относил в сторону свист пуль. Казалось, что стреляют сзади. Симото с трудом оглянулся. Он удивился, что так мало прошел. Кабаяси, целившийся в него из винтовки, был хорошо виден. Симото вспомнил тогда, что надо кричать. Он открыл рот и, обжигая ветром легкие, запел ту песню, которую пел с Хигучи в порту.
Туман стал реже и сверкал, как море. Древко знамени сползало из застывших рук к ногам. В плече мучительно жгло. Симото зацепился о древко и упал, замерзающий, уже близкий к кончине.
Туман исчез, стало жарко. Симото увидел Кочи, увидел синюю воду Тозанады. На волне качался, глотая селедку, бронзово-черный баклан. Запахло морской капустой. И казалось Симото, что он все еще поет.
Потом, минут через десять, над Симото со скрипом протопали японские солдаты. Из города их заметили и узнали. Кто-то поднял знамя, а Симото остался лежать на снегу, как и другие, кто не успел дойти до барж.
Три дня партизаны обстреливали город из крепостных орудий. На четвертый в штаб привели японского парламентера с завязанными глазами. Начались мирные переговоры. Потом на розвальнях, устланных сеном и шкурами, приехал с китайским консулом Кабаяси. Им прочли мирные условия, по которым японцы сдавали город партизанам.
Кабаяси закрыл глаза, чтоб не видать этих бородатых оборванных большевиков, поклонился, коснувшись руками колен, и с вежливостью истого японца сказал:
– Модзно.
11Чист и спокоен был полдень, когда Васька въехал на нарте в город. Партизаны вошли утром, но еще и сейчас скрипели в китайской слободке обозы с сеном и оружием, жались к тротуарам тунгусские олени с кровавыми сосульками на нежных губах.
Было тесно от веселых знамен. Орон скулил и прыгал на оленей. Тунгусы грозили Ваське бичами. Он свернул в переулок на задние улицы. Но и здесь был народ.
– Гей-гей, нарта бежит! – кричал Васька.
– Ах, ты, шут! В городе на собаках ездит!
Встречные прижимались к домам, забегали в ворота, взбирались на сугробы. Тринадцать собак с красными султанчиками, с ленточками на упряжи яростно мчали нарту. Васька, держа наготове хорей, следил, чтобы никто не встретился на дороге. И все же недоглядел. Нарту будто подняло на воздух. Впереди взвизгнул поросенок. Собаки сбились в кучу. Васька увидел лишь их дрожащие от злости зады. Он бил хореем, ногами, звал Орона. Ничего не помогло. Через десять минут Орон сам отошел, облизываясь и потряхивая окровавленным султанчиком. Васька погрозил ему хореем. Орон ответил наглым взглядом и стал на свое место, впереди стаи.
– Ешь, – сказал тогда Васька. – Мой праздник, а убыток чужой.
Из ворот выглянул хозяин поросенка, но, увидев собак, красные султанчики и партизанскую ленту на Васькиной шапке, захлопнул калитку.
Нарта завернула к постоялому двору, где обычно останавливались гиляки.
Только на постоялом можно услышать столько новостей, сколько услышал Васька. От тымских гиляков он узнал, что жена продала Митьке двух щенков, чтобы запастись мукой, что соль подорожала на две копейки, а табак – на рубль. Это его огорчило. Зато гиляки из самой большой деревни Варки привезли ему бумагу с печатью и выбрали на областной съезд советов. Старый гиляк, уже восемьдесят раз провожавший ледоходы, поцеловал его в щеку в знак глубокого почтения.
– Ты, Васька, охотник и мудрый гиляк. Все было бы хорошо, если б мука, сети и соль стали дешевле.
Васька пообещал и это. Потом курили, молчали, пили чай с соленой рыбой, и кто-то надавал Васькиным собакам столько юколы, что одна из них объелась.
На съезде в городе Васька скучал. Уж очень непонятно и торжественно говорили там. Но в первые дни он аккуратно приходил в огромную залу холодного каменного дома, садился у стены на корточки, закуривал трубку и закрывал глаза, чтобы лучше слышать.
Одно понимал Васька: что советская власть, как море, омывает все берега. А он ли не любил моря?
И странная жадность нападала на него. Смотрел он, например, на круглый электрический фонарь под потолком и думал:
«Хорошо бы такой огонь над нарами в фанзе повесить; хорошо бы из пулемета нерпу бить; хорошо бы кузинские невода чомским гилякам отдать!..»
Однажды он даже взошел на трибуну, распространяя вокруг себя запах нерпичьих шкур. Ему дали слово. Он постоял, почесался, полез было за трубочкой, но раздумал и сказал:
– Гиляки хотят, чтобы мука была дешевле, и табак, и порох, и невод. Советская власть все может. Это я говорю, Васька-гиляк.
Ему захлопали. Этот шум и крик испугали его. Пятясь, он слез с помоста. Как-то вдруг захотелось домой. Девять недель прошло, как Васька сказал жене: «Не жди меня». Но ведь она ждет, а муки у ней нет, юкола на исходе. И скоро медвежий праздник.
Васька мог бы вернуться домой счастливым человеком. Кроме Семкиных собак, дома у него осталось еще шесть. Это было богатство, которому позавидовал бы каждый гиляк. Но, несмотря на это, несмотря на тоску и тягость городской жизни, непривычной для Васьки, он не торопился уезжать. Сначала казалось, что собаки все-таки не его, а Семкины. Потом, когда уверил себя, что это не так, он стал думать:
«Разве только ради Орона и собак прошел я с красными такую страшную и длинную дорогу? Нет! Если советская власть, как море, омывает все берега, то неужели же на чомский берег не вынесет она никакой радости?»
И Васька все чаще возвращался к мысли о гиляцкой артели в Чомах. Он побывал даже в рыбацком союзе, толкался там целый день, надоел всем вопросами и, наконец, выяснил, что на многое надеяться нельзя. Но немного соли, бочек, а в счастливом случае даже шампонку, можно было бы получить в долг.
Он решил посоветоваться с Боженковым и Лутузой. Может быть, они ему помогут и даже вступят в артель. Более близких людей среди партизан у него не было.
Васька нашел Боженкова и Лутузу в казармах. От безделья они играли в «носянку», забравшись на нары у окна. Лутузе в карты не везло. Боженков отсчитывал уже тридцатый удар по его носу и притом еще жаловался:
– По твоей китайской нюхалке бить – все равно что воду брить. Игра, брат ты мой, неровная.
Ваську они встретили с радостью. Угостили кетовой икрой и сладкими офицерскими галетами, тающими от одного лишь прикосновения языка. Потом рассказали, что многих партизан распускают по домам, чтобы зря не кормить.
Васька слушал, задумчиво разглядывая и теребя кончик своей косы, перекинутой на грудь.
Затем начал издалека. Поговорил о съезде, о цене на рыбу, на муку и рассказал, будто ни к чему, как гиляки всем стойбищем охотятся на нерпу.
– Д-а-а, – мечтательно протянул Боженков, – что и говорить, одним словом – артель! И у нас в старательстве без нее не обойдешься. Она у меня, эта артель, до сих пор в костях сидит. Ломит и ломит. И скажи на милость: отчего это у гиляков ревматизму не бывает, ведь не меньше нашего брата по воде бродят?
– Э-э, как не бывает! – печально сказал Васька и, спустив торбаса, показал свои синие, распухшие колени.
Боженков оживился. Он почувствовал вдруг к Ваське, кроме своего обыкновенного дружелюбия, еще ту странную и грустную привязанность, какую чувствуют друг к другу лишь люди, страдающие одной болезнью.
– А ты чай из брусничных листьев пьешь?
– Пью из корней и листьев.
– Черемши мало-мало надо, – вставил Лутуза.
Боженков строго посмотрел на него.
– Черемша от цынги помогает, а не от ревматизма. Всю казарму черемшой своей провонял.
– Корень женьшень надо.
– Женьшень! – восторженно повторил Боженков. – Найди ты мне его, так я тебе в ноги поклонюсь.
– Искать буду.
– «Искать буду»! – рассмеялся Боженков. – У себя в голове поищи. Ты и за брусникой в сопки сходить боишься.
Лутуза, несмотря на свой рост и кажущуюся отчаянность, действительно боялся тайги. Но, как многие китайцы, он часто мечтал оставить рыбалки, столы, скользкие от рыбных требухов, бочки, пропитанные солью, и уйти в сопки, на Амур, на Уссури – искать всеисцеляющий корень женьшень, способный продлить жизнь человека. Ведь находят же другие и становятся счастливыми. Он мутным, словно пьяным взглядом смотрел в окно.
– Лутуза! – окликнул его Васька.
Он промолчал. Может быть, у него было другое имя, настоящее, китайское, но он всегда откликался и на это.
– Лутуза!
Наконец он оторвал от окна свои печальные глаза и повернулся к Ваське.
– Лутуза, Боженков, поедем в Чоми, – сказал Васька, – будем вместе рыбу ловить. Я слышал, что артелям сейчас дают в долг соль и невода. А у меня есть собаки, фанза, кунгас и жена.
Предложение было серьезное. Лутуза, поколебавшись немного, ответил:
– Шанго[13]13
Хорошо.
[Закрыть].
Боженков попросил время подумать. Но до самого вечера ни о чем не думал.
А когда Васька снова пришел, Боженков вопросительно посмотрел на Лутузу, потер ноги, пожаловался на ревматизм и согласился.
Васька после этого, уже в сумерки, когда зажгли огни, пошел в китайскую слободку к парикмахеру и снял свою косу. Он сделал это с тревогой, даже со страхом, так как прощался с прошлым и не знал, что скажут гиляки.
Орон выбежал из города весело, предчувствуя возвращение домой. Нартовый след был прям, широк, собаки не ссорились, и Васька ни разу не поднял на них хорея. Дорога обещала быть хорошей. Только Лутуза немного мерз в своем ватном халате и тулупчике, потертом на спине.
В низовых деревнях, куда приходилось заезжать, советы были уже выбраны и рыбаки митинговали. Лутуза неохотно заходил на сходки, зато Боженков не пропускал ни одной, да и Васька задерживался иногда часа на два, забывая про собак, оставленных без корма.
– В пургу все деревья шумят одинаково, – говорил он Боженкову.
Люди спорили и думали о том же, о чем и он. Рыбаки требовали все заездки уничтожить, запретить крупные рыбалки, снасть, посуду передать артелям и разделить по справедливости.
– Чем плохо артелями рыбу ловить? – говорили они. – Вон власские спокон веку всей деревней ловят, – и не хуже, чем у других, дай бог всякому. В запрошлом году шхуну какую купили!
– Что верно, то верно, – говорили другие. – Артель для рыбака – не новость.
Но многие ругались и буйно спорили.
– Я то что: про тебя добро копил? «В артель!» А ты, что ль, мне больше дашь, чтоб я свое добро в артель вложил?
– Больше? А этого самого не хочешь?
Причем нередко над головами мелькали кулаки.
Иногда все это кончалось только разговорами или криком, но изредка доходило и до голосования – хлопотать ли за артель. И тогда Васька, Боженков и Лутуза, словно невзначай, поднимали руки. Но обычно противники их замечали и как чужих гнали вон.
Веселая была дорога, и постепенно таяли страх и тревоги Васьки.
Домой он приехал стриженый, с полной нартой собак, с гостями, пахнувшими, как и он, псиной и ветром.
Жена молча встретила его, молча показала гостям их место на нарах. Не обрадовали ее ни табак, ни мука, ни кусок сахару, почерневшего у Васьки за пазухой, потому что Васька потерял образ человека: нет гиляка без косы. Она бы заплакала, если б не надо было готовить тесто для лепешек, кормить собак, гостей, хозяина и рассказывать при этом все, что случилось дома.
Новости были невеселые. Тамха все-таки вышла за Митьку и унесла к нему серебро и одежду. Щенки были проданы, одна собака подавилась иголкой, у Митьки пришлось занять пять туесков муки. Но самое страшное жена рассказала в конце.
Напрасными показались Ваське все его жертвы: и обмороженные щеки, и выстрелы на Амуре, и красная лента на собачьей шапке. Митька Галян, как самый богатый гиляк, был выбран председателем Чомского совета.
12В воскресенье пришел в гости и сам Митька с женой. Он как будто постарел за эти месяцы, – коса казалась совсем седой, жидкой, и особенно старили его синие очки с сеткой, какие носят гиляки для защиты от сверкающего снега.
Зато Тамха выглядела прекрасно. Со своим покойным мужем она прожила не больше года, и теперь ей было восемнадцать лет.
Лутуза с удовольствием оглядел ее коренастую фигуру, умеренно скуластое лицо, узкие глаза с блеском и черные, лоснящиеся от рыбьего жира косы, свитые на кончике в одно кольцо. Ее медные браслеты, серьги, бисерный тунгусский узор на торбасах – все это говорило о том, что и после замужества Тамха не перестала франтить. Она улыбнулась Лутузе, слегка раздвинув свои плотные красные губы.
Митька снял очки. Он с достоинством, как начальство, но ласково, как родственник, поздоровался сначала с Васькой, потом с его гостями и заговорил по-русски, чтобы все могли его понять:
– Ушел ты за лисой, Васька, а привел собак и гостей. Под каким деревом нашел ты это богатство?
Судя по тону Митьки, по его жестам, очень значительным, Васька не ждал от разговора ничего приятного. Он решил быть дерзким.
– Под деревом, которое кормит каждого охотника, – ответил он. – Оно называется «удачей» и растет повсюду, где человек мудр и смел.
Это было обычное хвастовство Васьки.
– Не под ним ли ты оставил свою косу и перестал быть гиляком?
– Я им остался, – недовольно ответил Васька и оглянулся на Боженкова: ему было неприятно, что Митька у него дома и при его гостях говорит с ним, словно с мальчиком.
Лутуза пришел Ваське на помощь.
– Еще ни одна коса не сделала китайца гиляком, а то бы я ее снова отрастил, – сказал он, с любопытством поглядывая на Тамху: она, казалось, не слушала, занятая лепешками.
– Без косы голове легче и вшей меньше. Вши заботу прибавляют, – басом вставил Боженков, покашливая от крепкого табаку и тяжелого запаха гиляцкой избы.
– Так, верно, русский. – Митька усмехнулся. – Васька хорошо сделал. Но еще лучше, что Кузину и Семке амба, и Васька Орона взял, а денег не платил.
– Я сделал так, как ты говорил. – Васька строго взглянул на Митьку.
– Это хорошо, – поспешно согласился Митька. – Плохо, что ты косу снял, шаман Най сердиться будет. Ты подари ему черную сучку Пахту.
– Я шамана не боюсь, а собаки нам самим нужны. Артелью будем работать, рыбу ловить.
Митька насторожился: «Так вот зачем гости приехали!» Но с виду оставался спокойным.
– Цо, цо! – насмешливо чмокнул он. – Я забыл, ты – крещеный, я – крещеный, шаманить нельзя. На шамана можно исправнику пожаловаться. Однако исправников сейчас нет, и я – староста, председатель; мне жалобу подай, разберу по совести.
Васька не ответил. Митька тоже помолчал, теребя свою реденькую бородку.
– Кому же вы будете рыбу сдавать? – спросил он, наконец, равнодушно.
Но Васька видел по беспокойному взгляду его тронутых трахомой глаз, что ни шаман, ни отрезанная коса не интересовали его так, как именно этот вопрос. Васька еще вчера думал было пригласить Митьку в артель: он богат, хитер и у власти. Это бы много помогло делу. Но сейчас – именно поэтому – он решил его не звать.
– Куда все артели сдают, – в город, – тоже равнодушно ответил Васька. – Нам дают в долг на тысячу рублей бочек, невода, соли, обещали шампонку…
Он соврал. Обещали дать рублей на шестьсот, и то если в артели народу будет побольше. Но так хотелось позлить хитрого Митьку Галяна. Пусть и он хоть раз позавидует бедному гиляку!
Митька оставался равнодушным, презрительно шевелил губами и спокойно отхлебывал из кружки чай.
Боженков давно уже следил за спором. Раздражение на этого самодовольного Митьку поднималось к горлу. Он чувствовал приступы гнева, хорошо знакомые ему, когда он без видимой причины начинал драться и кричать.
Митька кончил пить чай, вытер обратной стороной ладони губы и поднялся с нар.
– Ничего не выйдет, – сказал он. – Три оленя не стадо, три собаки не нарта. А гиляки в артель не пойдут.
– Выходит, значит, я – собака? – неожиданно крикнул Боженков.
Его огромная фигура, казалось, заполнила всю избу. Он отстранил Ваську и, мягко, по-таежному ступая, подошел к Митьке.
– Собака я, говори?..
Лутуза схватил его за рукав.
Митька удивленно поднял руку, отступил к двери и надел очки, чтобы больше ничего не видеть.
– Я тоже красный, – ответил он сдержанно, – и знаю, где золото добывается. Ты, русский, ищи его в тайге, а у гиляков нету.
Медленно и аккуратно надел он свою беличью шапку с ушами и позвал Тамху домой. Она все же осталась допивать чай и грызть сахар. Митька ушел один.
– Худо есть! – Васька, мрачный, недовольный, беспокойно топал по земляному полу своей фанзы. – Худо есть! – повторял он через каждую минуту, но больше ничего не говорил.
– А кто его, пса такого, в совет посадил? – ворчал Боженков, чувствуя, что сделал неладное. – Этакую падаль в совет выбирать! В Амур бы его – рыбу кормить! Я у тебя спрашиваю, – приставал он к Ваське, – большевик ты иль нет? Дрался ты с белыми иль нет? Так что ж его бояться! Вот тебе, ей-богу, пойду сейчас к нему – и бахну из берданы. Весь совет разнесу.
Он угрожающе шевелился на нарах, хлопая ладонями по доскам, и свирепо ерошил бороду.
Лутуза, всегда крикливый, отчаянный, теперь сидел тихо и молча набивал Тамхе уже третью трубку. Она беспрерывно курила и спокойно, даже с удовольствием, казалось Лутузе, слушала, как ругают ее мужа.
– Митька богат, и гиляки его слушают, – сказал с сокрушением Васька, останавливаясь перед Боженковым. – Худо есть! – Но потом плюнул с досадой и добавил уже весело: – Однако ничего! Лодка с грузом лучше на воде держится.
Сходку решили не созывать, пока Васька не поговорит с каждым гиляком в отдельности. Засыпая в эту ночь на грязной шкуре, Васька думал: кто раньше успеет это сделать – он или Митька?
Изб в гиляцкой деревне не много, зато в каждой живет по нескольку семейств, человек десять – пятнадцать.
Васька встал рано. До полудня он надеялся обойти всех.
С молчаливой гостеприимностью открывали перед ним гиляки низкие двери своих фанз. В темных сенях гремели цепью и ворчали прикованные медвежата. Повизгивали суки у колов на сене. Скулили от блох щенки под широкими нарами. Над печами из битой глины струился чад от варева. Плакали дети от дыма, душно пахло вяленой рыбой, шкурами, ворванью. Мимо крошечных, залепленных снегом окон тащилось усталое солнце.
В избах готовились к зимнему медвежьему празднику. Ваську обильно угощали юколой и дешевой корейской кваксой, от которой пахло навозом. И Васька пил в этот день много, ибо лучше, чем раньше, видел грязь и бедность, больше, чем раньше, жалел свой маленький, невеселый, никому не известный народ.
Ваське льстили, его хвалили, называли «красным», удивлялись удаче и смелости, потому что гиляки никогда не воюют. Только старики рассказывают, будто давно когда-то была большая война между сахалинскими и амурскими нибхами[14]14
Так называют себя гиляки.
[Закрыть]. Но кто знает, верно ли это?
Васька не отвечал на лесть и похвалу. Он только спрашивал:
– Был ли у вас Митька-купец?
– Был.
– Говорил вам о нашей артели?
– Говорил.
– Что же вы думаете?
– Будем жить по-старому.
Тогда Васька начал рассказывать о тырских гиляках. У них меньше собак и меньше рыбы, чем в Чомах, но у них артель, и он собственными глазами видел железную шхуну, на которой они возят рыбу в город. Они всегда едят мясо, свинину и хлеб; пьют чай с сахаром, будто каждый из них богат, как Митька.
Когда же и это не помогло, он начал хвастать и врать: говорил, что убил в тайге десять черных лис, что артели обещали дать самый длинный невод и что он, Васька, может Митьку посадить в тюрьму.
Его слушали внимательно, подливали в кружку водки и молча подносили.
Домой он вернулся пьяный, но уверенный в себе. Гиляки мало ругали его за косу и – он чувствовал это – уважают его не меньше, чем Митьку. Вот что значит быть хорошим охотником.
Но Боженков и Лутуза были недовольны.
– Эх ты, нализался, а за делом пошел! – с обидой сказал Боженков.
Васька качался, сидя на нарах, размахивал руками. Его лицо потемнело, унты спустились ниже колен.
– Завтра медвежий праздник. Две недели гулять будем. А потом смотри, кто сильней: медведь или лиса, – пьяно бормотал Васька.
– Затащил ты, брат, нас в лисью нору. Это верно. Сами прохарчимся, да и тебя объедим, – до рыбы еще далеко!
Боженков с сомнением потирал свои ноющие колени.








