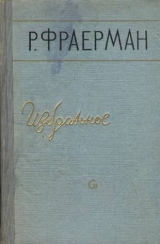
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Как долог весенний день на берегу океана! Уже давно шаланды выгрузили рыбу и снова ушли в море, унося на мачтах паруса, а на палубах – сухие сети. Уже давно женщины вымыли после обеда котлы, и снова развели огонь под ними, и налили в них воды, и положили лук, мясо и много красного перца. Уже давно Василий Васильевич Ни обошел классы и отпустил Ти-Суеви и Натку домой. И давно уж председатель Василий Васильевич Пак смыл с лица своего рыбью чешую и сказал ленивому перевозчику Лимчико:
– Ты бездельник, хотя и был когда-то шкипером. Еще вчера просил я тебя отвести на буксире эти пустые кунгасы в Малый Тазгоу. Они там нужны. Возьми свободный кавасаки номер два и сделай это.
И давно уже ленивый Лимчико ответил:
– Хорошо, я сделаю это.
А день все стоял над океаном, не склоняясь ко сну, и был прозрачен и блестел, как те легкие пузыри пены, которые так ловко умел выдувать Ти-Суеви на конце сухой тростинки. И не верилось, что утром шел дождь. Только западная стена школы, обращенная к сопке, напоминала об этом. В тени, куда не проникали солнце и ветер, она еще была темна.
И Натка, заметив это, спросила у Ти-Суеви:
– Скажи, из чего сделана ваша школа? Крыша на ней не стеклянная, а блестит. Она мне нравится.
Если бы спросить у Василия Васильевича Ни или у Василия Васильевича Пака, из чего сделана новая школа в колхозе Большого Тазгоу, они бы ответили:
– Она построена из местных материалов.
Но Ти-Суеви на этот вопрос ответил Натке не так.
Он повел ее по берегу моря и показал множество больших океанских раковин, сложенных и собранных в кучу на песке. И если бы в это время солнце стояло на юге или была полная луна, то капли перламутра на перевернутых створках раковин засветились бы в глаза Натке, как светилась сейчас улыбка на лице Ти-Суеви.
Он был очень доволен, что хоть школа понравилась Натке.
И Ти-Суеви повел ее дальше, привел в поле, спрятавшееся между двух холмов, и показал яму, откуда брали глину для стен.
Яма была глубокая, но солнце утром все же заглянуло в нее и даже постояло над ней немного. На дне ее среди подсохшей глины валялось много камешков, и черных и белых, удобных для игры, которую любила Натка.
Она сказала:
– Спустимся в яму. Я наберу камешков и научу тебя этой игре. Домой мы успеем. Я слышала, что перевозчик Лимчико собирается под вечер отвести на буксире в Малый Тазгоу пустые кунгасы. Мы сядем в кунгас и будем дома скоро. Это сказал мне сам Лимчико.
Ти-Суеви ответил:
– Это верно. Лимчико сказал мне то же самое.
И спрыгнул в яму.
Натка сидела уже на дне ее и отбирала камни. Она выбрала пять камней: два белых и круглых из кварца, два гладких и черных из шпата, а последний камень выбрать было легче всего. Но когда она взяла его в руки, то увидела рядом другой камешек, не такой красивый и блестящий, как этот. Он был желт, грязен, тяжел для руки. Он совсем не годился для игры, но всем своим грустным видом будто говорил Натке: «Возьми и меня». И, чтобы камешек не обиделся, Натка взяла и его.
Потом она положила все камешки в кучу и показала Ти-Суеви новую игру. Она подбрасывала камешек вверх и ловила их по два, и по три, и даже все шесть сразу, хотя руки у нее были маленькие.
Ти-Суеви попробовал сделать то же самое. Он был не так искусен в этой игре, как Натка, но и он ловил камешки и в горсть, и между пальцами, и в перевернутую ладонь.
Так играли они долго. А солнце шло своим чередом, не заглядывая больше в яму. Оно еще не садилось в море, но медленно катилось к западу, не спеша пройти последние три пяди, оставшиеся ему до конца. А мимо солнца тянулись вверх облака, и в их тени реяли белохвостые зоркие птицы-орланы. Они подолгу стояли на месте, словно впервые видели этот обширный край, волнистый от гор и черный от хвойных лесов.
Иногда же они парами спускались вниз, на каменистое побережье, садились на белые чашечки телефонных столбов, убегавших к заставе, и дремали в тишине. Но не долго. Стоило только самцу повернуть голову, как самка расправляла крылья, склоняла тело вниз – и над морем раздавался ее крик, похожий на хохот сумасшедшего.
– Кто это? – испуганно спрашивала Натка, на секунду прерывая игру.
– Это птица, – отвечал Ти-Суеви. – Она, наверное, видит кого-нибудь.
– Кого? Может быть, она на нас кричит?
– Нет. Она кричит на зверя, или на птицу, или на рыбу. Мы же люди. На нас ей незачем кричать. Играй дальше. Твоя очередь.
Но Натка не успела подбросить камешки.
Над краем ямы послышался вдруг шум крыльев, похожий на свист кнута, затем слабое сопенье, возня, несколько комьев глины упало вниз, к ногам Ти-Суеви.
Он поднял голову и вскочил.
Вместе с комьями глины на дно ямы, сложив лапы и подогнув голову, с отчаянным визгом скатился маленький медвежонок.
Он медленно поднялся на ноги, фыркнул и, неуклюже перебирая толстыми лапами, попятился назад, к той же стенке, где, прижавшись в страхе, стояли дети. На этот раз Ти-Суеви был так же испуган, как и Натка, хотя и не кричал, как она. Однако, пятясь назад, медвежонок поглядывал не на детей, а вверх, где над ямой кругами поднималась в небо птица.
Крик орлана раздавался уже высоко.
В то же время совсем близко, рядом с ямой, кто-то громко позвал:
– Личик, Личик, куда ж ты пропал?
Медвежонок повернул ухо в ту сторону, откуда раздавался зов, и, как щенок, припадая на передние лапы и мотая большой головой, два раза крикнул:
– А-ай, а-ай!
Тогда Ти-Суеви пришел в себя. Он узнал медвежонка.
– Ведь это же Личик, – сказал он, обернувшись к Натке.
Но Натки уже не было рядом. Схватив в зубы край своего платья, чтобы легче было ползти, она на четвереньках старалась выбраться из ямы.
– Ведь это же Личик! – крикнул еще раз Ти-Суеви. – Медвежонок Личик, который живет на заставе!
– Теперь я сама вижу, что это Личик, – ответила Натка, усаживаясь на краю ямы.
– Так вот куда люди забрались, – раздался позади Натки все тот же голос, который раньше звал медвежонка.
Натка обернулась. Возле нее, шагах в двух, стоял красноармеец Сизов, держа в руках свою фуражку с зеленым верхом. Винтовка его висела на ремне за спиной, голова была коротко острижена. Он смеялся.
– Здравствуй, красноармеец Сизов, – сказала Натка.
– Здравствуй, Сизов, – повторил за ней из ямы Ти-Суеви.
А Сизов заглянул к нему в яму и сказал:
– Хорошее у вас вышло прикрытие, особенно если тут поставить пулемет.
И он спрыгнул вниз, к Ти-Суеви, и, как взрослому, подал ему руку.
Они были друзьями – этот корейский мальчик, смуглый, с длинными руками, и красноармеец Сизов, стрелок пограничной охраны, сын уральского жителя из лесной деревни Пермяки.
А между ними вертелся медвежонок Личик – тоже друг.
И так как с друзьями всюду хорошо, даже в глубокой яме, откуда берут глину, то Натка также сползла вниз, не выпуская из рук своих камешков.
И тут втроем они поговорили.
Сизов сказал:
– Хожу я по своему участку и смотрю как будто хорошо, а, между прочим, вас не видел. Как в поле вышли – видел, а куда пропали – понять не могу. Чудесное, думаю, явление эта пересеченная местность.
– А мы тут играли, – сказала Натка, и она тряхнула своей сумкой, куда успела уже положить камешки, собранные ею для игры.
– Так, вижу, камешки, – сказал Сизов. – А все-таки вас бы я ни за что не нашел, если бы не Личик. Я его с собой брать не хотел. Сам отвязался, за мной прибежал и бежит и бежит, все к одному месту. Значит, думаю, друзей почуял или шмелиное гнездо нашел. Он мед любит. И был он все время веселый, пока не обидели.
– Кто же это его обидел, Личика? – спросил Ти-Суеви.
Медвежонок, услышав свое имя, поднялся на задние лапы и, ворча и горько жалуясь на свою обиду, посмотрел вверх. Посмотрели туда и Сизов, и Ти-Суеви, и Натка. И увидели, что облака стали гуще, небо побелело, а под облаками по-прежнему неподвижно стояли орланы.
И все рассмеялись.
А Сизов поднял медвежонка на руки и поставил его на край ямы.
– Отведи его на заставу, – сказал он Ти-Суеви, – а то сам не дойдет. Напугали его птицы.
V. В лесу появилась паутинаХорошо было Ти-Суеви сидеть с Наткой в яме и играть в камешки, однако неплохо было и пройтись с медвежонком на заставу.
Там жил начальник Бойко, и стрелок Сизов, и другие люди, о которых ни один человек ни в Большом, ни в Малом Тазгоу не скажет ничего дурного.
Хотя дом их окружен забором и вдоль забора ходят часовые, но, как все люди, они сами себе чистят на обед картошку, а шелуху отдают женщинам для свиней. Ти-Суеви же и Натке они дарят иногда по яблоку. Да, по яблоку! Это ведь редкий, невиданный здесь плод!
Но разве дело только в яблоке?
Нет! Они ходят днем и ночью по дорогам, и летают над горами, и спускаются в глубокие пади, где от воды черны деревья и даже черна трава.
И Ти-Суеви никогда не приходится спрашивать у них:
– Хорошо ли вам в нашем краю?
Сизов всегда сам говорит:
– Хорошо тут у вас жить, Ти-Суеви!
И при этом он еще отлично умеет подражать голосам зверей и птиц. Он берет в рот маленький манок и лает, как лисица, или кричит, как скворец.
Он подолгу стоит над травой и камнями. Он срывает с деревьев листья и прикладывает их к лицу, быть может, для того, чтобы приласкаться к ним.
И за эту привязанность к лесу Ти-Суеви ставит его высоко над людьми. Он ставит его даже выше, чем Натку, которая, по совести говоря, причиняет Ти-Суеви немало огорчений.
Вот и сейчас она не пошла с ним на заставу, а стоит под горой, на тропинке, и машет руками и кричит ему:
– Скорей, Ти-Суеви, Лимчико собирается отплывать!
И Ти-Суеви у поворота остановился. Он спустил Личика на землю, повернул его голову к заставе и спросил:
– Дойдешь ли ты сам, Личик? Тут совсем близко. А меня зовет Натка. И если она зовет, надо идти, потому что я никогда с ней не ссорюсь.
Но Личик не хотел идти сам, он лег на дорогу и смотрел в другую сторону. Он смотрел в лес, где ели стояли тихо и где ничего не было видно.
А с другой стороны, за поворотом, по шоссе, приближалась лошадь. Она звонко и мерно ступала по щебню – точно капля за каплей падала на камень вода, – а скрипа колес не было слышно.
И Ти-Суеви подождал – не покажется ли всадник. Это мог быть только начальник заставы. Он один ездил по этой дороге верхом.
И верно. Доехав до поворота, начальник сказал (Ти-Суеви хорошо слышал его голос):
– Василий Васильевич, ты старый партизан – душу из себя самого надо вынуть, а его найти. Он где-то здесь перешел, в твоем районе.
И Ти-Суеви увидел Василия Васильевича Пака. Он держался за стремя, а лицо его, темное, как кожура кедрового ореха, было поднято вверх.
– Хорошо говоришь, – ответил он начальнику. – Душу из себя вынем, а его найдем.
И Василий Васильевич Пак сошел с дороги и зашагал по тропинке к морю. И шаг его был проворен, точно старость вовсе не мешала ему.
А начальник тихо повернул лошадь назад. И она вдруг заржала так, что мороз пробежал по спине Ти-Суеви.
Неспокойно, должно быть, стало на заставе.
Ти-Суеви посмотрел вниз, на тропинку, где у ног его еще секунду назад лежал медвежонок Личик:
– Куда же он девался, глупый?
Ти-Суеви заглянул под кусты волчьего лыка, раздвинул траву; в ней было много донника и росли еще другие, на длинных стеблях желтые цветы.
Но Личика не было.
Тогда Ти-Суеви подумал:
«Что скажет Сизов, если пропадет Личик? Он так любит его. Нет, пусть Натка на этот раз поедет на кунгасе одна».
И Ти-Суеви направился в ту сторону, где ели стояли тихо и ничего не было видно. Там послышался ему треск сухих ветвей.
И Ти-Суеви бежал по лесу, огибая старые деревья.
Он кричал:
– Личик, Личик!
Потом он пошел тише. Он увидел, наконец, след. Медвежонок забирался в чащу. Но теперь уж все равно он не уйдет от него.
И Ти-Суеви зашагал еще медленней меж молодых и старых елей, стирая с лица паутину.
Он тихонько оглядывался. Он любил глухой лес, В ветер, когда по вершинам его шагала буря, он напоминал Ти-Суеви море – так же качался он и шумел, И в тихую погоду любил его Ти-Суеви. Тогда сосны скрипели, как барки, и всегда по стволам кедров, точно зверек, снизу вверх и сверху вниз пробегал легкий треск. Лес никогда не был спокоен и тих. Он жил. И если Ти-Суеви хотел, то мог слышать даже его дыхание.
Но теперь странная тишина царила в лесу. Как стена, стояла она вокруг. Не было слышно ни шума крыльев, ни голосов птиц. И перед этой стеной остановился даже Личик, пораженный глубоким безмолвием. Он даже не пытался бежать.
Весь в паутине, он стоял, подогнув задние ноги и прижавшись к кусту ежевики.
Ти-Суеви тихо зачмокал губами. Медвежонок подошел к нему и лег, положив лапу на соломенные туфли Ти-Суеви.
– А-ай-я-ай! – крикнул два раза медвежонок.
Ти-Суеви поднял его на руки и стер с его глаз паутину.
Паутина была и на одежде и на лице Ти-Суеви.
Как много ее в лесу! Она спускалась с вершин до земли, где под мхом сосны грели свои старые корни. Она висела меж ветвей, прогибаясь, и голые ели были закутаны ею. И даже вечернее солнце, бродя по самым верхушкам, было все в паутине. Оно кротко горело в ее тонких сетях и, скользя вниз по нитям, освещало на концах их волосатых гусениц. Груды объеденной хвои лежали у подножья сосен. И в тишине хвоя падала сверху на паутину.
«Так много ее никогда у нас не было», – подумал со страхом Ти-Суеви.
Он медленно отступал перед этим мертвым лесом. Крепко держа медвежонка, он прошел, согнувшись под низкими ветвями лиственниц и не слыша ничего, кроме шума своих собственных шагов.
И Ти-Суеви был рад, когда вышел наконец к дороге, на опушку. Тут он увидел ольху и ясень и услышал живой шепот их листьев.
Ти-Суеви посмотрел на солнце. Оно прошло еще две пяди, и до края горизонта оставалась ему только одна. Это не так уж много, чтобы успеть вернуться на заставу и засветло прийти домой в Малый Тазгоу.
Ти-Суеви вытянул правую руку, прищурил левый глаз и собственной маленькой пядью, как учил его в море отец, измерил путь, оставшийся солнцу до заката. Да, только пядь с небольшим! А каждая пядь – это час.
Ти-Суеви пустился бежать, прижимая к себе медвежонка.
Кто-то окликнул его.
Сизов возвращался с обхода. Он шел мерным, но уже отяжелевшим шагом. Слишком много ходил он сегодня, слушал, глядел. А травы цепки на каменных тропинках, овраги глубоки.
Лицо его было в пыли.
Ти-Суеви подождал Сизова на краю дороги и приветствовал его по-военному, и медвежонка Личика заставил сделать то же – притянул его лапу к уху. Пусть красноармеец Сизов посмеется и покажет, как кричат дрозды.
Но Сизов на этот раз не посмеялся, не показал, как лает лисица и как кричит дрозд.
Он даже хорошенько не взглянул в лицо Ти-Суеви, а смотрел на его штаны, перетянутые ленточкой, на рубашку, где клочьями висела паутина. Потом протянул руку и снял со спины медвежонка такой же клок паутины и в ней черную гусеничку.
Паутину он сдунул, а гусеницу положил на ладонь.
Мерцая волосатыми кольцами, она поползла по ладони вверх. Он посадил ее на палец, она снова поползла, поднимая блестящую головку.
Это была подвижная тварь.
– Нехорошо, – сказал Сизов.
Он завернул гусеницу в бумажку, спрятал в шапку и посмотрел на деревья вокруг, послушал.
Ти-Суеви тоже послушал.
Лес потихоньку звенел, жаловался, тряслись на осинах листья. Но паутины здесь не было. Лишь кое-где сверкала она вдруг, как нож.
– Там ее много, – сказал Ти-Суеви.
– Где? – спросил Сизов.
– Там.
Ти-Суеви показал в ту сторону, откуда недавно пришел, в самую глубину, где над лесом царили ели.
Сизов переложил винтовку с уставшего плеча на другое и пошел им навстречу.
А Ти-Суеви остался его ждать. Он слушал, как шумно ступает Сизов по валежнику, потом сел и поставил медвежонка меж ног.
Но ждать пришлось недолго. Вскоре вернулся Сизов. Он уже не трещал валежником, он шел осторожно, словно отходил от постели больного.
– Пойдем скорей, – сказал он.
И Ти-Суеви снова побежал. А Сизов пошел широким шагом, быстро.
– Плохо нашему лесу, – сказал он вдруг.
– Очень плохо разве? – спросил Ти-Суеви.
И тревога его была так велика, что ему захотелось плакать. Но он был мальчик и бежал, а на бегу трудно плакать. Потом еще мешал медвежонок, и рядом шел красноармеец Сизов.
Взгляд Сизова был беспокоен, веки пыльны, и в руке его дымилась цигарка. Когда же он успел закурить?
Ти-Суеви ждал, не скажет ли еще чего-нибудь красноармеец Сизов, потому что хотя он и молод, но все же старше Ти-Суеви и не годится младшему ни спрашивать первому, ни говорить.
Но Сизов долго шагал молча.
– Страшный враг эта гусеница, – сказал он наконец. – Сам знаю! Я из уральской деревни, вместе с лесом рос и знаю – страшная тварь! На двести верст вокруг обгложет ели, догола разденет лес. И упадет он. Спасать надо, если не поздно.
Сизов погасил в руке цигарку. Уже близко были ворота заставы.
Ти-Суеви спустил медвежонка на землю и тот вбежал в ворота, мимо часового, который посмеялся ему вслед.
А из ворот вышел начальник заставы, его лошадь шла за ним. Он был в форме лейтенанта – с серебряной дорожкой на петлицах, в черных сапогах. О таких высоких и красивых сапогах никогда даже не мечтал Ти-Суеви.
Сизов подошел к лейтенанту и поставил ружье к ноге.
Лейтенант спросил его:
– Давно сменился?
– Давно, два часа назад, товарищ лейтенант.
– По какой дороге возвращался?
– Шел через Фазанью падь, поднимался на Черную сопку.
– Никого не встретил?
– На участке никого не встретил, товарищ лейтенант. Но в лесу появилась паутина.
Сизов снял шапку и показал забившуюся в угол бумажки гусеницу.
Начальник внимательно разглядывал ее, точно каплю воды, держа на согнутой ладони.
И лошадь его тоже смотрела на гусеницу.
– Я знаю эту дрянь по нашим лесам, по пермским. Хуже, чем совка для ржи, товарищ лейтенант, – сказал Сизов.
– Я тоже знаю. Да, опасная дрянь! Еще третьего дня я заметил ее на еловой просеке и сообщил уже в город. Примем меры. А сейчас пойдем со мной, Сизов, – сказал лейтенант.
Он ушел вперед, немного согнувшись.
И лошадь его пошла за ним. Стремена ее цеплялись за ветки, и бока ее были мокры от пота.
А Ти-Суеви остался один у ворот заставы. Никто – ни Сизов, ни начальник – не предложил ему сегодня яблока. Никто не попросил поиграть с Личиком, которого дневальный уже привязал к кольцу.
Но Ти-Суеви все стоял, размышляя об этих людях с удивлением. Кто же больше их любит этот лес, если даже о паутине думают они и говорят друг другу!
И больше чем когда-либо Ти-Суеви хотелось сегодня войти во двор заставы, где посредине стояла деревянная вышка. Давно когда-то лесники наблюдали с нее пожары. Она разрушилась, доски на ней покрылись оранжевым мхом, но и теперь, поднявшись на верхушку, можно видеть далеко кругом. Можно видеть, как на мысах закипают под ветром леса, можно видеть море.
И иногда Ти-Суеви это видел. Но не всегда взбирался он на вышку, а шел в дом к красноармейцам, в уголок, который они называли «Ленинским». Там был мягкий диван – тоже старый. Но Ти-Суеви он казался странной вещью – маленьким чудовищем, набившим свое брюхо морской травой и железом. И Ти-Суеви подолгу глядел на него, не решаясь присесть. Ведь он никогда в жизни не сидел на мягком!
Он сидит на глиняных нарах, а спит на циновке и кладет под голову подушку, набитую жесткой мякиной.
Но вот и ворота заставы закрылись, не видно стало двора и вышки, не на что больше смотреть.
И Ти-Суеви начал спускаться к морю.
Да, долог был этот весенний день! Долог! Но и он кончался.
Удлинялись тени. В океане к закату поднималась зыбь, и светлый вечер опускался на беспокойную воду.
Ти-Суеви посмотрел на небо, ставшее зеленым, В нем еще не было ни одной звезды. Но и орланы уже не стояли там.
Где же Натка? Наверное, Лимчико на пустом кунгасе отвез ее в Малый Тазгоу, домой.
И Ти-Суеви вспомнил, что за весь этот долгий день, богатый для него событиями, он не нашел для Натки ничего – ни лесных орехов, ни устриц, ни морских ежей, а несет только кусок паутины с гусеницей, которую, так же как красноармеец Сизов, Ти-Суеви спрятал в свою шапку.
VI. Старик, который мало спитПрошло два дня с тех пор, как в колонию прокаженных поступил больной и безумный мальчик.
За это время Ти-Суеви видел его только два раза: в первый раз утром, когда он встретил мальчика в лесу, по дороге, близ моста, и затем на другой день, под вечер, когда старуха Лихибон принесла внуку сою, мясо и рис.
В колонии был тогда час ужина.
Сестра несколько раз ударила в барабан, висевший на суку старого кедра. Это был маленький маньжурский барабан из воловьей шкуры, потрескавшейся от времени, – может быть, тот самый, с которым когда-то ходил по базарам старик, предупреждая о своей проказе.
Глухой звук медленно прошелся по двору и огородам и спустился на дно оврага, где без устали пел среди кустов ручей.
На тропинке вдоль забора показались прокаженные с тяпками на плечах.
Ти-Суеви, стоявший у края моста, посторонился немного, чтобы уступить им дорогу.
Прокаженные не пели, как вчера, но все же были веселы, возвращаясь с работы. И навстречу им несся глухой стук барабана, и звон медной китайской посуды, и запах свежего хлеба.
Они прислонили тяпки к забору и сели за длинный стол под молодыми березами, ожидая, когда повар принесет им ужин. А некоторые, отойдя в сторону от берез, развели на железных жаровнях огонь. Они сами готовили себе пищу. И сестра, проходя мимо, ничего не сказала им, потому что тут, в «доме ленивой смерти», никого не лишали радости, даже самой малой, – пусть это будет только ужин, который приятно сварить самому.
Старуха Лихибон остановилась на мосту рядом с Ти-Суеви. Грязное лицо ее в глубоких морщинах было облеплено комарами, и осы кружились над корзиной, которую она держала в руках. Там было мясо, соя и рис, сваренный на меду и сале. А сверху на листе папоротника лежала жареная птица.
«Это, наверное, тот самый петух, который вчера кричал над океаном», – подумал Ти-Суеви и учтиво спросил у старухи:
– Как поживает внук, Лихибон?
Старуха отогнала от корзины ос и сказала сердито:
– Что ты все ходишь тут по дороге, мальчик, что ты все смотришь, чтоб тебя ветер разнес на все четыре стороны!
– Вот проклятая! – сказал прокаженный старик, всегда сидевший у ворот на камне. – Она никому не желает добра!
Лихибон взглянула на старика мутными глазами и, далеко обойдя его, подошла к высокому кедру. Тут она поставила корзину на землю и посмотрела из-под ладони вверх.
– Ты слышишь, внук, это я пришла, Лихибон! – крикнула она по-корейски.
Ти-Суеви с изумлением поднял глаза к вершине старого дерева.
– Неужели он все еще сидит там со вчерашнего дня?
Но никто не откликнулся на голос старухи, и старый кедр по-прежнему стоял тихо.
– Его там нет. Кого же зовет она? – спросил старика Ти-Суеви.
– Нет, он там, все там сидит, безумный, – ответил старик, пожимая плечами. – А все же ему придется слезть. И ястреб спускается на землю, когда видит под стогом курицу.
И верно, Ти-Суеви заметил вдруг мальчика. Он спускался с ветки на ветку так ловко и бесшумно, как не мог бы этого сделать даже маленький зверь колонок.
Старуха молча ждала.
Мальчик спрыгнул на землю и, присев на корточки у корзины, начал есть, пальцами засовывая в рот целые горсти рису. Он был, должно быть, голоден, так как не сказал старухе ни слова. И только комары, как бубен, звенели над ним. Старуха отгоняла их веткой.
Он съел рис, и мясо, и птицу, ни разу не подняв головы.
Но когда сестра, оставив прочих больных, показалась вблизи на дорожке, он опрокинул корзину ногой и, обежав два раза вокруг кедра, одним прыжком очутился на нижней ветке.
Сестра подбежала к Лихибон.
– Глупая женщина! – крикнула она на старуху. – Я говорила тебе – не кормить его без меня. Теперь мы его опять не поймаем, и доктор будет меня ругать.
Лихибон поклонилась ей до земли.
– Не сердись на меня, – сказала она сестре, – я не понимаю, что ты говоришь.
– Я говорю, что доктор не может его посмотреть. А если не посмотрит, он не будет лечить твоего внука.
– Так посмотри еще раз меня, – сказала Лихибон.
– Мы тебя уж смотрели. Не ты больна, а он.
– Он болен! Он! – повторила старуха, тряся головой и плача.
А сестра отошла от нее, недовольно поглядывая на высокий кедр, где, притаившись в широких ветвях, сидел прокаженный мальчик. Его не было видно с земли, и сестра потихоньку ворчала, уходя по дорожке назад.
– Он доставляет ей много хлопот, раз она так сердится, – сказал старику Ти-Суеви.
– Много, – ответил старик и поманил Ти-Суеви к себе.
Тот подошел ближе.
– Вот, – сказал старик, – ты здоров, а не боишься проказы: я каждый день вижу тебя тут, на дороге, у наших ворот. Посмотри мне в глаза, не бойся.
Ти-Суеви без страха взглянул ему в лицо, хотя оно было ужасно: бугры покрывали его, и кровавые веки, лишенные ресниц, были широко открыты.
Старик прикоснулся к ним пальцем.
– Я никогда не могу их закрыть, – сказал он, – ни днем, ни ночью, ни перед самой зарей, когда спит даже этот камень, на котором я все время сижу. И хотя глаза мои всегда открыты, я не вижу, когда же спит этот прокаженный мальчик. Он не спускается на ночь с кедра и не приходит в дом, где сестра для него поставила хорошую кровать. Он не ест нашего хлеба и мяса, не пьет воды из нашего колодца, а, как зверь, бегает к ручью, откуда нам пить не велят. И куда он уходит на рассвете? Я сегодня утром на росе видел его следы.
– Ты в самом деле много видишь, старик.
И старик и Ти-Суеви мгновенно обернулись на этот голос, раздавшийся вдруг позади.
У забора, тесно прижавшись к нему, стоял прокаженный мальчик.
Никто не заметил, когда он снова спустился с кедра на землю. Больные уже разошлись по палатам, и нигде во дворе не было видно сестры.
Мальчик стоял неподвижно. Руки его были закрыты длинными рукавами хурьмы, и широкая, сгустившаяся к вечеру тень от забора скрывала его лицо.
Только на мгновение вышел он из этой тени, и Ти-Суеви увидел на лбу его лиловое, похожее на облако пятно.
Мальчик секунду-две, не шевелясь, глядел на старика. И тот поспешно поднялся с камня, а Ти-Суеви отскочил в сторону, – так страшен был этот искаженный злостью взгляд.
– Мне противно смотреть в твои глаза, – сказал старик, – но если ты уж спустился с дерева, то я хотел бы разглядеть тебя поближе.
Старик протянул к нему руку, и хотя пальцы его распухли от болезни, однако он очень ловко и крепко схватил мальчика за полу его хурьмы.
Но мальчик вдруг выхватил нож из-за пазухи и одним ударом отсек край своей рваной одежды, за который держался старик. Потом пригнулся к земле, скользнул вдоль забора и, словно провалившись в глубокую яму, исчез в овраге среди кустов.
– Ого! – сказал старик, разглядывая кусок синей добы, оставшийся в его руках. – У этого мальчика острый нож. Он бы мне очень пригодился, чтобы вырезать себе из ясеня новую трубку.
И старик, покачав головой, снова присел на камень.
А Ти-Суеви ушел, также с удивлением размышляя о том, зачем мальчику, больному проказой и безумному, старая Лихибон дает такой острый нож.








