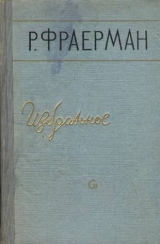
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
Хачимас ничего не сказал Никичен, занятой стряпней, взял аркан и ушел в тайгу. Он нашел своего оленя по белой шерсти. Суон бродил один. Стадо уходило от него. Слишком заметна была его шкура зверю; она серебрилась, как ветви каменных берез.
Хачимас на аркане привел его в стойбище и поставил у костра. Он долго гладил его, пока Суон не привык к огню и людям.
– Зачем ты привел его? – спросила Никичен.
Хачимас не ответил. Он вынул нож из берестяных ножен и вонзил его в затылок Суона, в то место, где кончаются позвонки. Олень упал на передние ноги; голова его, уже мертвая, коснулась пламени костра и кровь, бежавшая из ноздрей, зашипела на углях.
Никичен в страхе молча отступила перед тем, что сделал отец. Но, когда страх прошел, она оскалилась от гнева и сказала:
– Это мясо не будет сладким ни для тебя, ни для твоих гостей!
Хачимас, присевший на корточки, чтоб свежевать оленя, с удивлением посмотрел на соседей и повторил вслух то, что подумал утром о Никичен:
– В кого уродилась она, не знаю. Мать ее была доброй женщиной.
Старый Аммосов сочувственно чмокнул губами и взялся за нож, чтоб помочь Хачимасу. Он снял шкуру с головы Суона, положил в нее кусочек сала и повесил на дерево, чтобы вкусно пахло, если дух оленя ночью придет к их кострам.
Никому не было дела до горя Никичен. Только один Олешек старался утешить ее. Он сходил с ней на реку за водой, подарил новую трубку из черемухи, насыпал в каптаргу полную горсть маньчжурского табаку.
– Не жалей, Никичен, Суона. Еще будут у Хачимаса олени, еще будет у тебя севокин. А сегодня мы празднуем нового голову нашего рода – советы. Мы будем сегодня сыты и рады.
– Если ты не жалеешь Суона, которого я растила для твоего стада, то ты не жалеешь себя, – ответила Никичен сердито. – Я не подарю тебе новой каптарги.
– Не надо, не дари, – беспечно сказал Олешек. – Лучше пойдем скорей. Видишь, чай и саламат готовы.
Праздник уже начался. Хачимас каждого одарил мясом, Он вынул печень, багровую, как раскаленный нож; вынул розовые легкие и разделил их на части по числу соседей, а голень, наполненную мозгом, подал Небываеву, Тот повертел в руках сырую кость, не зная, что с ней делать.
– Ешь, – сказал Хачимас, – сладок мозг в голени оленя.
– Нет, браток, – ответил Небываев, – сырого не едим, – и отдал кость Никичен.
Она разрубила ее топором и долго сосала мозг, и сердце ее понемногу отходило. Но все же недружелюбно, с обидой смотрела она узкими глазами на русских, на этих красных, не расстающихся со своими ружьями даже тогда, когда берутся за ножи, чтобы есть мясо ее севокина.
Пока варилась оленина, тунгусы пили кирпичный чай. Они крошили его охотничьими топорами, а крошки, прилипавшие к ладоням, как маковые зерна, бросали в рот.
Пили много, чтобы к еде приступить с полным желудком. И когда уже казалось – больше пить невозможно, взялись за оленину. Зубам помогали ножами. Как смычки, ходили лезвия у самых губ. Ели не жадно, с серьезными лицами, выражавшими бесконечное уважение к мясу. Но съели все: и саламат, и порсу, и корюшку. Потом перешли в другую урасу. И там съели все, и перешли в третью…
Небываев приказал открыть ящик с галетами. Но этого оказалось мало для множества гостей.
Хруст сухарей был громче треска горящих сучьев.
Сытость пьянила. Олешек и двое молодых тунгусов вышли на берег, на песок, белевший под луной, стали в круг, взялись за руки и крикнули:
– Яхор[37]37
Восклицания, не имеющие определенного смысла, употребляемые тунгусами при пляске.
[Закрыть]!
– Яхор! – повторили тунгусы у костров и один за другим оставляли еду и входили в круг танцующих.
– Ходерга[38]38
Восклицания, не имеющие определенного смысла, употребляемые тунгусами при пляске.
[Закрыть]! – крикнул Олешек громким голосом.
– Ходерга! – повторили все, взяв низкую ноту, и медленно закружились справа налево, опуская и поднимая сомкнутые руки.
Иные накрест закладывали ногу за ногу, иные двигались по кругу плавно. Но движения всех были одинаково сильны и стройны.
Вступили в круг женщины. Они не кричали. Вошла Никичен, стала между Олешеком и Прокофием – сыном богатого Осипа – и взяла обоих за руки. Она все еще была печальна и, когда другие кричали: «Яхор, хорошо! Ходерга, хорошо! К нам пришли гости, богатые справедливостью!», она тихо повторяла:
– Плохо…
Танцевали за полночь.
Песок скрипел под мягкими олочами. На отмели шипело море. Луна, почти круглая, стояла над берегом и светила так сильно, что виден был бисер на расшитых олочах девушек. Кружились все сильней.
Далеко лаяла лисица.
Партизаны спали. Небываев сидел у палатки, слушал. И казалось ему: то кричит у опушки, над морем, огромная птица.
5. Удачная сделка Герберта ГучинсонаНастал полдень, тяжелый для Небываева. Тунгусы обступили палатку партизан. Она осветила белизной полотна их темные лица, впалые щеки под широкими скулами, голодные взгляды. Вчерашняя сытость прошла.
– Сход кончился вчера, – сказал Небываев. – Зачем вы пришли сегодня?
– Мы пришли за нашими ртами, – ответили старики. – Они привели нас с гор к морю ловить унжу, майму и корюшку. Но снегу много, реки быстры, и рыбы мало в этом году. Плох урожай на белку и зверя. Мы едим нерпичьи шкуры, крошим старые трубки и набиваем ими новые, чтобы вспомнить запах табака. Мы принесли тебе меха на суглан.
Они сели на землю, вынули из мешков связки белок, рысьи и барсучьи шкуры и положили их себе на колени.
– Вот наши товары. Где же твои?
– Я пришел сюда не торговать, а воевать.
– С кем? С нами? – спросил хитрый Осип. – Если ты против купцов, то среди нас их только один. Ты посадил его в дом и запер. Если ты против богатых, то где же ты видишь их? Не повторил ли Хачимас твоя слова – мы богаты только долгами? Посмотри!
И Небываев посмотрел на нищее стойбище тунгусов, на палатки и шалаши, крытые кожаной ветошью, латанные берестой, на праздничную одежду охотников, – даже у самых богатых она выглядела убогой.
– Мы сами бедны и идем воевать с нашей бедностью, – сказал Небываев и перевел свой взгляд на тихий берег, на камни, на море, отливавшее сизым, как шея горлинки. И вдруг, протянув руку, крикнул: – Японцы!
За полосой мели стоял пароход и дымил. Флага не было видно на его мачте.
– В ружье! – сказал тихо командир Десюков.
Пароход был скорее похож на торговую шхуну, но партизаны знали, что японцы любят десанты. И на простой шхуне можно привезти солдат.
Партизаны разворачивали вьюки с патронами. Кореец Ким задыхался от радости: наконец-то он будет драться!
Тунгусы бежали к берегу.
Небываев кинулся им наперерез. Толпа вернулась с покорностью и удивлением. Берег как был, так и остался пустым. Деревья, откос реки и постройки Чумукана скрывали стойбище.
– Вот наши враги и ваши враги, – сказал Небываев. – Нас мало. Кто хочет винтовки, охотники? Подходи, разбирай патроны.
– О-ох, – протяжно вздохнул Осип. – Мы не знаем, как их держать в руках. Мне не знаем, что такое война. У нас нет врагов.
– Осип врет! – крикнул Олешек. – Мы знаем, как стрелять в зверя, если он бежит на нас. Дай мне винтовку!
– Дай и мне, – сказал Хачимас. – Я попадал на сто шагов в картуз, повешенный на пихту.
Подошли еще пять тунгусов, чтобы примерить патроны к своим ружьям.
Цепь легла под откосом. Часть спряталась за складом Грибакина, стоявшим на самом берегу. С парохода спустили моторную шлюпку. Дергаясь на волне, стреляя дымком, она пошла к берегу. Все это было не похоже на японский десант.
Шлюпка замедлила ход, словно испугавшись безлюдья и пустоты берега. Потом повернула вдоль мели и направилась в устье реки. Небываев ждал, пока она подойдет к берегу. Он вышел из-за склада, помахивая наганом.
Десюков взял винтовку наперевес.
Тунгусы и партизаны бежали к шлюпке. Моторист-японец широко открыл рот и крикнул. Он выпустил руль, поднял черную от масла руку и показал на человека, сидевшего на корме.
– Вот хозяин, аната[39]39
По-японски – человек, приятель.
[Закрыть]!
– Выходи, – сказал Небываев.
Человек в фетровой шляпе, с молодым багровым лицом прыгнул на берег.
Небываев увидел в глазах его надменность и скрытый испуг.
– Говоришь по-русски? – спросил Небываев.
– Говорим на всех языках, чтобы покупать и продавать.
Он сдвинул шляпу набок. Этот жест придал ему вид независимый и веселый. Он застегнул пиджак и дотронулся до дула десюковской винтовки.
– Мы пришли торговать, а не воевать. Мое имя: Герберт Гучинсон. Хо! – Он засмеялся. – Красные, белые – нам все равно. Мы продаем и покупаем.
– Та-ак, – протянул Небываев, – а нам не все равно. Пойдем!
– Какой неприятность! – сказал сокрушенно Гучинсон. Он бегло взглянул на японца, все еще сидевшего у руля. Тот подал ему желтый чемоданчик.
Кореец Ким стал у шлюпки на часах.
Нет!
Герберту Гучинсону решительно не везло на этом берегу. Он посмотрел на партизан, окруживших его, на вооруженных тунгусов и пожал плечами, как перед тем загадочным котлом под Тугурской скалой. Потом сдвинул шляпу на затылок и пошел за Небываевым. В стойбище их встретили тунгусы.
– Алло! – сказал он и кивнул старикам головой. Они услышали его сочный, уверенный голос и поклонились, но «капсе» не сказали.
Они знали старого купца Свенсона с Аляски – зеленоглазого шведа, не боявшегося ни тайфуна, ни льдов. Его корабль был похож на орлиное яйцо. Он продавал все, что нужно и не нужно овену: муку, топоры, будильники, сгущенное молоко и шоколад в серебряной бумаге, из которой девушки делали себе бусы.
Они знали капитана Джильберта, привозившего изредка спирт. Но этого, с багровым лицом и светлыми глазами, видели впервые.
Он сел непринужденно на землю рядом с Небываевым и молча открыл чемодан.
– Большевик, – сказал он и оскалился. – Плохо в тайге. Есть виски, есть ром.
– Не пьем в походе, – сурово ответил Небываев.
– Ол-райт, – Гучинсон снял шляпу и помахал себе в лицо. – Очень хорошо!
– О, чо[40]40
Возглас удивления, вроде нашего «ах».
[Закрыть]! – воскликнул Аммосов и щелкнул языком. Он впервые видел человека, который отказывался от водки.
– О, чо! – повторили с удивлением тунгусы.
– Можно предложить им? – Гучинсон глазами показал на тунгусов.
– Не разрешаем.
– Вэри уэлл! Очень хорошо. Я понимай, мы не имеем права торговать водкой. Но сам пить немножко можно. – И Гучинсон поднес ко рту фляжку. Он сделал глоток и продолжал оживленно: – Большевик… хорошо… Мы, американцы, за большевик, против японцев.
Небываев нахмурился.
– Много говоришь, американец. Зачем вы приехали сюда?
Но Гучинсон, глядя поверх голов пустыми светлыми глазами, говорил все так же оживленно:
– Мы имели телеграмму из Нома, что тунгус нечего кушать. Рыбы нет, и тунгусы умирают. Наша компания – честная компания. Мы спросили ваше правительство, мы спросили наше правительство. Нам сказали: ваши товары, ваш риск. Очень хорошо. Мы купили товары в Сан-Франциско. Нельзя, чтобы тунгусы умирали. Наша компания – честная компания: Джильберт и Гучинсон. У нас есть все. Все! – крикнул вдруг Гучинсон.
Глаза его заблестели. Он вынул из чемодана толстую книгу, переплетенную в кожу, и раскрыл ее бережно, как библию, и начал листать. Она не шелестела листами. Но каждая страница звучала сказкой для жадных глаз. Розово и нежно горел кретон, черными глазами оленей смотрел на охотников бархат и плис, прочный, как шкуры. Скромно промелькнул ситец. Сурово прошуршали холст, парусина и дрель, такая необходимая для палаток.
Тунгусы пододвинулись ближе. Никичен протянула руку, чтобы пощупать хоть одну из этих чудесных страниц.
Но Гучинсон уже захлопнул книгу образцов.
– У нас есть все! – повторил он снова и поднялся с земли.
Он рвал бумажные конверты и высыпал в горсть муку, которую ветер сдувал на лацканы его пиджака.
Тут был размол и крупчатка, белая, как ладонь Гучинсона, и ржаная мука, кажущаяся такой сытной.
Тунгусы слюнявили грязные пальцы, касались чистой ладони купца и пробовали муку на язык.
А Гучинсон все ждал с протянутой рукой, пока ветер не сдул последнюю пылинку. Тогда он вынул несколько дешевых английских трубок и постучал ими, как ложками, сам закурил собственную трубочку, и в воздухе вдруг запахло медом. Затем распахнул пиджак, и на груди его тунгусы увидели пять пар часов… Они висели как медали, солнце сияло на никелированных крышах. Потом, увидев близко от себя горящие глаза Никичен, он достал из кармана кусок сахару и, держа двумя пальцами, как держат над мордой бульдога, подкинул вверх.
Сахар упал к ногам Никичен. Она не нагнулась, чтобы поднять его. Она привыкла поднимать с земли только бруснику и шишки, которые падают с высокого кедра, и продолжала смотреть на купца, увешанного часами. Он казался ей красивей и лучше этих «красных» с винтовками.
Небываев наступил сапогом на сахар, вдавил его в землю и взял купца за рукав.
От этого прикосновения Гучинсон пришел в себя. Возбуждение его мгновенно улеглось. Он повернул голову к Небываеву, вынул трубку изо рта и издал сердитый звук: «Уот!» Лицо его исказилось презрением. Он стряхнул руку Небываева и снова сел на землю.
– Срезать бы его из берданы, – сказал Десюков.
– Уот! – повторил презрительно Гучинсон, ничего не понимая.
Комиссар помотал головой и задумался. Положение не казалось ему таким простым, как Десюкову.
Это был враг, но не тот, ради которого они шли сюда сквозь тайгу.
Кругом стояли тунгусы, тихие, нищие и смелые охотники. Где возьмет он для них табаку, пороху и муки, которой они так жадно ждали? А близко за пенистой полосой мели у горизонта, у синей ленты, расстилавшейся над водой, дымила шхуна, полная товаров. И Небываев сказал Гучинсону:
– Торгуй!
Тунгусы исчезли в шалашах и появились снова. Они сложили у ног Гучинсона чернобурых лис без мордочек и рыжих, связанных за хвосты, и белок зимнего урожая, как пушистый букет, перехваченных сухой травой, и соболей, завернутых в черное сукно – от солнца.
Гучинсон улыбался. На багровом лице его блестели зубы.
Он никогда не сомневался, что хороший купец всегда выйдет из положения. Но все же дело представлялось ему незавидным: тунгусы были трезвы, рядом на земле и на вьюках сидели «болшевики» и нельзя было торговать спиртом.
Тогда Гучинсон назвал свои цены. За кулек ржаной муки он просил соболя, за кулек пшеничной – двух. А белок ценил на вес, требуя столько, сколько весит банка пороху или кирпич чаю. Он брал только беличьи спинки, и лис-огневок, и лис-крестовок, и шкурки выдр цвета кедровых орехов. Он мотал головой, когда ему приносили шкуры медведей и волков.
И Никичен, глядя в его светлые глаза, думала, не боится ли он Н'галенги так же, как она. А старик Аммосов, глядя в его глаза, светлые, как капли дельфиньего жира, думал, не вернулся ли к ним на своей крылатой лодке Бородатый Волк. И богатый Осип, имевший соболей и куниц, отступил перед его алчностью.
Тогда комиссар Небываев вынул наган и сказал Гучинсону:
– Пошел вон!
– Очень хорошо. – Гучинсон ногой отпихнул меха, захрипел трубкой и пошел к берегу, никем не провожаемый.
Только одна Никичен шла за ним, глядя на его широкую спину и ноги, обутые в желтую обувь, блестящую, как медь. Ей было жалко, что он так неудачно покидает их берег. И, когда он готовился сесть в шлюпку, она тронула его за руку и сказала:
– Торгуй!
Она показала ему каптаргу, вышитую для Олешека. Он взял ее, долго разглядывал и вертел в руках. Его пустые глаза с удивлением смотрели на Никичен.
Каптарга – кисет из оленьей замши – была вышита необыкновенно искусно. На желтой ровдуге синели бисером китайские пальмы, казалось, перья их трепетали от ветра. А под пальмами – бледные цветы тундры: розовые смолевки, белый мак и камнеломки, вырезанные из лоскутков оленьих шкур.
На краю кисета, где лосиный шнурок был продет в дырочки, – выпушка из барсучьего волоса, и на каждой петле пушистый глазок.
Гучинсон глядел холодными глазами на каптаргу и ни о чем не спрашивал.
И Никичен не сказала о старом каламане бабушки Лючиткен, с которого вышивала узоры, а только повторила:
– Торгуй!
Гучинсон небрежно сунул кисет в карман, вынул бумажник и подал Никичен бумажку: двадцать пять рублей.
О, эти царские кредитки, которые он не знал, куда девать!
Он прыгнул в шлюпку, довольный, что хоть одну удачную сделку совершил на этом берегу.
Японец завел мотор.
Никичен убежала.
Она показала деньги только Олешеку, чтобы подразнить его и сказать, что каптарга его продана. Он не обиделся, не рассердился, так как любил Никичен больше ее каптарги. Бумажка ему понравилась. Он посмотрел ее на свет, как делают это русские.
– Этот купец – глупый купец. Он дает за соболя кулек муки, а за простую каптаргу из ровдуги столько денег, сколько стоят двадцать кульков. Не принимает ли он барсука за выдру?
– Разве за эту бумажку дадут нам столько муки? – спросила удивленная Никичен.
– Я видел, как три года назад Грибакин покупал на эти деньги муку.
Никичен спрятала бумажку на груди и вздохнула:
– Глупый купец! Он не знает, какого зверя трудней ловить.
6. Урок антропологии и мореплавания– Не полагаешь ли ты, что дядя Джильберт может стоять на якорях, сколько тебе вздумается?
– Я уверен, что тунгусы приедут. Люди не могут голодать только потому, что там, на берегу, большевики.
– Я плачу матросам жалование, Герберт!
– Я плачу капитану за фрахт!
Гучинсон говорил сухо, не глядя на капитана Джильберта. Они стояли на баке. Тень от фок-мачты лежала между ними. А за правым бортом – все тот же берег, все та же сопка Суордон, опоясанная утренним туманом! Джильберт, сняв фуражку, жавшую ему голову, задумчиво смотрел на клюз: в овальную дыру, окованную чугунной муфтой, уходила якорная цепь. Море снизу светило в дыру голубым светом.
Гучинсон, чуть раскачиваясь, угрюмо смотрел на желтые носы своих начищенных ботинок. Они блестели, как латунь, на плитах железной палубы.
И Джильберт подумал:
«Как все аккуратно и расчетливо у этого молодого Герберта! О, он может постоять за свой цент! Он постоит!» – с горечью повторил про себя Джильберт, сам не замечая своего каламбура.
«Эльдорадо» действительно стоял за той же мелью против Чумукана, вот уже целые сутки ожидая тунгусов.
Джильберту это казалось бесцельным. Он со вздохом подставил открытое темя ветру, дувшему с кормы. На старчески-розовом лбу его белела глубокая полоска – след капитанской фуражки. Она окружала седую, по-солдатски остриженную голову, как венец.
По совести говоря, Джильберт никаких других «венцов» не имел. «Эльдорадо» был заложен, перезаложен, и проценты по закладным платил Гучинсон. Джильберт был в плену у Герберта. Дела шли скверно.
И сейчас, мельком оглядывая свою шхуну, он видел ржавчину на бортах, сор на палубе и верил в старую примету, что грязь на корабле – первый предвестник неудачи.
Не нравился ему этот мелкий берег, угрюмая тишина и аспидное облако, высоко переплывавшее небо. Барометр предвещал ветер.
– Хоть мне и платят за фрахт, – сказал твердо Джильберт, – но все же я решил сняться.
Грузно топая по палубе, он ушел на мостик, чтобы отдать приказание.
Гучинсон понял, что будет плохая погода. На этот раз приходилось согласиться с Джильбертом и поднять якорь раньше времени.
Гучинсон один постоял еще немного у сложенных канатов и тоже ушел на корму к капитанской рубке, чтобы не слышать запаха, распространявшегося от матросов-китайцев, возившихся с якорной лебедкой. Даже от могориста-японца Бунджи невыносимо пахло бобовым маслом.
И на корме было не лучше. Первый помощник, мистер Вичард, стоя у рубки, курил свою вонючую сигару, а механик Клинтон, молодой и костлявый, вечно сосал японские ириски. Так же было скучно смотреть на берег, и, чтобы не видеть его, Гучинсон перешел на левый борт.
Свинцовая вода выпукло поднималась к небу. Отлив кончился, а прилив не начинался. И море, как человек, еще не проснувшийся, но уже готовый встать, ворочаюсь, набирая свежесть.
От длинной косы, загибающей устье реки, отчалила тунгусская оморочка. Она шла тяжело, словно груженная камнем. Весло опускалось медленно, виднелась только голова гребца – так был он мал ростом и так глубоко сидел на дне оморочки. Джильберт с мостика первый заметил лодку.
– Герберт! – крикнул он вниз. – Посмотри, не едут ли твои тунгусы с мехами. Мы ждали их долго. Не подождем ли еще немного?
Но Герберт промолчал: не дал себе труда обойти капитанскую рубку и даже обернуться. Он считал, что тот, кому нужен Гучинсон, подъедет к тому борту, у которого он стоит. Но теперь за соболя он даст только полкулька муки.
И Герберт продолжал смотреть в открытое море светлыми глазами. Послышались стук весла, чей-то гортанный голос и голос японца Бунджи.
Оморочка обогнула нос «Эльдорадо» и подошла к левому борту. Начиналось волнение. Волны не катились издали, а будто поднимались снизу, из-под долбленого днища оморочки, и подносили ее ближе к глазам Гучинсона. Он не увидел ни связок с пушниной, ни охотников, ни партизан. Одна только девочка, не смея встать, качалась в ней, упираясь веслом в борт. Она смотрела вверх, на него, и махала бумажкой.
– Что ей нужно? – спросил Гучинсон по-английски, ни к кому не обращаясь.
Японец Бунджи, работавший когда-то на консервном заводе на Лангри и долго рыбачивший под Охотском, обратился к ней по-тунгусски:
– Зачем ты приехала?
– Я пришла сказать ему, что каптарга моя из оленьей ровдуги и выпушка из барсучьего волоса. Не думает ли он, что это соболь, и знает ли он, какого зверя трудней ловить? Он заплатил мне слишком много.
Бунджи перевел ее слова.
Гучинсон долго смотрел на Никичен с той же холодной рассеянностью, с какой только что глядел на море. Потом вернулся и перешел на правый борт, где была его каюта.
Ветер шел с возрастающей силой, опережая прилив. На косе, как дым, поднялся песок, Горизонт закипал. Волна приняла цвет пивной бутылки. И только у самого борта она, вдруг поднимаясь, выгибала голубоватый хребет. Стучала лебедка, выбирая якорь. А Никичен, боявшаяся моря, качалась в оморочке. Как волос из шерсти оленя, вырвало из ее рук весло. Дважды ударилась оморочка о борт «Эльдорадо» и дважды вскрикнул от страха Бунджи, но сама Никичен не кричала, только потемнела, слушая голос прилива. Третий раз ударило оморочку о борт, откинуло, снова прижало, и Никичен упала на дно лодки.
Бунджи обвязал себя канатом и перелез через борт. Он никого не спрашивал: ни капитана Джильберта, ни Гучинсона. Лицо его цвета лосиной замши было спокойно, но глаза смотрели сердито на волны, на скачущую у борта оморочку. Китайцы понимали его сердитый взгляд. Они молча травили конец.
– Хо[41]41
По-китайски – хорошо.
[Закрыть]! – крикнул снизу Бунджи.
Вскоре, мокрый и такой же сердитый, он показался над бортом, крепко держа Никичен.
– Что вы там, дьяволы, возитесь? – заорал с мостика Джильберт. – Уж не думаешь ли ты, шельма, Бунджи, что я из-за крысы пошлю шлюпку на берег, когда якорь поднят, а ветер – пять баллов, и под боком мель. Шкуры сдеру, гальюнщики! – И он затопал ногами.
Но гнев его тотчас же прошел, как только «Эльдорадо», развернувшись на крепкой волне и распуская по ветру мгновенно разлетавшийся дым, пошел полным ходом.
Джильберт перегнулся через мостик, посмотрел вниз на грязную палубу, где сидела девочка, и подумал с легким сокрушением: «Еще две банки консервов из судовых запасов». Но так как был по природе добрым человеком, то прибавил еще от себя: «И пинта сгущенного молока».
Море шло на берег, ветер шел на берег, только одна Никичен уходила от него. Она плакала. В тайге ветер будет качать кедры. Белки оставят дупла и спрячутся под лежащие стволы. Комары присосутся к траве. Будет в тайге хорошо, а Никичен там не будет. Она сняла олочи, вынула из них мокрое сено и бросила за борт. Ей не нужны подстилки для ног: где она будет ходить по этой железной земле, зыбкой, как марь? Ее тошнило. Она тихо скулила, прижавшись к стенке каюты Гучинсона.
– Кто там плачет, черт возьми?
Гучинсон поднялся из-за столика, привинченного к полу.
Несмотря на качку, он присел было, чтобы снова приняться за дневник. Он успел уже занести в него много интересных мыслей о тунгусах и полезных сведений, вычитанных из энциклопедии. Гучинсон поставил точку как раз в том месте, где говорилось, что «тунгусское племя – особая разновидность расы монголоидов, вышедшей из Северной Маньчжурии, причем оно было известно еще в незапамятные времена «Бамбуковой летописи», за 2225 лет до рождества Христова под именем су-шеней», и подошел к двери. Он нажал на медную ручку. Дверь была точно приколочена.
– Кто там держит, черт возьми?
Гучинсон надавил плечом. Дверь туго подалась. В дверь вошел густой, как масло, ветер. Он перелистал дневник Гучинсона, смахнул его со стола. Потом дверь внезапно распахнулась. Гучинсон вылетел на палубу. Тотчас же сзади него раздался выстрел. Это вновь захлопнулась дверь.
– Дьявол! – крикнул Гучинсон, но крик вошел ему в глотку.
Матросы торопливо пробегали мимо. Капитан Джильберт был уже в резиновых сапогах и плаще. Он забыл о консервах, о долгах Гучинсону и помнил только о шторме, которым грозило небо, о мысах, которыми грозили берега. Щеки его побагровели. Угрюмый и бдительный, грузно возвышался он над мостиком, глядя прямо в лицо ветру. Прилив шел со скоростью пяти узлов.
Гучинсон посмотрел на лаг. Железное колесико, точно пряха, сучило из волн длинную бечеву. Лаг вертелся достаточно быстро. Еще можно быть спокойным и думать о своих делах. Гучинсон взглянул на Никичен. Ветер прижимал ее к переборке, как мокрый лист. Гучинсон усмехнулся и свистнул, показав ей на невидимый за валами берег.
Никичен печально покачала головой.
– Мой отец Хачимас и мой друг Олешек остались там. Что подумают они? Я взяла оморочку Аммосова, не спросив его. И Н'галенга наказал меня. Но я думала, что ты дал мне слишком много – двадцать кульков муки за одну каптаргу.
Никичен встала, ухватившись за переборку, и протянула Гучинсону смятую бумажку. Она все еще держала ее в кулаке. Гучинсон узнал свою кредитку. Над его белесыми бровями появились красные пятна. Он положил кредитку на свою раскрытую ладонь.
Ветер сдул ее за борт, как пепел. Никичен вскрикнула. Двадцать кульков муки унес ветер в море.
«Что делает этот безумный купец?»
Она начинала его презирать. Весь бэтюнский род был бы сыт целое лето. Никичен молча отвернулась.
Железная глыба «Эльдорадо» с трубой, с мостиком, с мачтами вдруг высоко поднялась и, дрожа, опустилась. Вровень с бортом блеснула пена, показалась круглая масса воды, пронизанная пузырьками. Гучинсон пошел по накренившейся палубе. Но, раздумав, вернулся и показал Никичен на дверь своей каюты. Она вошла и села на пол, как садилась в своей урасе на камалан. До полудня сильно трепало. На палубе задраили все люки.
Гучинсон не выходил из каюты. О силе волн он судил по своей пепельнице. Тяжелая, литая из бронзы, она ходила по столу с края на край. В подставке, слишком широкой, треснул стакан. Лакированные туфли Гучинсона выскочили из-под койки. Свинцовые брызги били в переборку. Никичен поминутно склоняла голову к полу. Волнение вскоре улеглось. Стало тихо, холодно, словно спустились в глубокий погреб. Гучинсон сразу продрог и, недоумевая, выглянул из каюты. Вся команда была наверху.
– Что случилось, Бунджи? – спросил он пробегавшего японца.
– Шляются льды, сэр.
Гучинсон поднялся на мостик.
– В чем дело, дядя?
Капитан Джильберт что-то сердито буркнул и крикнул в машинный телефон:
– Тихий ход!
На горизонте Гучинсон увидел белую полоску, расстилавшуюся над самой водой. Она тянулась с севера на восток. Даль была цвета зимних сумерек.
– Не море, а преисподняя, – сказал Джильберт. Глаза его с беспокойством глядели вперед.
Опережая льды, надвигался туман. Он тек, а не падал. «Эльдорадо» вошел в него, как в нечто осязаемое. И сразу у Джильберта на капюшоне плаща появились капли, лицо стало мокрым, точно от слез.
– Еще этого не хватало! – сказал он.
Равнодушие делало Гучинсона смелым. Он спросил только, задержит ли это их. Раз снялись с якоря, то следовало бы скорей попасть в Аян. С мукою и дрелью в море, среди тумана, ему нечего делать. Он снова спустился в свою каюту и решил не выходить.
Медленно длилось время. Выла сирена. В каюте зажгли огонь. Изредка прекращалось обычное дрожание переборок. Это Джильберт кричал в машинный рупор: «Стоп!» Тогда слышалось трение льдин – странный звук, похожий на шуршание тростника.
Матрос принес из камбуза обед – бутылку вина и ростбиф. Он убирал по утрам каюту Гучинсона и потому позволил себе сказать с развязностью:
– Мы вертимся, сэр, как горох на сковородке. Но сковородка чертовски холодная. – Он был обмотан шарфом.
У Гучинсона посинели губы. Он выпил вина, надел пальто, такое же просторное, как его пиджак, и сразу почувствовал себя лучше. Дневник снова лежал на его столе. Гучинсон открыл лоцию и прочел:
«Охотское море для Тихого океана является как бы полярным бассейном. У Шантарских островов плавание опасно. Часто густые туманы. Даже в августе можно встретить льды, для которых Шантары служат естественной преградой. Китобои, посещавшие море, отмечают у островов сильное круговое движение вод против часовой стрелки».
Гучинсон захлопнул лоцию. Все это не столь важно. Он не собирался больше плавать у этих гиблых берегов. Но мысль, пришедшая в голову, показалась ему любопытной. Он записал:
«Если перегородить Татарский пролив, устроив дамбу, то льды обогнут Сахалин с севера и пойдут вдоль Курильских островов в океан. Все Японское море станет тропическим. Во Владивостоке, кроме сучанского угля, будут еще свои бананы. Проект недорогой. Если не сделаем мы, американцы, то сделают японцы. Стоит затратить капитал, чтобы запереть большевиков в их собственном погребе».
Затем Гучинсон продолжал свои заметки о тунгусах.
«Велькер и Майнов считают их умеренными брахицефалами[42]42
Люди с круглой короткой формой головы.
[Закрыть], – писал он энергичным, красивым почерком. – Строение головы и лица хотя в смягченном виде, но решительно монгольское».
Он бросил перо. Холод мучил его. Руки закоченели, Но, чтобы проверить Велькера и Майкова, он посмотрел на Никичен. Глаза у нее были карие, умные и глядели на него прямо. Ноздри резко чернели на румяном смуглом лице. А монгольская складка на веках придавала ему выражение спокойствия и доверчивости. Медленным движением она перекинула косу через плечо. Волосы чуть вились на конце. Лосиный шнурок со стеклянными пуговками упал на ее грудь. Никичен так и не сняла его после праздника. Сидя на полу, в сырых олочах, в одной рубахе из китайской дабы, она, казалось, не чувствовала холода. Ей было теперь хорошо. Не тошнило. В подставке не прыгал стакан. Страшные туфли уползли обратно под койку. Только бы кусочек юколы и туесок воды…
Гучинсон медленно перевел свой взгляд с Никичен на бумагу.
– Ничего похожего на то, что говорит Велькер, – проворчал он недовольно и взялся за ростбиф. – Он ел его всегда холодным.
Никичен, услышав запах мяса, опустила глаза на свои поджатые колени.
Гучинсон не забыл о ней. Он вспомнил стойбище, сахар, которого ни один тунгус не поднял с земли, и перегнувшись через тарелку, громко жуя и глотая, нацарапал на своем дневнике: «Они имеют гордость…»








