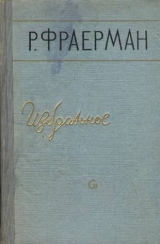
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
Подарок
Если тебе только тринадцать лет, дорогой читатель, и ты учишься уже в ремесленном училище и даже совсем недавно выбран старостой первой группы «Е», то жизнь доставляет тебе немало всяких радостей.
Например, радостно было теперь Пете Саламатову рано утром вбежать прямо с Садовой на школьный двор, стесненный новыми домами, и увидеть знакомый подъезд в глубине под тяжелой аркой, и убедиться в том, что старые стены училища по-прежнему стоят на месте и что их никто не унес от него, пока он ночью спал в общежитии на Стромынке.
Радостно было теперь, после утренней линейки, впереди всей группы войти в цех и, услышав хриплый от курения, но всегда ободряющий голос мастера Дмитрия Тимофеевича, не медля и не торопясь, как настоящий рабочий, подойти к своему месту, вправить деталь в станок, вовремя включить его, и увидеть вдруг могучее вращение колеса, и услышать покорный звук металла под неумолимым резцом, и углубиться в этот звук, как в песню, и знать, что ты не разрушаешь мир, а создаешь его, что с каждым днем, как колос, зреет твое мастерство, а за стенами училища огромная страна, что зовется твоею Советской родиной, ждет уже тебя с нетерпением, как мать, и любит твои детские, еще не обученные руки.
Это было очень приятно для Пети, так как иной матери, что ждала бы его к себе, у него не было ни в родном селе Боровом, откуда он пришел в училище, ни в другом далеком месте.
Приятно было Пете и сейчас, в этот зимний белый вечер, не бегом, а шагом идти по Садовой улице и думать о том, что никому другому в мире, как только ему одному, вся группа в тридцать мальчиков поручила купить подарок подшефному катеру «Ремесленник».
Катер этот, конечно, не простой, на котором ездят в воскресенье по Московскому морю ловить щук в канале. Катер этот носит на себе три грозные торпеды и плавает далеко, по Черному морю, которого Петя никогда не видел. Но разве важно это, если он видит его в своем воображении? Он видит отлично живых, красиво оперенных птиц над голубой водой и две высокие волны, поднятые стремительной силой мотора. Это они скрывают стальные борта, и нос, и палубу катера от взоров вражеских кораблей, дымящих за пределами горизонта. Но зоркоглазый, маленького роста капитан, очень похожий на Петю, стоит впереди на носу, весь мокрый от брызг, и неотступно смотрит на запад, где синей чертой, словно лентой на карте, отмечены нерушимые границы советских вод и суши.
А вражеские дымы все ближе.
Петя зорко следит за ними и вдруг издает долгий, нарастающий свист, похожий на вой, на пение летящего снаряда, – звук, уже давно знакомый ему, и громко восклицает:
– Есть! Цель накрыта! Сказано – ближе не подходить!
Но тут Петя вспоминает, что он уже не маленький, чтобы разговаривать самому с собой вслух. Он отмахивается от собственного воображения, как от налетевшей осы, и быстро шагает дальше по Садовой улице.
Ах, Садовая, Садовая! Может быть, вот этой старушке, что идет навстречу Пете, она кажется обыкновенной улицей, которую в часы «пик» бывает опасно перейти. Но для Пети лучшей улицы в мире нет и нет места прекраснее ее на свете.
Когда идет дождь, она черна и блестит, как река под звездами. По простору ее, залитому асфальтом, точно смерчи, проносятся автомобильные бури. Столбы белого света стремительно бегут мимо глаз, то внезапно дробясь и сокращаясь в лужах, то вытягиваясь до самого дальнего перекрестка.
Когда тепло и сухо, она манит в даль, чуть прикрытую копотью, что висит над невидимыми заводами.
Когда ночь, огни ее, затмевая звезды и луну, озаряют небо снизу.
Хороша она и под снежком, вечером, когда огромные дома проплывают мимо Пети, как освещенные эскадры кораблей. И шум, бессонный шум величайшей столицы, ударяясь в стены и окна, проникает в самое сердце Пети и остается там навсегда.
Когда он станет мастером, он будет жить на Садовой.
А пока он только шагает по ней, не вынимая руки из кармана, где лежат общественные деньги. Кулак его так крепко сжимает их, что не только ладонь, но даже кисть руки, несмотря на мороз, слегка влажна от пота.
Есть от чего вспотеть. В руке зажата немалая сумма – сорок пять рублей шестьдесят копеек – совершенно новенькими деньгами.
Собрать их в первой группе «Е» было не так легко, как, например, в другой группе – «А», где есть бережливые девочки.
Ведь это не просто рубли и копейки… Это укрощенные страсти, это не съеденное мальчиком яблоко, не выпитое ситро; наконец, это шефская гордость, сознание долга и порывы любви к своему советскому флоту.
Даже Костя Трещук, с которым Петя упорно враждовал из-за его двоек по спецтехнологии, был на этот раз необыкновенно щедр. Он дал целых три рубля – ровно столько, сколько стоит билет на новую картину, которой он еще ни разу не видел.
Петя вполне оценил его подвиг.
– В конце концов, – сказал он ему при всех, – и из тебя может выйти человек, если ты этого захочешь.
И комсорг Слава – лучший друг Пети – поддержал его, сказав, что это правда.
Сам же Петя дал на подарок больше других, может быть, потому, что, как казалось ему в ту минуту, у него было слишком мало. Он отдал все, не оставив себе ни гроша, – три рубля шестьдесят копеек.
И теперь – этого не следует скрывать ни от кого – маленький бес, приставший к нему с самого угла, где стоит продавщица с пирожками, мучает Петю потихоньку.
Много соблазнов встречается ему на Садовой.
У самого метро за поворотом стоят продавцы в фартуках и на железных весах отвешивают покупателям яблоки. Молодые девушки в белых халатах, одетых прямо поверх шуб, продают в бумажках мороженое, и над их нарядными ящиками от сухого льда, как от горячего чая, поднимается легкий парок.
Но Петя смеется над бесом и отгоняет его, словно это не старый-престарый бес человеческой слабости, а новорожденный щенок, издающий лишь слабый писк.
Петя смеется над бесом и входит в магазин, где можно купить все для подшефного катера «Ремесленник».
Он поправляет на голове фуражку с молоточками, одергивает на себе шинель, чтобы выглядеть взрослым покупателем. Лицо его приобретает выражение заботы.
Но, собственно говоря, он давным-давно обдумал уже все, что купит подшефным морякам.
Прежде всего они любят бриться. Об этом он догадался не сам. Ему не пришло бы это в голову, если бы случайно в коридоре училища он не подслушал разговора девочек из первой группы «А». Хитрые – они знают все на свете. Они купят морякам одеколон.
И в первую очередь Петя подходит к прилавку, где продают духи. Он хочет попросить одеколона, отличного одеколона для бритья, но все же почему-то медлит.
Как ни мал Петя, все же он знает, что веселая продавщица с накрашенными губами сначала посмеется над ним, ибо каждый может легко посмеяться над мальчиком, который покупает одеколон для бритья.
Но это не удерживает Петю. Его останавливает другое чувство – необъяснимое, невольное, откуда-то из глубины души поднимающееся чувство презрения ко всему, что делают на свете девочки, прежде всего девочки первой группы «А».
И, приподнявшись на цыпочках, чтобы видеть прилавок и лучше убедиться в том, что это чувство не обманывает его, он погружает свои глаза в этот странный мир облитого светом стекла.
Нет, чувство не обманывает его. Зеленоватая жидкость, освещенная изнутри лампочкой, кажется ему ядовитым снадобьем, сваренным таинственной колдуньей.
Хрустальные флаконы напоминают ему хищных стрекоз, что глядят на него своими выпуклыми, гранеными, как у всех насекомых, глазами. Одни стоят прямо на своих узких донышках, другие лежат на боку, покоясь в шелку и бархате.
Нет, не это нужно капитану, что стоит на носу корабля и, хмурясь, смотрит на вражеские дымы. Девочки ничего не понимают в жизни!
И Петя отходит от прилавка, крепко сжимая общественные деньги в своем маленьком, но уже потемневшем от труда и железной пыли кулаке.
Затем Петя проходит мимо другого прилавка, где выставлены коробки с табаком и красивые трубки, покрытые резьбой и гладкие, выточенные из корня вереска.
О том, что моряки любят покурить после тяжелой вахты, Петя знает и сам. Да и Костя Трещук сказал ему на прощанье, что если Петя не купит для моряков папирос, то он оторвет ему голову вместе с форменной фуражкой.
И он это может сделать, в конце концов. Но пусть! Пусть!
«А все-таки я его заставлю заниматься спецтехнологией», – с гордостью думает Петя и шагает дальше минуя и этот соблазн.
Учиться!
Теперь-то он знает хорошо, на что он истратит деньги.
Он выходит на улицу и уверенно входит в другой магазин, над которым висит вывеска: «Военно-учебные пособия».
И здесь, пусть не в такой роскоши и красоте, находит он тот мир, который кажется ему нужнее всего для маленького капитана подшефного катера.
Со спокойной душой отдает он за книги всю сумму без остатка. И затем, счастливый и очень довольный бежит по Садовой улице обратно, в тот двор, где ждут его цех, и комсорг Слава, и Костя Трещук, и труд, и жизнь – это всеобщее училище, где курсы не имеют сроков.
1948
Путешественники вышли из города…
Памяти Аркадия Гайдара
Однажды летом мы поехали с Гайдаром на рыбную ловлю в один из глухих районов, расположенных в лесном краю, в стороне от большого города.
Ночь, когда мы выехали из Москвы, была тихая, редкая по своей прелести, сулившая нам такой же тихий, ясный и жаркий день.
Мы решили не спать и провести эту ночь в беседе.
С нами был мальчик.
Я не знал, где познакомился с ним Гайдар и каким образом вовлек его в это путешествие. Но я хорошо знал, что дети привязывались к Гайдару мгновенно, даже на улице, даже с первого разговора, и следовали за ним куда угодно, словно повинуясь какому-то волшебству, которым владел он один.
Однако этот мальчик немного встревожил меня. Это был не совсем обыкновенный мальчик. Он писал стихи, На нем был суконный берет, едва прикрывавший ему голову, а в руках он принес огромный пук удочек, которых хватило бы на целую ватагу тех белоголовых деревенских ребятишек, к которым мы ехали в гости.
Рюкзак его был туго набит. Он с трудом снял его с плеч и бросил прямо на пол.
– Я читал недавно один американский рассказ, как там ловят форель на кузнечика, – сказал он нам. – Они берут с собой не только палатку и керосинку, но еще и два одеяла – одно, чтобы постелить на сырую землю, а другим укрываться. Вот это настоящие путешественники! Ничего не боятся…
«Уж не Монтигомо ли это Ястребиный Коготь?» – подумал я и вопросительно поглядел на Гайдара.
Но Гайдар только хитро усмехнулся и опустил оконное стекло вагона.
– Американец, – сказал он мальчику, – вот посмотри-ка лучше на звезды.
Мы выглянули в окно. За окном было хорошо. Московское небо, озаренное с земли огнями, уже кончилось и над нами и над сонными елями за полотном дороги простиралось другое небо, полное больших звезд, от которых сквозь темный воздух, казалось, плыли тонкие светлые нити до самой травы на косогорах.
Но мальчик не посмотрел даже на звезды и начал вдруг читать свои стихи.
Стихи были плохие, и я думал, что Гайдар тотчас же скажет об этом бедному поэту.
Но Гайдар спросил его только:
– Скажи мне, друг мой, а почему ты решил стать писателем? Любишь литературу, что ли?
Мальчик ответил сразу:
– Да! А потом я думаю, что в жизни легче всего быть писателем.
– Так, так… – подтвердил Гайдар. – Ну что ж, брат, может быть, ты и прав. Хочешь, напишем с тобой рассказ? Делать в дороге все равно нечего.
Мальчик был необыкновенно польщен. Он снял свой берет и придвинулся поближе к Гайдару.
– Пожалуй, можно попробовать, – сказал он. – А как это сделать, Аркадий Петрович?
– Просто, брат, – ответил Гайдар. – Только, чур, уговор: ты начнешь, а я закончу.
– Так будет лучше, – согласился мальчик, – а то я никогда не знаю, как нужно кончить.
– А я как раз никогда не знаю, как начать, – сказал Гайдар.
Я. тихонько рассмеялся, с любопытством ожидая, чем кончится эта игра, которую Гайдар никогда не затевал зря.
– Какой же мы рассказ будем писать? – спросил мальчик.
– Какой хочешь, – ответил Гайдар. – Но лучше что-нибудь с приключениями, вроде Жюль Верна. Мы тоже, брат, едем с тобой в большие леса, на глухие озера, – кто его знает, что с нами может приключиться. Воображение у тебя есть. Вот и начинай. Поставь удочки в угол – их никто не возьмет, надень свой берет на голову и подумай. А то можешь и не думать, сразу начинай. Ты напиши только первую фразу, а я напишу вторую.
Гайдар вынул из своей полевой сумочки, которую всегда носил с собой, синюю тетрадку и карандаш и положил перед мальчиком на столик.
Сначала мальчик был несколько озадачен, увидя перед собой карандаш и бумагу, а потом сделал все, как Гайдар говорил: сел поближе к свету и задумался. Однако думал он недолго и, написав первую фразу, прочел нам ее вслух.
Она гласила:
«Путешественники вышли из города…»
– Вот и отлично! – воскликнул с особенным удовольствием Гайдар. – Первая фраза у нас уже есть, а вторую… а вторую я напишу завтра.
Мальчик был крайне разочарован:
– Завтра, Аркадий Петрович? А я думал – сейчас.
– Нет уж, брат, завтра, как выйдем из города, я напишу вторую. Мы с тобой пойдем обратным ходом. Что напишем, то и сделаем. А теперь ляжем-ка спать.
Гайдар закинул на полку свою холщовую сумку, в которой держал хлеб, чай и сахар, и сам полез наверх, очень легко поднимая на руках свое большое тело. Вскоре он заснул.
Мальчик тоже прилег на скамью, подложив под голову свой берет.
А открытая тетрадка с первой, написанной мальчиком фразой всю ночь пролежала на столике.
В город мы приехали утром.
Солнце уже рассыпало жаркий и острый блеск над булыжной мостовой и асфальтом. Пыль быстро нагревалась.
Мы потихоньку пошли.
Ни Гайдар, ни мальчик не вспоминали больше о рассказе, и мне казалось, что их ночной разговор был забыт обоими.
Надо было шагать. Путь наш лежал через весь город, до берега реки.
Сначала идти было легко. На привокзальной улице росли молодые липки, которые бросали тень на почерневшей от каменного угля песок. Женщины брали воду из колонок, и шум бегущей струи и звук железных ведер в их руках как будто умерили немного все усиливающийся зной.
Однако мальчик уже два раза просил у встречных женщин напиться. Тяжелый рюкзак оттягивал его плечи, удочки мешали движению. Пот начал выступать на его лице.
Мальчик вдруг остановился и сказал Гайдару:
– Аркадий Петрович, разве мы не сядем на автобус? У меня есть деньги.
– У меня тоже есть деньги, – ответил Гайдар. – Но дело, братец, в том, что из города нам надо выйти, а не выехать. Вот если бы ты написал: «Путешественники выехали из города на автобусе», я бы, пожалуй, поехал – оно, верно, лучше, чем пешком.
– А когда же можно будет нам поехать? – спросил мальчик.
– А вот когда мы оглянемся назад и в самом деле сможем написать в тетрадке, что путешественники вышли из города, тогда поедем.
Мальчик потихоньку вздохнул и пошел дальше, свободной рукой вытирая пот с лица.
А город, чем больше мы углублялись в него, тем шире расстилался перед нами.
В полдень мы миновали лишь центр с его магазинами и перекрестками, по которым с мягким резиновым шумом пробегали машины. Солнце плавилось в собственном зное, тени лежали у самых ног, на размягченном от жары асфальте.
Потом открылись перед нами более тихие улицы, где мы увидели высоко над рекой старинный собор, сложенный из красного камня, с тяжелым куполом, с белыми узорными колонками. В его тени мы немного посидели и заодно наточили свои складные ножи у проходившего мимо точильщика.
Потом мы снова пошли дальше. Мальчик поминутно останавливался и, оглядываясь назад, на город, спрашивал у Гайдара:
– А теперь можно написать так?
– Посмотри вокруг, – отвечал ему Гайдар, – вышли ли мы из города.
А город все не кончался.
Уже начались его окраины со щелистыми заборами, с деревянными домами, с палисадами, с зеленой травкой, пробивавшейся меж камней, по которым, подпрыгивая, катились автобусы, перевозившие пассажиров с пристани на вокзал.
На одном из поворотов шоссе, круто загибавшего направо, мальчику показалось, что город уже кончился.
Перед взорами открылись луга, огороды, убегавшие самой реке.
– Вот теперь он уже кончился! – воскликнул мальчик.
Но за поворотом снова показалась улица, где дома теснились еще гуще прежнего.
На глазах у мальчика показались слезы. Он присел на край дороги и сказал:
– Что же мне теперь делать? Я не пойду дальше, я лучше уйду назад на вокзал и вернусь домой.
– Возвращайся, – сказал ему Гайдар. – Но тогда мы не напишем с тобой рассказа и ты не узнаешь, что было в нем дальше.
– Теперь мне это все равно, – ответил мальчик и поднялся на ноги, так как тяжелая голубая машина уже приближалась к нам.
Гайдар не удерживал мальчика и попрощался с ним спокойно:
– Прощай. Ничего, брат, не могу поделать. Надо было тебе сначала выйти из города, а потом уже написать в тетрадке: «Путешественники вышли из города».
Когда мальчик уехал и мы, отдохнув немного на краю дороги, двинулись дальше, я поглядел на лицо Гайдара.
Оно было задумчиво, сурово и печально, и даже как будто жестокость отражалась на нем. Я никогда не видел его таким.
– Зачем ты это сделал, Аркадий? – спросил я его.
Он ответил:
– Зачем, ты спрашиваешь? Он виноват вдвойне. Он не знал того, о чем пишет, и не захотел узнать, что будет дальше. Что, если в самом деле он станет писателем?
Я промолчал, хотя мне было жаль мальчика.
Но я знал, что там, где касалось правды в искусстве, Гайдар ничего и никому не прощал – даже такому мальчику.
1947
Подвиг в майскую ночь
Пусть читатель, которому доведется прочесть этот рассказ о подвиге старшего сержанта Сергея Ивановича Шершавина, не заподозрит автора в каком бы то ни было вымысле. Здесь все правда. Но рассказанные события столь необыкновенны, что автор не решился бы их выдавать за истинные, если бы сам не слышал из уст героя этого рассказа.
I
Немцы стояли на правом берегу Донца. Мы держали оборону на левом.
В это время старшему сержанту Сергею Ивановичу Шершавину было двадцать семь лет и был он командиром взвода саперов.
Однако ничто как будто не предвещало героя в этом трестом рабочем человеке, всегда очень опрятном в одежде, с худощавым смуглым лицом и зоркими, близко поставленными друг к другу глазами. Были они темного цвета, узкие, но с блестящим, внимательным взглядом и смотрели всегда прямо перед собой.
Но больше, пожалуй, чем глаза, обращали на себя внимание руки старшего сержанта.
Широкие и очень твердые в ладонях от вечной солдатской лопаты, но с гибкими пальцами инструментальщика и токаря, привыкшими держать и крупные и мелкие детали, – это были настоящие руки сапера, верные в движениях и ловкие во всяком труде. С удивительным искусством расправлялись они со всякими минами, какие мог только придумать немец.
Однажды было получено донесение, что в расположении части, против небольшого озера Белое, немцы переправились на левый берег Донца и накапливают силы для дальнейшего движения.
Из боевого охранения прибежал боец, весь окровавленный, и доложил командиру:
– Немцы на нашем берегу. Один я спасся. Все остальные побиты.
Это было неожиданно.
Командир приказал саперу Шершавину пойти и проверить участок боевого охранения и провести нашу разведку через минные поля.
Шершавин пришел на место к вечеру. Он осмотрел огневые точки боевого охранения и его пулеметные гнезда. Все они были обращены вперед, на запад, к высокому берегу Донца. Впереди было тихо.
– А что тут у вас налево делается? – спросил сапер у бойцов и показал на низину, уже дымящуюся вечерним туманом, который потихоньку начинал подниматься вверх над небольшими кустами ивы и зарослями терновника. Там тоже было тихо.
– Туда мы не ходили, – сказали бойцы, – там болота.
– Вот и дурни! – ответил сапер. – Так вас и унести можно.
Он не любил плохой работы.
И он пошел налево, через кусты, навстречу все усиливающемуся запаху болотной травы и влаги. Вслед за ним шла разведка.
Уже была ночь. По небу плыли облака, изредка открывая луну. И свет ее был похож на туман, изнутри освещенный слабыми искрами.
Шершавин шел впереди разведки, как ходил он всегда, стараясь первым нащупать минное поле противника. Должно же оно быть где-то тут, близко! И он нашел его. И начал бесшумно трудиться над немецкими минами, испытывая при этом то чувство удовлетворения, какое испытывал он при всякой работе.
Проход был сделан быстро. Шершавин двинулся дальше.
Облако закрыло свет. Мгла стала гуще. И вдруг Шершавин грудью наткнулся на колючую проволоку, раздался окрик немецкого часового. Он был здесь, на этом берегу. И тотчас же поднялась сильная стрельба, Немцы ударили из минометов. Трассирующие пули улетели в туман, висящий над кустами.
Шершавин сполз с тропинки и лег, пережидая огонь.
Затем вся разведка вернулась назад в боевое охранение.
Да, несомненно, немцы были на левом берегу. Где-то близко у противника действовала на Донце тайная переправа.
Ее долго искали и нашли.
Она стояла вверх по течению, где русло пересохшего ручья подходило к Донцу узким и глубоким оврагом. По дну его пролегала дорога. Мост лежал под водой. Даже с реки было трудно его увидеть.
Сначала пытались взорвать мост разными способами: спускали вниз по течению плавучие мины, посылали саперов, но они возвращались раненые или не возвращались совсем и погибали.
А переправа продолжала стоять.
Тогда именно старший сержант Шершавин получил боевое задание: проникнуть в расположение немцев и взорвать переправу во что бы то ни стало.
Он сдал свой партийный билет парторгу и, простившись с товарищами, отправился выполнять приказ.
Еще накануне он хорошо разведал местность и сделал проход в минных полях противника. Теперь он ждал только ночи. Она пришла и встала перед ним над окопами, как стена.
II
Шершавин взял с собой двух бойцов с ручным пулеметом, трех автоматчиков и шестнадцать килограммов тола.
Ночь была без ветра, она предвещала утром густой туман. Это было удобно для дела.
Шли бесшумно среди зарослей серебристой ивы, скрывавших всякое движение, среди молодых березок, среди кустов терновника, на колючках которого собирались капли ночной росы. Роса оставалась на одежде бойцов, на их оружии, на руках Шершавина, оттянутых вниз тяжелой ношей. Он был нелегок, этот груз серого, как мыло, и страшного вещества, аккуратно сложенного небольшими кусками в сетку из телефонного провода.
Прошли минные поля немцев, проползли вдоль колючей проволоки, стали углубляться в расположение противника.
Тихо было кругом и у нас, и у немцев. Только кусты касались изредка лица своими жесткими листьями. Бойцы раздвигали их руками.
На берег Донца вышли почти перед рассветом. Но на самом краю неба еще стояла луна, и в смутном блеске ее светилась быстрая и чистая вода Донца. Шершавин увидел переправу.
Тяжелые плоты, заключенные в раму, служили ей основанием. По настилу бежала вода, журча меж толстых бревен. Это было прочное сооружение. И Шершавин, оглядывая его из прибрежных кустов, радовался в душе тому, что взял с собой изрядное количество тола. Но самое удивительное заключалось в том, что на переправе не было часовых. Ушел ли немецкий патруль на другую сторону или так уж уверены были немцы, что никто не пройдет сквозь их колючую проволоку, сквозь их мины и окопы, – но только было ясно старшему сержанту, что здесь враг дал промах. Такого случая никак нельзя было пропустить.
Автоматчикам пока делать было нечего. Все же, на случай возможной тревоги, Шершавин оставил их у моста, пулемет расположил подальше, на сто метров ниже по течению, и начал подготовлять взрыв.
Изредка немцы посылали снаряд через голову далеко в наше расположение; изредка пролетал и наш снаряд, разрываясь на том берегу. В густом предрассветном воздухе носились светлые пули. Шла неторопливая ночная перестрелка – обычная на войне работа, которая в ту минуту была гораздо милее сердцу сапера, чем самая глубокая тишина.
Это значило, что противник ничего не замечает. Шершавин вошел на мост один. Он действовал привычно. Рукам не надо было подсказывать движений, глаза смотрели зорко, они замечали все: зарождающийся утренний туман, прибрежный песок и кусты, и мокрые доски настила.
Он вошел на мост, положил тол, вставил детонатор в шашку, поднял шток взрывателя, а к чеке его привязал длинный кусок телефонного провода и пополз обратно на берег.
Он приготовил все как следует, и оставалось только последнее движение.
Шершавин прилег на землю, как это делают все саперы, и потянул за шнур.
Взрыва не получилось.
Он подождал секунду. Взрыва не было! Должно быть, помешала вода или попался неисправный взрыватель.
А туман уже поднялся над рекой. Пришел рассвет. И наступила та странная тишина, которая хоть на одно мгновение, да посещает даже самый грозный и самый жаркий боевой день. Не было слышно ни минных взрывов, ни свиста летящего металла – ни одного привычного звука войны. Слух был обострен до крайнего предела, и казалось, что можно слышать даже, как садится туман на кусты, как стекают капли его по траве, по шершавым доскам настила.
А налево, повыше тумана, неожиданно поднялось солнце, осветив прекрасный мир: цветущие травы Задонья, тонкие лозины у воды и светлую реку. Хороша была родная земля, как всегда, когда он глядел на нее хоть одно мгновение.
И в это же самое мгновение в тумане, уже поднявшемся на полметра над водой, в дыму его, когда звуки кругом раздаются так отчетливо, Шершавин услышал вдруг голоса и тяжелый топот. Это немецкая пехота спускалась с другого берега к реке. Она вошла на мост и шла на тонкие лозины, на высокие травы, на зеленые степи Задонья.
Автоматчики, лежавшие рядом, зашевелились в мокрой траве.
Шершавин остановил их знаком. Стрелять нельзя было. Враг поднимет тревогу, увидит тол на мосту. Взрыва не будет.
Шершавин молча поднялся и пошел навстречу врагу.
III
Он не думал в эту минуту о смерти. Он думал о жизни, которую всегда любил. Сладко было жить в эту минуту и видеть светлые искры солнца в воде, чувствовать на своем лице росу, чувствовать в своем сердце упоение от близкой встречи с врагом и великую силу долга, который требовал от него сейчас только одного: действовать.
Никакого страха не было в душе. И не было времени для страха. Исчезла всякая мысль о себе.
Он бежал по настилу, бутсами разбрызгивая воду Донца. А туман, который все еще не в силах был оторваться от воды, скрывал его от врагов.
В руках у него был новый взрыватель. Он вставил запал в снаряд, поднял шток и рукою взялся за чеку.
Он знал хорошо, что будет взорван вместе с мостом, с немцами. Но весь он был поглощен каким-то чувством счастья, какое дается каждому честному сердцу в бою. Он не видел в тумане врагов, но одна только мысль, что они сейчас погибнут, давала ему это ощущение счастья, А другая мысль, что они могут помешать ему сделать то, что он должен был сделать, приводила его в необычайное возбуждение.
Со страшной ненавистью выдернул он чеку рукой и тотчас же увидел пламя. Звука он никакого не слышал. Ему показалось вдруг, будто кто-то снял с него пилотку, словно для того, чтобы остудить его разгоряченный лоб, вслед за пилоткой поднялись на его голове волосы и как будто улетели прочь.
Он потерял сознание; наступила долгая ночь.
Но обожженное тело его жило. Отброшенный страшным взрывом, он упал в Донец. И воды степной русской реки приняли его, качали, лечили его ожоги. Намокшая одежда охлаждала обожженную кожу, а волна потихоньку толкала его к отмели и вынесла, наконец, на берег.
Он очнулся.
Однако ночь для него продолжалась. Голова лежала на песке, а тело по-прежнему покоилось в Донце.
О том, что он жив, первыми возвестили ему лягушки. Да, это были лягушки, трещавшие в прибрежной осоке. Их водяной звон показался ему в ту минуту сладчайшим в мире. Он слушал его с наслаждением, удивляясь красоте и необыкновенности этого первого звука на земле.
Потом запели соловьи, потому что был май, пятнадцатое мая, им полагалось петь. Они пели, сидя на кустах, раздувая горло.
Они пели. А он думал только о том, что если соловьи поют, значит на земле стоит ночь. Может быть, поэтому он ничего не видит.
Он попытался открыть веки – они не открывались. Тогда, сделав усилие, он пошевелился, поднял руку из воды. При этом движении кожа на теле его начала трещать и лопаться. Все же он дотянул руку до лица и пальцами коснулся век. Они были запухшие, покрытые спекшейся кровью. Он приподнял их рукой и начал смотреть. Но не увидел ни звезд, ни облаков, не увидел неба. Он был слеп. Однако это не ужаснуло его в первое мгновение. Сознание его еще было в тумане, и сильнее, чем слепоту, ощущал он боль в груди.
Тогда со страшным трудом он вытащил свое тело из воды. Все члены едва повиновались ему. Одежда разорвана в клочья. Он повернулся на бок, и тотчас же накопившиеся в легких вода и кровь хлынули из его горла. Это принесло ему облегчение.
Он сел и, сдерживая стоны, решил все же послушать соловьев, чтобы проверить время. Они пели громко, заглушая все звуки на земле, – и голоса лягушек, и даже звуки отдаленной стрельбы, доносившиеся по течению сверху.
Была полночь. Это удивило его. Время шло как будто назад. Ведь еще совсем недавно он видел рассвет и тонкую полоску зари за Донцом. Но он думал об этом недолго. Он снова окунул руки в воду и обмыл лицо и уши от песка и крови, чтобы лучше слышать. Это было единственное, что ему оставалось при его слепоте. Затем он пополз по песку у самого края воды, так как боялся потерять реку. Но куда ползет он – вниз или вверх по течению?
Эта мысль остановила его. Он перестал ползти. Надо же было, наконец, узнать, на какой берег вынесла его волна.
И он вошел в реку, чтобы руками или телом ощутить ее течение.
Он хорошо помнил, что если вода будет течь от него справа налево, значит берег свой. Сколько раз без всякой к тому надобности следил он зоркими глазами за течением этой светлой реки только потому, что она была мила ему, как его родная Песочинка, в далеком селе Куртино, и потому, что имя ее – Донец.
Он подставил воде свои руки, стараясь найти речную струю, и, наконец, нашел ее и постоял над водой с минуту в полной тьме.
Вода бежала слева направо. Берег был немецкий.
Тогда он вышел на песок и начал искать на себе оружие. Он нашел в кармане гранату, и лицо его сразу повеселело. Он даже улыбнулся сквозь кровь, выступавшую на его губах. Это был снова воин с железным сердцем. Слепой, обожженный, но со взведенной гранатой в руке, он слушал, не приближается ли откуда-нибудь враг.
А соловьи все пели.
На берегу повыше послышались ему солдатские голоса. Речь показалась чужой, отрывистой. Это были немцы…
Он притих, перестал шевелиться, и граната, которую он держал в руке, радовала его еще больше прежнего. Подняв голову, он обратил свое лицо в сторону врагов. Он ничего не видел. Но важно ли, что он слепой! Можно будет еще раз взорваться вместе с врагами, если они приблизятся к нему.








