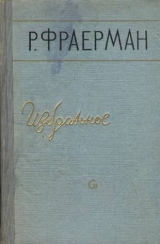
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
Шаман выпил кружку пива, поднесенную Мингой, достал свою чибизгу и приложил ее к высохшим, тонким губам. Он заиграл тунгусскую песню. Тихое жужжание то понижаясь, то повышаясь, складывалось в бедную мелодию. В ней было много грусти. И Боженкову все казалось, что это над гречневым полем в жар, в сухмень гудят пчелы. Он был в том настроении, когда хотелось печальных песен, воспоминаний.
Шаман умолк. Боженков, хмельной и грустный, взялся за свою гармонь. Кто-то засветил плошку с тюленьим жиром. По стене струйками поползла копоть.
Боженков играл тихо, хорошо – все свои саратовские песни, которые помнил еще с детства. Пламя над плошкой колебалось, как желтый лист осины. Тоска волновала сердце. Иногда Боженков смутно оглядывался вокруг. На нарах, на полу сидели притихшие люди, толстогубые, с косичками, в одежде из собачьих мехов и рыбьей шкуры. Они слушали внимательно, как только умеют слушать гиляки, не имеющие ни своей музыки, ни своих песен.
«Черти, чистые черти!» – с грустью думал Боженков и все продолжал играть.
Только Лутуза и Тамха не слышали его игры. Они были на улице. От изб и от станков для сушки рыбы падали на снег лунные тени. Луна предвещала сильный мороз. Призрачный свет, казалось, поднимался снизу – от беспредельных снегов – и, колеблясь, уходил вверх к звездам.
Была полночь, час собачьего воя.
Первым завыл Орон за Васькиной избой. С другого конца деревни раздался такой же протяжный голос, немного осекающийся, полный тоски. Потом еще и еще…
– Хорошие у Васьки собаки, – сказала Тамха, – всегда первые встречают полдень и полночь.
– Я слышу только, что воют сто собак. Как узнаешь ты их голоса? – спросил Лутуза, потирая нос и щеки и кутаясь в свой поношенный полушубок.
Тамха рассмеялась.
– Так же, как узнаю твой среди других. Я слышу и голос покойного Начхе, хотя он уже давно молчит, Вот послушай – это воют Пашкины собаки, а это Митькины. Сейчас я слышу голос Кадо. Его легко узнать. Наши собаки не умеют лаять и только воют, хотя русские их называют лайками.
– Я не хочу слушать собак, – нетерпеливо перебил ее Лутуза.
– Тогда пойдем в фанзу слушать старого Ная. Он хорошо рассказывает сказки.
– Подожди, я не хочу сказок, – сказал Лутуза громко, стараясь пересилить собачий вой. – Сколько заплатил за тебя Начхе отцу?
– Много! – не без гордости ответила Тамха. – Сто рублей серебром.
– Хорошая собака стоит дороже.
– Да! – Тамха не поняла злой насмешки Лутузы.
– И если б я Митьке вернул деньги, ты ушла бы?
– Разве есть у тебя столько денег? И разве ты бы мог прожить со мной год, скрываясь в тайге? Ведь только тогда ты можешь называться мужем. Но Митька найдет нас и в тайге.
– Я не боюсь Митьки.
– Ты, может быть, хочешь, чтобы поп Игнашка крестил нас и женил бы по-русскому? Тогда гиляцкий закон умирает.
– Ты глупа, Тамха! – рассмеялся Лутуза. – Поп Игнашка сидит в тюрьме, в городе, и много переменилось с тех пор, как замерз Амур.
Тамха не ответила. Собаки стихли. Лишь изредка срываясь, поднимался одинокий вой. Кто-то шел впереди, скрипя снегом. Тамха отошла в тень и присела за сугроб. Лутуза прислонился к избе. Мимо прошел Митька. Тамха с трудом узнала его. Он шел, согнувшись, дошка его была расстегнута, гарье в снегу. Он громко разговаривал сам с собой. Вот уже полчаса, как он, ослабевший от водки и обиды, бормоча, ходит по пустому стойбищу, среди собачьего воя, сугробов и теней.
Печаль тревожила его. Он тоже думал о том, что с тех пор, как замерз фарватер, многое переменилось. Вместе с красными, вместе с Васькой, с Боженковым, с этим рослым китайцем в стареньком тулупчике пришла новая сила, более страшная для него, чем вся хитрость Семки-собачника, чем богатство Кузина и русских купцов. И впервые он пожалел, что Семка убит, что нет Кузина, и даже о том, что он, Митька, выбран председателем сельсовета.
Что может он сделать, когда гиляки перестали уважать богатых? Он слышал, что прошлой ночью двое богатых гиляков из Варок, нагрузив нарты добром, бежали на Сахалин. Что же делать ему? И Митька, взобравшись на высокий сугроб, долго смотрел на пролив, на тихие снега, будто шевелившиеся от лунного света, – в ту сторону, где лежал невидимый остров.
Тамха осторожно поднялась из-за сугроба, завернула за угол и побежала к Васькиной фанзе.
Когда она вошла, Пай кончал свою сказку о том, как великая ночь ездила в гости к Амуру на черных собаках. След ее нарты сверкал радостью в сердце каждого охотника. Как снег, падали звезды от взмахов ее хорея. И даже голодные собаки оставляли свою юколу и поднимали к ней морды, прося остановиться. И ночь остановилась над Чомами. Муж ее, старый дельфин, стерегущий рыбу в проливе, не знал, куда она девалась. Знал только один китаец…
Най не кончил и посмотрел на Тамху. Многие усмехнулись, ибо сказка была о ней, о Митьке, и каждый подумал еще о Лутузе, в это время вошедшем в избу. Най закрыл уставшие от дыма глаза. Он был уверен, что в Чомах в эту зиму будут убийства и ссоры.
15За последние пятнадцать лет Най помнил только две сходки. Первая была лет десять назад, когда гиляк из Тебаха украл у Пашки-кривого жену и гиляка этого нашли мертвым в собственной оморочке. С тех пор Пашка окривел. Другая была еще раньше, когда чомский гиляк Ничах украл у тымского Юдина жену и тот требовал от схода изгнания Ничаха и возвращения калыма. Калыма ему не вернули, а предложили драться с Ничахом на хореях. Поэтому Най, когда пришли его звать на сходку, подумал, как европеец, что все несчастья от женщины. С каждым годом их родится все меньше, и все трудней становится бедному человеку жениться.
На сходку он шел неохотно. Не хотелось на старости лет, перед смертью, быть свидетелем ссор и драк. Но на сходке в Васькиной фанзе он увидел Лутузу, очень спокойного, с новой ганзой в зубах, Боженкова и гиляков, уже рассевшихся на полу и на нарах. Митьки еще не было. Это тоже было к лучшему. Най был недоволен только тем, что на сходке присутствовали женщины. Это могло обидеть каждого гиляка. Все же он пробрался на первое место у печки, как полагается шаману, и сел рядом с Васькой.
– Гиляки, – сказал Боженков, путая гиляцкие и русские слова, – медвежий ваш праздник прошел, слава богу, надо бы за дело. Вот и созвали, значит, вас поговорить об артели.
Гиляки его плохо понимали. Тогда Васька заговорил по-гиляцки. В его словах, в его низкой, широкоплечей фигуре со стриженой головой было много веселого упрямства. Он нарочно созвал сходку после праздника, когда многие пропились, проелись, запродали будущий улов и стали втрое сговорчивей.
– Нибхи, – сказал он, – кто не хочет жить лучше, чем он живет?
– А почему ты созвал сход без председателя? Или у нас нет советской власти?
В дверях стоял Митька в своей щегольской черной дошке, лоснящейся от растаявшего снега. Уши его шапки были подняты. Темные очки придавали ему строгий вид. Он был, как всегда, сдержанно важен, медлителен и скуп на слова.
– Каждый гиляк может созвать сход, если в деле его нуждаются соседи, – спокойно ответил Васька. – В моем же деле нуждаются все. Разве ты, Митька, не знаешь обычая?
– Я вижу здесь, на совете, женщин. Не это ли в обычае гиляков?
– О-о-о! – протянул Васька. – Разве жена гиляка так глупа, что не может отличить кеты от корюшки? Или ты говоришь только о своей жене, Митька?
Это было сказано с таким добродушным удивлением, что даже старый Най усмехнулся. Кто-то громко рассмеялся. Видит великий Кинс, Васька, лукав, как дух. Он помнит только те обычаи, которые ему полезны. Най посмотрел на него с уважением и подумал, что из Васьки вышел бы хороший шаман. Недорого – за пару молодых собак и пригоршню серебра – Най научил бы его шаманить. Как раньше не подумал он об этом гиляке, столь известном своей охотой?
Най стал внимательно слушать Ваську. Тот говорил об артели. То Митька, то Пашка-кривой, то еще кто-либо прерывали его. Боженков не понимал, о чем они говорят, но по возбужденным лицам гиляков, по злым выкрикам, по взволнованному гортанному голосу Васьки понял, что дело становится серьезней, чем можно было ожидать.
Он пересел на край нар в угол, где на стене висел Васькин винчестер. Лутуза стал у дверей поближе к Пашке и Митьке. Митька отодвинулся и посмотрел на Лутузу хмуро и холодно. Он слышал уже кое-что о Тамхе и об этом китайце.
– Васька, разве умер у тебя кто-нибудь, что ты отрезал свою косу? – крикнул Пашка.
Уж третий раз задавали Ваське сегодня этот вопрос. Он каждый раз отвечал по-разному, ссылаясь то на вшей, то на стриженых китайцев. Но сейчас сказал:
– Да, я снял ее в знак печали. На Амуре, когда брали город, я сжег свою прежнюю жизнь, как мы сжигаем мертвых в тайге. Я сложил ее на дно оморочки и пустил вниз по реке, куда вода течет.
– Нибхи, – продолжал Васька, – в Чварбахе есть уже гиляцкая артель, мы не будем первые. Но мы будем есть мяса больше, чем на гиляцком празднике. Я слышал, что от рыбы мы болеем проказой, и наши дети умирают чаще, чем у гольдов, тунгусов и айнов. Я гиляк и хочу, чтобы гилякам было хорошо. В городе нам обещали дать в долг шхуну, дели[19]19
Пряжа для невода.
[Закрыть] и соли.
– Ты врешь, – перебил Митька и, пробравшись к Ваське, взял его за рукав. – Ты хуже слепого щенка. Русские партизаны купили тебя за банку пороху. Ты хочешь продать всех гиляков за Семкиных собак. – Митька кричал и показывал на Боженкова.
– Что ты там лаешь? – Боженков поднялся с нар, и Митька осторожно отстранился. Васька оставался спокойным.
– Ты, Митька, с Семкой торговал, с Даниловым торговал. Почем ты ему сотню кеты продавал? По три рубля, а у меня покупал по рублю. Посчитай, Митька, ты каждого гиляка трижды продал. Не потому ли ты кричишь и не хочешь артели? Мы тебе рыбы продавать не будем.
– Ты будешь просить, чтобы я купил, а я буду смеяться.
Митька хотел плюнуть Ваське в глаза, но удержался, набил свою трубочку и закурил. Его сухие пальцы дрожали. Он не спеша пошел к выходу. Пашка и многие гиляки поднялись за ним.
В фанзе стало просторней. Однако многие остались на месте, потому что шаман сидел по-прежнему на нарах и задумчиво сосал ганзу, подперев кулачком подбородок, поминутно сплевывая.
Разговор с Митькой, казалось, был окончен, и Васька продолжал рассказывать об артели, о шхуне, о соли.
– Кто же будет платить за это и кто будет мирить нас в артели? – спросил старый, полуслепой от трахомы гиляк.
– Наши женщины никогда не ссорятся! – с раздражением ответил Васька. Он начинал уже выходить из себя. Это был дурной признак. – Много их живет в одной фанзе, и все они варят в одном котле и над одним дымом. Разве вы, гиляки, хуже женщин?
– Верно говорит Васька!
Най перекинул на грудь свою седую грязную косичку, расплел кончик, снова сплел и задумчиво повторил:
– Да, верно! Наши женщины никогда не ссорятся. Но жить с Семкой бедно, жить без Семки бедно, не все ли равно? Чего ты хочешь, Васька?
– Най! – ответил Васька горячо. – Ты самый старый из нас, но собаки твои дальше Варок не бегали. Я же был в русских деревнях, на Амуре, был в городе… Я видел заключенные в стекла огни, такие маленькие, что ты спрятал бы их в ладонях и не обжегся. Но они светят ярче, чем ночью горящая тайга. Я хочу зажечь их в твоей фанзе, чтобы ты увидел слепоту свою. Я знаю, что грех мочить глаза, глядящие на солнце. Ты этого никогда не делал. Но не потому ли мы слепнем раньше старости, хотя в юности видим лучше кабарги? И я хочу, чтобы этого не было. Я не знаю, как это сделать. И собака не сразу научится бегать в нарте. Я просил в городе прислать нам человека, который лечил бы нас, и мне обещали…
– Тебе много обещали, Васька, – тихо сказал Най. – Не обманывают ли тебя русские, как делали они это много раз?
– Я потому пошел к красным, чтобы нас не обманывали…
Васька продолжал говорить о себе, о гиляках, о какой-то удивительной жизни, что вставала перед ним в синем дыме партизанских выстрелов.
Най задумался. Он был против докторов и разных русских людей из города, которые могли лишить его приношений. Но он не был настолько богат, чтобы очень бояться этого. Гиляки платили Наю немного. Он не умел, как знаменитый тымский шаман, прокалывать руку или глотать песок и гвозди. Он был простой шаман. Лечил стружками, навешивая их на больного. Был в дружбе с Кинсом и другими духами, устрашал их железом, подвешенным к его поясу, умилостивлял брусникой, обмазывая губы идолов ее алым соком, бил в бубен, бегал по фанзе до пены и судорог. И если это не помогало, то кто же, кроме самих духов, в том виноват? Зато Най мог предсказать буран по дыму и шуму тайги и знал, что если вода большая, то рыбы будет мало.
Много снегу принял на свою голову старый Най, много раз встречал весенний ход горбуши. И больше, чем богам, хотелось ему верить иногда людям.
Скоро, может быть, его повезут в тайгу, положат на костер, сожгут его нарту, зарежут собаку и последний дым его жизни скроется в низком небе над пихтами. Но какая женщина заплачет и распустит волосы над костром Мая, кто из гиляков в знак печали отрежет свою косу? Митька? Не ему ли, Наю, знать, как слаб сейчас Митька и как не любят его гиляки? Васька? Но он еще раньше отрезал свою косу и похоронил старую жизнь. Кто же тогда?
Най вздохнул и поднял глаза на гиляков. Васька кончил говорить и теперь спрашивал, кто хочет быть в артели. За артель подняли руки многие, больше, чем ожидал Най. Тогда он медленно, по-стариковски поднял и свою руку, дернув плечами. Боженков рассмеялся:
– Аль, старик, и ты в артель хочешь?
Най посмотрел на торжествующее бородатое лицо русского, вспомнил такую же широкую бороду попа Игнашки и быстро опустил руку.
– Э-э, штанам подтягиваем, – ответил он смущенно.
И действительно подтянул свои гарье.
16Казалось, самое трудное было сделано; артель собрана, устав подписан, председателем выбран Боженков. И все же Ваське не стало легче. Гиляки-артельщики каждый день приходили в гости, ели юколу, курили Васькин табак, задавали тысячу вопросов, спорили, но пая не вносил ни один.
Васька продал еще двух собак, уже не лишних; одну, старую, зарезали и съели. По ночам он слышал рядом с собой вздохи Минги. Плакать она не смела.
Лутуза был занят Тамхой и по целым дням сидел на нарах, ожидая, когда она зайдет. Потом уходил куда-то в тайгу на Васькиных лыжах. Только Боженков был по-прежнему спокоен. Он в артелях ловил рыбу, рубил лес, копал золото, и все эти артельные ссоры, жалобы, суета были ему хорошо знакомы. Он считал их неизбежными, как весной ледоход.
Но в спокойствии его было много неистовства, которое он помнил в себе с самого детства, когда пастушком-мальчишкой неутомимо бегал за коровами, а позже в золотоносной амгунской тайге разбивал шурфы.
Сейчас Боженков с тем же неистовством начинал дело. Мягко обнося мимо сугробов свои ноги, обутые в громадные ичиги, он шагал по заметенному стойбищу от фанзы к фанзе. Гиляки встречали его молча, недружелюбно, как встречали каждого русского.
Но Боженков садился на нары, будто свой человек, пил чай, грыз юколу, вызывавшую у него нестерпимую изжогу. Часа два проводил он в пустых разговорах, как настоящий гиляк, и лишь после этого начинал:
– Вот, друга, в артель-то ты записался, а работать за тебя покойничек будет. Так, что ли? Показывай, показывай, друга, какой снастью богат…
Гиляки приносили ему кучу ржавых гарпунов, белужьи крючки, самострелы на соболя, петли из конского волоса и старые сети, сплетенные из волокон зеленоватой крапивы. Среди этого охотничьего хлама нередко попадались и прекрасные куски невода из японской дели, прочной, легкой, за которую каждый рыбак душу бы отдал.
Их Боженков откладывал в сторону, а потом отбирал лишь белужьи крючки поновее и говорил, льстя хозяину-артельщику:
– Ну, друга, добра у тебя больше, чем у Митьки. Без тебя артели бы конец был. Приходи на той неделе невод плести. Слышал я, будто лучше тебя во всем стойбище мастера не сыщешь.
Хозяин, довольный похвалой, кланялся и обещал прийти.
Мартовские бураны еще не прошли, но дни стояли такие теплые, что в собачьих шапках становилось жарко. Гиляки развязывали ремешки на рукавах кафтанов и затыкали рукавицы за пояс. В один из таких дней Митька тоже снял свои ватные гарье из синей дабы и вышел на улицу.
Над проливом воздух был темен, низкие дымные тучи цеплялись за гребни голых мысов.
У Васькиной избы стоял народ. Митька напряг зрение, но не разобрал, что эти люди делают. Он подошел ближе и узнал артельщиков. Словно сшивая темный разорванный воздух, поднимались и опускались деревянные иглы. Гиляки расплетали и прилаживали куски невода. Один кусок, метров в сто длины, был уже готов и повешен на колья.
Среди собачьих шапок гиляков виднелась черная папаха Боженкова. Он размахивал руками, что-то говорил и указывал.
Митька постоял в раздумье, глядя на артельщиков и шевеля губами. В мозгу мелькали привычные мысли о хозяйстве, о промысле. Он подумал, что таким неводом можно бочек сто весной поймать, что рано еще сети чинить и, наверное, русский дна не вымерил, а без этого зря начали невод ладить. Но вдруг вспомнил, что, сколько бы ни поймали артельщики, рыба будет не его и что все это враги, которых он ненавидит. Митька поискал глазами Ваську, потом Лутузу, но не нашел их среди работавших и подумал о Тамхе, еще с утра уехавшей на собаках за дровами. Дрова были сложены недалеко в тайге, собаки сыты, – почему ее так долго нет?
Митька повернулся и пошел домой. Он был полон досады и тяжелых чувств. Через полчаса Васька встретил его в конце стойбища. Митька держал на плече хорей, и лыжи его были небрежно привязаны к ногам, Он, видимо, волновался и спешил.
Васька поклонился. Он все же не хотел ссориться со свояком и председателем совета. Митька, должно быть, не заметил его, так как круто повернул и спустился на пролив. Васька поглядел на следы его лыж. Они были тяжелы, беспокойны, как следы убийцы.
«Куда Митька пошел?» – подумал с невольной тревогой Васька, Но сам он был без лыж, и вслед идти не хотелось.
Митька обошел мысок и снова поднялся на берег. В тайге воздух был еще темней, гуще, и снег прилипал к лыжам. Он с трудом добрался до дров, сложенных штабельками между елками. Нарта стояла пустая, собаки дремали, уткнув морды в снег, усыпанный желтыми иглами, и даже не подняли глаз на Митьку.
Справа, недалеко от нарты, он увидел Тамху и Лутузу. Они сидели, прислонившись к дровам. Лутуза был без шапки, и Тамха искала у него в голове. Это была обычная ласка гиляцких женщин, не знающих поцелуев.
Митька напрасно крикнул. Ему надо было подойти ближе и ударить железным наконечником хорея по стриженой голове китайца. Но Лутуза уже стоял, высоко подняв тяжелое полено. Он казался огромным рядом с маленькой Тамхой. Митька опустил занесенный хорей. Что может сделать он, уже старый человек, этому рослому китайцу? Митька пожалел, что не взял с собой ружья.
У Тамхи дрожали ресницы и губы. Нарядные рукавицы ее, расшитые красным сукном, были затоптаны в снег. Тамха нагнулась, отряхнула рукавицы и бросила первое полено на нарту. Этот сухой стук дерева долгим звоном отдался в ушах Митьки и как бы прервал молчание. Собаки поднялись, отряхнулись и заскулили.
– Ты очень долго ездила, – сказал, наконец, Митька, – я ждал несчастья…
Тамха молча продолжала накладывать дрова. Лутуза помогал ей, поглядывая на Митьку и торчавший в снегу хорей.
Когда собаки тронулись, Лутуза и Митька пошли рядом. Никто из них не хотел идти вперед. Тамха сидела на нарте на дровах. По ее спине, круглой и упрямой, Митька видел, что виноватой она себя не считает. И он впервые пожалел, что женился на молодой. Работает она куда хуже покойной Кинги, а денег, одежды истрачено на нее изрядно. И, пожалуй, все это зря. Все-таки Митька решил поторговаться.
– Я дам тебе трех шантарских соболей, по тридцать рублей каждый, – сказал он Лутузе, – уходи ты из стойбища. Я даю тебе дорого, вся твоя жизнь не стоит и хвоста от рыбы.
– Ты глуп, как нерпа! – ответил Лутуза. – Один день моей жизни стоит дороже тебя, твоих собак и твоих родителей. Но я не жалею своей жизни. Хочешь, я отдам тебе целый год, буду у тебя работником, чтобы вернуть тебе калым за Тамху. Она все равно уйдет от тебя. Ты не увидишь Тамхи до конца твоих дней, живи ты хоть так же долго, как Най.
Тихо переругиваясь, кляня друг друга, они вошли в деревню, и никто бы из гиляков не сказал, что эти люди ссорятся и призывают друг на друга смерть, проказу и несчастья. Только Боженков пристально посмотрел на Лутузу и погрозил ему челноком, которым плел невод.
– Дьявол, чтоб ты дымом подавился! Я за тебя работать буду? Ей-пра, из артели выкину! – и Боженков зло перекрестился.
Лутуза взялся за невод.
Митька пошел дальше, мимо артельщиков, тяжело шлепая лыжами и поддерживая хореем соскальзывавшие с нарты поленья. У дома он снял лыжи, очистил их от снега, подождал, пока Тамха сложит дрова и войдет в фанзу.
Из соседей дома никого не было. Тамха присела у очага, чтобы развести огонь. Митька не спеша подошел к ней и ударил ее кулаком в грудь.
– Ты меняешь нибха на китайца! Я скажу гилякам, и они убьют тебя палками, как убили Чварку, бежавшую к русским.
– Чтоб тебя звери разорвали! – ответила Тамха и заплакала.
Митька оглянулся. Бить жену у гиляков считается позорным. Не потому, чтоб не позволяло этого сердце, – они не так добры. Митька и любой гиляк не поможет жене натаскать дров, накормить собак в мороз и не станет есть из чашки, которую употребляла роженица. Но бить жену все же рискуют редко. Брак расторгается легко. Жена может уйти к другому, вернуть калым или даже не возвращать его, а только прожить с новым мужем больше года, скрываясь где-нибудь у родных.
Сто-двести рублей – это не такие большие деньги для человека, который не жалеет своей жизни, Митька это хорошо понимал. Он второй раз не ударил Тамху, но снял с нее медвежью дошку, праздничный фартук, отороченный бляшками, расшитую красной дабой шапку – все это было подарено им и покойным Начхе – и спрятал в сундук. Потом он пошел к Пашке-кривому, и оба они, неторопливо меся рыхлый снег кривыми ногами, направились к избе Ная. Влажный, совсем не зимний ветер заносил их косы вправо и шевелил мех на дохах.
Най выслушал Митьку, выкурил две трубки подряд, принял серебряный рубль с орлом, – давно уже никто не приносил ему таких больших денег, – но путного ничего не сказал.
– Когда видишь бешеную собаку, уступи ей дорогу. Она никогда не свернет.
– Бешеную собаку надо убить, – ответил Пашка.
– Ты уж раз убил человека.
– Кто тебе сказал это, Най? – Пашка нахмурился и оглянулся на Митьку. Тот печально смотрел на шамана.
– Я вижу это по следам твоим. – Най с грустью закрыл глаза. – Разве гиляк Тебаха сам умер в своей оморочке? И разве тебе легче стало жить с твоей женой, убегавшей от тебя?.. Песок и сухая трава на оторванной льдине! Растает на солнце лед, песок упадет на дно, а за травой будут гоняться чайки. Жизнь линяет, как олень. Гиляки стали запрягать нарты по-русски. Васька собирает артель, хочет привести лекаря из города и послать туда сына учиться. Я слышал, что в Чварбахе гиляки взрыли землю, чтобы посадить картошку. Я жег костры из священной смолы, я спрашивал Кинса и всех кенгов: лучше ли это для гиляков? Никто не знает! Но я думаю, что, как бы ни линяла шерсть, как бы ветер ни носил ее по тундре, зверь не встречает зиму голым.
Пашка ничего не понял. Митька тоже пожал плечами и вышел. Обоим стало страшно от бормотания и покачивания Ная.
– Стар стал шаман, – огорченно сказал Пашка. – Надо бы молодого завести.
– Глуп он стал, – ответил рассеянно Митька. – Можешь ты мне к ночи достать три нарты с собаками?
– Хоть десять, если заплатишь.
– Я заплачу тебе. Разве мало я тебе платил?
Митькина фанза была самой крайней, и никто, кроме ближайших соседей, не слышал, как Пашка привел ночью собак и каюров, как укладывали на нарты сундуки, одежду, меха и как упрямая Тамха ругалась с мужем, когда тот насильно усаживал ее в сани.
Нагруженные нарты оставляли глубокий след, но ночью он не был виден, а к утру переменившийся ветер, сыпавший сухой крупой, зализал его, как зверь зализывает кровь.








