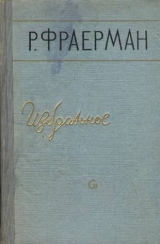
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
Потом поставил на пол перед девочкой пустую чашку и бросил туда кусочек мяса. Никичен плотно закрыла глаза. Она ела только то, что ей давали в руки.
Гучинсон удивленно поднял белобрысые брови:
«Что еще нужно этой обезьяне?..»
Тунгусская девочка начинала его развлекать в скучном плавании. И, пока капитан Джильберт выводил «Эльдорадо» из тумана и льдов, Гучинсон измерил череп Никичен и научил ее – кровную сестру свою – поднимать с пола мясо, которое он бросал ей. Она была голодна. И недаром Хачимас называл жадной свою дочь. На второй день утром льды прошли. Но туман был еще густ, холоден.
Когда же туман снесло, в трех кабельтовых по правому борту открылся японский миноносец. Он шел в Аян.
7. Мухи не жужжали над юколойВ урасе Хачимаса целый день было пусто.
Хачимас, занятый своей новой должностью, ушел с партизанами в Чумукан. Совет помещался теперь в доме Грибакина. Отправился туда и Олешек со многими тунгусами. И только под вечер, когда Хачимас и Олешек вернулись в стойбище и не нашли в урасе ни огня, ни пищи, они спросили у соседей, где Никичен.
Никто не знал. Один лишь Аммосов сказал им:
– Я бы знал, куда ушла Никичен, если б знал, где моя оморочка. Она села в нее и погнала навстречу приливу. Я подумал тогда: Никичен дважды согрешила. Никто из овенов не берет лодки без спросу, и никто из девушек наших не возьмет в руки весла. У них есть свои дела, которых мужчина не станет делать. И ты слыхал, Хачимас, как шумела на нее тайга, как море кричало? Олени, не боясь мошкары, пасутся далеко от стойбища. Будет плохо…
Хачимас и Олешек не дослушали старика. Они снова ушли в Чумукан искать Никичен.
Луна была мутна, а море холодно. Волны, не смолкая, стучали галькой. Хачимас кричал в сумерки и звал Никичен. А Олешек молча ходил вдоль берега, вглядываясь в камни. И за ним ходила тунгусская собачка Уорчок. Она боялась воды и лаяла на пену, мерцавшую в полутьме.
Они прошли весь берег до того места, где два дня назад Никичен искала Суона. Тут Уорчок перестала лаять, и высокие камни скрыли ее от Олешека, но, обогнув их, он снова увидел Уорчок, она сидела на дне опрокинутой лодки и, дрожа от холодного ветра, смотрела на море, качавшее свет луны.
Олешек узнал оморочку Аммосова. Он сел рядом с Уорчок, и дрожа, как она, стал тоже смотреть на море.
Хачимас не был зорок. Он долго щупал лодку, нагибался, вздыхал. Потом и он сел на камень, поджал под себя худые ноги и поднял глаза к небу. Луна мчалась среди облаков, как сохатый по вьюжным сугробам.
– Мне сегодня снилось мое ружье, трижды давшее осечку, – сказал Хачимас. – Это дурной сон. Я думал, что болезнь сядет на копыта моих оленей. Но сон был не о них. Зачем я зарезал Суона? Может быть, гости недостойны нашей дружбы? Может быть, они злы?
– Недостойны, – с горечью повторил Олешек. – Зачем я танцевал и веселился в твоей урасе? Красные не принесли нам хорошего. Они заперли дружка[43]43
Тунгусы называют купцов дружками.
[Закрыть] Грибакина, а товаров у них нет. Они прогнали чужого купца, пришедшего к нам с моря, а товаров у них нет. Кто же нам даст тогда муки и пороху? И кто виноват в смерти Никичен?
– Я не знаю.
– Кто же скажет, если не ты, которого мы выбрали головой в совете?
– Я не знаю, – печально крикнул Хачимас, – хотя меня выбрали головой в совете и Никичен – моя дочь!
Они замолчали и ушли от страшного места, никуда больше не торопясь.
Уорчок бежала впереди и лаяла на пену.
Внезапный холод был так силен, что партизаны ночью мерзли у костров, а тунгусы спали в оленьих мешках.
По утрам солнце покрывалось тонким паром; по вечерам оно долго стояло на горизонте, большое и белое.
Тунгусы выходили с сетями на берег и возвращались печальные. Улова не было.
По совету стариков они выкрасили сети в красный цвет, любимый цвет горбуши; опустили в море против мыса железную бочку, чтобы она гудела, как дельфин, и загоняла рыбу к берегу.
Все было бесплодно.
Льды оттеснили горбушу, Она прошла мимо Удской губы. Только последние руна завернули в залив и поднялись вверх по Уду.
Когда же лед проплыл и туман исчез, Хачимас и Олешек пришли к партизанам. Они были угрюмы, задумчивы, даже не присели покурить.
– Горе! – сказал Хачимас Небываеву. – Рыбы так мало, что только счастливым досталась она.
– Счастливы те, – добавил Олешек, – у кого сетей много.
– Правильно говорит молодой, – сказал Небываев. – Сделаем. Соберите под вечер всех.
На этот раз сход был короткий. Молча, теснясь друг к другу, тунгусы окружили белую палатку, Небываев вошел в круг.
– Мы нашли на складе у купца Грибакина много невода. Его хватит для того, чтобы перегородить всю реку. Советская власть дарит вам его. Ловите сообща и делите поровну.
Осип, имевший достаточно сетей, вышел вперед и повернул к толпе свое голое лицо с седыми волосками под подбородком. Маленький, в длинном кафтане из черной китайки, он был похож на попика.
– Все это хорошо. Но что скажет дружок Грибакин?
– Надоел ты мне, черт, со своим дружком! – крикнул Небываев. – Ничего не скажет купец. Нет у него силы против нашей власти. Где он, дагоры?
– Он сидит в доме под замком, и жена его плачет, – сказал Осип.
– А наши дети не плачут, – перебил его Хачимас, – когда рты их голодны? Что мы будем есть, если не поймаем рыбы? Мне не надо думать об этом, дагоры, – нет у меня больше Никичен. Но я должен думать об этом, потому что вы, дагоры, выбрали меня головой в совете.
– Прав Хачимас, – сказали тунгусы. – Возьмем сети Грибакина…
Но и сети Грибакина мало помогли. Их забрасывали в море, ставили поперек реки, волочили на оморочках вдоль берега.
Горбуши не было. Мухи не жужжали под навесами для юколы; ветер не разносил по стойбищу гнилого и сытного запаха; дети не лакомились похлебкой из дикого лука и рыбьих голов.
Тогда тунгусы сами пришли к партизанам.
Снова, как и в первый вечер, неделю назад, на поляне горели костры. Над тайгой стояла Большая Медведица. Тунгусы сидели у огней. Только на их лицах не было прежнего веселья. И старик Аммосов – он всегда шаманил немного – качался в дыму костра и, смотря на Млечный Путь в черном небе, бормотал:
– Н'галенга на лыжах погнался за лосем по снежной тропе, пересекающей небо ночное с востока на запад, и задавил его на середине пути. И шкура лося осталась направо от тропы, и там – Токи-дууки[44]44
Орион.
[Закрыть], а нога валяется налево от тропы, и там – Токи-калганин[45]45
Большая Медведица.
[Закрыть]. А Н'галенга ушел назад и из одной тропы сделал две. Он так наелся, что едва таскал лыжи, а овены – дети его – остались голодными…
И Аммосов, вдруг перестав качаться, громко сказал Небываеву:
– Худо нам будет, дагор. Ты – как Н'галенга: сытый, уходишь назад, а мы остаемся без пищи.
– Вы возьмите еще и муку и рис и все, что нашли мы в складе Грибакина, – ответил Небываев. – И это дарит вам советская власть.
– О, ты добр на чужое добро! – ехидно заметил Осип.
– Вот враг! – сказал Небываев партизанам. – И стукнуть его нельзя…
– Наплевал бы я на «нельзя», – проворчал командир Десюков и косо посмотрел на Осипа.
Тот отодвинулся в сторону.
– Много ли муки нашли вы в складе Грибакина? – осторожно спросил Хачимас, любивший прежде всего дело. – Мы знаем: парохода давно не было; с прошлого года купец не ездил за товарами.
Небываев пососал цигарку, прищурился. Муки нашли немного. Мало было и пороху и дроби. Если разделить только беднейшим, и то ненадолго хватит. Десюков подвинулся ближе. Знал он безумную голову Небываева.
– И не думай, – тихо сказал он комиссару.
– А я думаю, товарищ Десюков, – ответил Небываев.
Он обвел глазами дымные костры и лица звероловов. Дети хныкали, просили грудь. А матери совали им свои трубки, чтобы они покурили.
– Я думаю, товарищи партизаны, надо дать половину наших запасов.
– Какая же это политика, – сказал Устинкин, – чтобы нам подыхать раньше их? У нас галет всего на две недели, а пути – на месяц.
– Дать! – сказал кореец Ким, самый молодой из партизан.
– Дать! – повторили другие.
Но командир Десюков был недоволен. Он наморщил лоб, посмотрел во тьму, стеной стоявшую за кострами.
– Дать-то можно, если вертаться…
– Дать! И никаких «вертаться»! – сказал Небываев. – Только вперед! В Аяне еще нет советов!..
И наутро, на восходе солнца, партизаны покинули Чумукан, не удивив тунгусов ни добротой своей, ни безумством. Они расклеили на юртах, на прибрежных скалах воззвания, грозившие смертью «капиталу», и ушли по тропе на Аян, оставив Хачимасу купца Грибакина в его собственном доме под замком.
После заморозков это утро казалось теплым. Но на траве долго висела роса. Горько пахла хвоя. Тропа вдоль берега вела на север. Так широка была она вначале, что по двое рядом шли олени. И люди не устали до полудня.
Легок был первый привал. Но едва только партизаны развьючили оленей на отдых, как увидели новый караван. Он шел по той же тропе следом. Олени несли переметные сумы – со рук, обшитые камасой, берестяные люльки с младенцами; поверх вьюков сидели мальчишки.
– Наше стойбище провожает гостей, – сказал Хачимас, подходя к Небываеву. – Овены будут с вами обедать.
– Вот погибель! – крикнул Устинкин. Он был кашеваром в отряде и сейчас варил мясные консервы в бидоне, заменявшем походный котел. – Что ж это такое, товарищ комиссар?
– Прибавь еще десять банок консервов и открой ящик с галетами, – сказал в раздумье Небываев.
Тунгусы подсели к огню партизан и вынули ножи из берестяных ножен, чтобы есть мясо. Женщины, торопясь к чаю, оставили на вьюках люльки с детьми. Но у костра все сидели молча, ожидая пищи.
И столько достоинства было на голодных лицах тунгусов, так скромно ждали они, что Небываев сказал кашевару:
– Завари погуще чай…
И на завтра было то же самое. Небываев начал избегать привалов. Припасы тайно раздавали партизанам.
А тунгусы все шли по тропе следом.
Комиссар пришел в отчаяние и сказал Хачимасу:
– Возвращайтесь обратно. Зачем вы идете за нами?
– Вода прибывает и убывает, – ответил Хачимас, – а люди приходят из тайги и снова в нее уходят. И если есть у них хлеб и мясо, они дают голодным, а если нет, то умирают вместе. Так живут овены. Нам все равно, куда идти.
Небываев вынул свой мандат из-за пазухи и показал его Хачимасу:
– Тут сказано – мы можем умереть только в борьбе с врагами трудящегося класса. Вы нам не враги. Идите назад. Пошлите людей на прииски. Может быть, они доставят вам муку и припасы. Нам же дайте проводника, чтобы идти в другую сторону.
Хачимас с уважением посмотрел на бумагу и покачал головой:
– Тунгусы говорят Хачимасу: «Не надо больше ходить на прииски. Ты пошел туда за товарами, а пришел с солдатами». И тунгусы говорят: «Ты и Олешек привели их, пусть же Олешек и уведет».
– Мы не солдаты, – нахмурясь сказал Небываев, – а большевики.
Он недоверчиво посмотрел на Олешека, выступившего вперед. Проводник показался ему слишком молодым.
– Болшики, болшики! – повторил Олешек.
И тропа опустела – тунгусы повернули назад.
8. От Лосевых Ключей до Джуг-ДжураНад Лосевыми Ключами всегда стоял сумрак. В сумраке между пихтами сквозила новой берестой ураса Осипа Громова. Мох вокруг был вытоптан и съеден оленями. Чем шире такой круг, тем ураса богаче.
Партизаны стали на берегу широкого ручья. Это был второй привал на ночевку.
Осип с сыном Прокофием еще вчера вернулись домой, на Ключи. Они не пришли к огню партизан, не позвали их в гости, чтобы напоить оленьим молоком и похвастаться посудой – медным чайником и чашками из китайского фарфора, расставленными на расписных столешницах[46]46
Столов тунгусы не употребляют. Небольшая столешница кладется прямо на землю или ставится на коротких ножках, чтобы можно было доставать пищу, сидя на земле.
[Закрыть].
Осип помнил судьбу Грибакина. Прокофий, парень лет пятнадцати, в суконном картузе, все же подошел к Олешеку и долго говорил с ним по-тунгусски, часто называя Никичен.
Партизаны еще не легли.
Еще тьма не сгустилась под вершинами лиственниц, когда вдруг в свете костра появилась старуха. Мигая кровавыми веками, она молча глядела на огонь. Она вела за руку мальчика. Их приближение было так бесшумно, что Небываев схватился за винтовку.
Это был Чильборик с бабушкой Улькой.
Пять дней шел Васильча с семьей из Тугура по горной тропинке, обогнув Чумукан. Кочевка была тяжелая.
Он пришел на Лосевые Ключи вчера, когда солнце в шестой раз взошло над морем. Здесь он услышал о партизанах. Осип говорил, что они против богатых. Не помогут ли они тогда бедным? Уже давно собирался Васильча крестить своего сына Чильборика. Все не случалось: то сам кочевал далеко, то поп с Уда уезжал в стойбище, да и брал он дорого, а чумуканский урядник – еще дороже. Может быть, красные сделают это даром? Крещения же, как подати, все равно не миновать.
Васильча пришел к партизанам вслед за старухой Улькой. Он принес берестяное корыто с водой и крестильную рубаху для Чильборика, сшитую из ровдуги.
Небываев с изумлением посмотрел на тунгуса. И Васильча, приняв его изумленный взгляд за хитрость, предложил ему за крестины пять белок зимнего боя.
Хохот рухнул в тишину леса, как обвал. Восемь человек смеялись, присев у огня на корточки.
Небываев заметил обиду на лице Васильчи и в глазах Чильборика слезы. Он посадил мальчика к себе на колени и спросил, какое имя дать ему.
Васильча сказал:
– Поп в Удском Остроге брал за имя «Ванька» рыжую лису, за «Ивана» – две. Назови его как можно дешевле и выдай бумагу.
Небываев усмехнулся, погладил мальчика по жестким волосам и повторил свой вопрос.
Мальчик ответил:
– Чильборик.
И комиссар, вырвав из записной книжки листок, написал:
«Этот мальчик носит имя Чильборик, что значит «плачущий». Так назвала его мать».
Он подал бумажку Васильче, и тот спрятал ее в свой картуз. Крестник вытер слезы, протянул Небываеву трубочку и попросил табаку. Олени, спасаясь от ночного гнуса, подошли к костру. Они выпили воду из берестяной купели. А Васильча, довольный, что с него не просят ни лис, ни белок за крестины, подсел к огню. Глядя на угли, прожигавшие железную тьму, он с любовью показал на них Небываеву.
– Посмотри на огонь. Он старший брат наш. Шибко добрые люди есть… – Васильча, как и многие тунгусы, называл огонь своим братом.
После Ключей тропа круто повернула от моря на запад. Стало глуше. Но Олешек шел по ней все так же уверенно, назначая места для привалов. За ним шли восемь человек.
Он любил будить их по утрам в палатке, когда заря размыкала верхушки лиственниц. Сам он спал всегда у костра, под рваным заячьим одеялом, на кабарожьей шкуре. Роса ложилась на его лицо.
Он слышал, как по вечерам Небываев назначал дежурных, которые засыпали так же скоро, как и все. Боясь, что их накажут, Олешек вползал в палатку, едва только забрезжит, и тихо звал:
– Дежурный!
Он не понимал, почему им запрещают спать, но слово «дежурный» ему нравилось. Полюбил он еще говорить: «как же», и когда Небываев спрашивал его: «Скоро ли приедем в Аян?», он отвечал с улыбкой: «Как же!»
Олешек имел доброе сердце и заботился об отряде, как подобает проводнику. Ему сказали в стойбище: «Веди красных, куда они хотят». Он согласился и только попросил для них шестнадцать пар запасных олочей и восемь оленьих шкур. Женщины сшили олочи, а мужчины дали шкуры для постелей, и Олешек сделал из этого половину вьюка; на другую же половину положил ящик со спичками, ибо не было у русских другой вещи, такой же легкой, как тунгусская обувь.
Но на третий день после Лосевых Ключей Олешек увидел рану на спине оленя, несшего этот вьюк, и удивился. Ящик со спичками показался ему теперь тяжелым. Он попросил Небываева открыть его. Там нашли вместо спичек свежие ветки и землю.
Командир Десюков поднял над Олешеком кулак:
– Кто сделал? Говори!
Небываев остановил его. Но и он вспомнил белую урасу Осипа, разговор с Прокофием по-тунгусски и пристально посмотрел на Олешека.
– Как же! – взволнованно крикнул Олешек. – Прокофий тоже родился в тайге. Он не сделает… он знает… Ведь в тайге без огня – смерть.
– А Осип? – спросил, тоже волнуясь, Небываев.
– И Осип не сделает, потому что он – тунгус.
Партизаны стояли, удрученные, вокруг костра, не принимаясь за пищу. Каждый шарил в карманах, отыскивая спички. Набралось пять коробок. И было решено каждую спичку расщеплять пополам и всем закуривать сразу.
Олешек показал Небываеву на свой кремень и огниво, висевшие на поясе рядом с ножом. Пока партизаны обедали, он сделал трут из березовой губки, размягчил ее ударами палки, вымочил в порохе и высушил у костра. Потом каждому дал прикурить по два раза и снова стал беспечным.
Перешли реку Киран, перешли реку Жеголь, и пошел дождь. Днем он шумел в траве и в хвое. Ночью лил из необъятного мрака. Иногда он ненадолго стихал, чтобы снова стеной упасть на землю.
Два дня сидели в палатке, слушая, как работает вода. Беспрерывно топили железную походную печку, В палатке стоял пар. Когда же печка остывала, с парусины над головой свисали капли. Десюков иногда касался их пальцем, и струйка воды стекала за рукав. Он ежился и говорил со скрытой тоской:
– Нанялся к нам дождичек грызть галеты.
Небываев тоже думал о припасах. Задержка была некстати. Мясные консервы подходили к концу. Муки и галет оставалось дня на три.
– Олешек, скоро ли мы будем в Аяне? – спрашивал снова Небываев.
– Как же, как же! – отвечал с улыбкой Олешек.
Тайга просыхала медленно. Душно пахло корой. В траве стояли лужи. Целый день шлепали по ним олени. Идти было тяжело. Партизаны не видели больше тропы. Олешек стал осторожней и улыбался реже. Он теперь последним уходил с привала, осматривал вьюки и насухо вытирал мокрые спины оленей. Он подбирал с земли брошенные жестянки из-под консервов и вешал их на ветки.
– Трава, как вода, все скрывает, – говорил он с укоризной русским. – А дерево все открывает. Думать надо о тех, кто идет позади нас. Может быть, охотник напьется из этой жестянки и сварит себе мясо…
На следующий день подошли к реке Немуй. Она гремела, переполненная вчерашним дождем. Вода в ней была белеса. По перекату тащились черные стволы.
– Я никогда ее такой не видел, – сказал с тревогой Олешек. – Спустимся к морю: там песок и мелко – и всего лишь день пути.
– Нет, – ответили партизаны. – Дорог день.
Каждый взял оленя за повод и вошел в воду. Ледяная струя ударила под колени, точно плеснула свинцом. А впереди гудел перекат. Маленький Ким вскрикнул и выскочил обратно на берег. Устинкин качался, не трогаясь с места. Ему подали палку, чтобы помочь.
Тогда Олешек срубил длинный шест, сел верхом на оленя и погнал его в реку. Он задирал оленю голову, чтобы тот не смотрел в быстрину. Шест, упертый в дно, придавал устойчивость.
Партизаны последовали за Олешеком. Небываев ехал последним на олене, навьюченном мукой и галетами. Он боялся за вьюки и слишком часто натягивал повод. Голенастые ноги оленя расходились врозь, дрожали. Тяжел седок, скользки камни, сильна вода.
Было уже близко от берега. И вдруг олень начал падать на бок. Засинели белки в расширенных глазах. Вода коснулась языка, прикушенного от боли. Олень тонул. У него был сломан хребет.
С замершим сердцем Небываев встал на ноги, шатаясь под ударами струи и крепко схватившись за вьюк. Он взял поводья в зубы. Он уперся шестом в камень. Реку словно тащило вперед вместе с дном. Небываев закрыл глаза, чтобы не смотреть вниз. Только бы не снесло вьюки, только бы тело оленя не сшибло его с ног!
Близко звенели камни. Вода колотила по бедрам. Небываев открыл глаза и увидел шест, протянутый ему Десюковым. Партизаны цепью стояли в воде, держась за руки. Олешек накинул аркан на рога оленя и потащил его к берегу.
Олень был мертв. Олешек тут же отрезал ему голову и начал свежевать.
В этот вечер ночевали у подножья гор Джуг-Джура и ели много мяса.
Устинкин из подмоченной муки сделал пирожки с олениной. Он любил поесть и за стряпней мог проводить ночи. Несколько раз Небываев просыпался от гнуса и все видел Устинкина у костра. Тот пек пирожки на раскаленной земле, засыпая их горячей золой, потом жарил мясо, коптил язык, вываривал из костей мозг.
Он как бы предчувствовал голод.
Утром партизаны были сыты в последний раз. От муки и оленя ничего не осталось. Целый день потом скрипела на зубах зола.
А впереди был Джуг-Джур, лысые гольцы под небом, – пустота, наполненная громом воды.
Безлесная долина лежала у самого подножья, И здесь, внизу, было хорошо. Трава поднялась после ливня. В траве качались лиловые ирисы и огромные, без запаха, ландыши. Было солнечно. Гудела пчела над багульником. И партизаны немного помечтали о пасеках, о дворах и скоте.
Три ущелья выходили на эту долину, давая начало ручьям, стекающим в Немуй. Ни тропы, ни следа. Только трава и ирисы. В какое же ущелье войти? Разделенные узкими кряжами, они одинаково шумели мелколесьем.
Олешек смотрел вдаль, на гольцы и сопки. Он ездил в Аян только по зимней тропе, летом же был здесь впервые. Сомнение на минуту овладело им. Сомнение и стыд, – ибо какой же тунгус ищет тропу, когда охотится за зверем? Он, как птица, находит дорогу домой.
И Олешек вошел в среднее ущелье. Здесь он увидел след и обрадовался. На берегу ручья валялись обугленные сучья, а на камне рядом лежал заржавленный топор. Олешек присел на корточки, задумался. Топорище глядело на запад, – значит охотник ушел на восток, в это ущелье. Тропа должна быть там. Тунгус садится лицом туда, куда идут его ноги, и никогда не кладет топора топорищем вперед. Олешек не сомневался в том, что это был тунгус. Ни якут, ни русский не прилаживают такой длинной ручки к своему топору. Одно только смущало Олешека – почему так торопился охотник?
Подошли партизаны. Небываев спросил:
– Что ты увидел?
Олешек показал ему топор.
– А топорик-то хорош! – сказал Устинкин.
Он взял его, помахал им и сунул за пояс. Олешек с изумлением взглянул на него.
– Нельзя, – сказал он, протягивая руку к топору.
– Вот чудак, – в свою очередь удивился Устинкин. – Ведь не украл же ты его – нашел.
– Нельзя, – повторил настойчиво Олешек. – Мы, овены, думаем о тех, кто идет впереди нас. Может быть, охотник вернется. Он будет рад. Никто не возьмет его топора.
И Олешек воткнул топор в толстую осину и пошел прочь, больше не глядя под ноги.
Ему нечего было искать, когда путь найден. Но если бы он смотрел, если бы не был так молод и беспечен, то увидел бы новый след человека и положенный через след сучок[47]47
У тунгусов-охотников есть разные знаки, часто заменяющие им письменность. Сучок, положенный поперек следа, запрещает идти в этом направлении. Ветка, воткнутая в зарубку на дереве, говорит, что близко есть человек.
[Закрыть].








