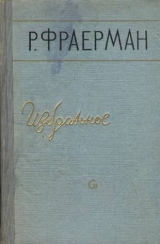
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Рувим Фраерман
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Вода лилась из бочки в жестяную лейку с таким славным шумом, будто это была вовсе не старая вода, запертая в гнилой бочке, а маленький водопад, только что родившийся высоко в горах, под камнями. Голос его был свеж и полон благодарности к этой девочке, которая одним движением руки освободила его и предоставила возможность бежать куда угодно. Он громко звенел и так красиво жгутом сворачивал в воздухе свою струю, может быть, из одного только желания обратить ее внимание на себя.
А Таня вовсе не слышала, не замечала его. Держа деревянную затычку в руке, она думала об отце. Разговор с Филькой сильно встревожил ее память.
Но трудно думать о человеке, которого никогда не видала и о котором ничего не помнишь, кроме того, что он твой отец и живет где-то в Москве на Маросейке, дом № 40, квартира 53. В таком случае можно думать только о себе. А что касается себя, то Таня давно уже пришла к заключению, что она не любит его, не может любить, да и не должна. Ах, она знает все отлично! Он полюбил другую женщину, он оставил мать, он ушел от них много лет назад, и, может быть, у него есть уже другая дочь, другие дети. Что же он тогда для Тани? И пусть мать не говорит о нем только одно хорошее. Это ведь гордость, не больше. Но и ей, Тане, доступна она. Разве не из гордости она всегда молчит о нем? А если и приходится вымолвить несколько слов, то разве сердце ее при этом не разрывается на части?
Так думала Таня, а вода из бочки все текла, текла, и маленький водопад все шумел и прыгал, оставленный без всякого внимания. Давно наполнил он жестяную лейку Тани и бежал по земле, теперь уже не боясь, что его снова запрут. И, добежав до Тани, притронулся к ее ногам. Но и это не заставило обратить на него внимание. Тогда он побежал дальше, к грядке с цветами, сердясь и шелестя по-змеиному меж черных камешков, валявшихся повсюду на дорожке.
И лишь крик няньки вывел Таню из раздумья.
Старуха стояла на крыльце и кричала:
– Чего балуешься? Всю воду выпустила. И сама вымокла. Посмотри на себя. Или не жалко тебе маминых денег, – ведь мы за воду деньги платим!
Таня посмотрела на себя. В самом деле, руки ее были в земле, тапочки разорваны камнями, а чулки мокры от воды!
Она показала их няне. И старуха перестала кричать, а только всплеснула руками. Она принесла ей из колодца свежей воды, чтобы помыться.
Колодец был далеко от двора, а вода холодна. И пока Таня смывала пыль и грязь, нянька помаленьку ворчала.
– Растешь ты, как я погляжу, быстро. Вот уж пятнадцать скоро, – говорила она, – а все никак в свое положение не придешь. Думная ты уж очень.
– Это что же значит? – спросила Таня. – Умная?
– Да не умная, а думаешь много, от чего и подуравей выходишь. Иди, иди, сухие чулки надень.
У нее был свой особый язык, у этой старухи с согнутой спиной и твердыми, жилистыми руками, которыми она так часто умывала Таню в детстве.
И Таня, сняв на пороге мокрую обувь, вошла в свой дом босиком.
Она пригрела ноги на ковре матери, на дешевом коврике из оленьей шкуры, вытертой в разных местах, и засунула руки под подушку, чтобы тоже согреть их. Вода из колодца была действительно холодна! Но еще холодней показалась ей твердая бумага, захрустевшая под ее пальцами.
Она вынула из-под подушки письмо. Оно было немного измято, с разорванным краем, – читанное уже несколько раз письмо.
Что это? Мать никогда не прятала под подушку своих писем.
Таня посмотрела на конверт. Письмо было к матери от отца. Таня узнала это по тому, как сильно стукнуло ее сердце, и еще по тому, что внизу прочла она адрес отца. Значит, он очень боялся, что письмо не дойдет, если на самом краю написал так старательно: Маросейка, дом № 40, квартира 53.
Таня положила письмо на постель и босая прошлась по комнате. Потом спрятала его обратно под подушку и снова прошлась по комнате. Потом взяла и прочла:
«Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, но, должно быть, письма мои не доходят, ведь вы так далеко живете – совсем на другом краю света. Моя давнишняя мечта, наконец, исполняется – меня назначили на Дальний Восток. Буду служить как раз в вашем городе. Вылетаем на самолете втроем – с Надеждой Петровной и Колей. Его уже приняли в вашу школу, в седьмой класс. Ты ведь знаешь, как дорог нам с Надей этот мальчик. Во Владивостоке сядем на пароход, ждите нас первого числа. Подготовь, прошу тебя, Танюшу. Мне страшно тебе признаться, Маша, как я виноват перед ней, не в том, что мы с тобой разошлись, что все так случилось в жизни у тебя, у меня, у Нади. Не в этом я виноват перед Таней. Но я так часто забывал о ней. Да и она мне тоже очень редко писала, И даже в тех редких письмах, когда она только научилась писать, когда рука ее с трудом выводила по три слова на одной странице, – я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся – вот что меня немного страшит. Ведь ей было только восемь месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ножки, и пальцы на них были не больше горошин, и руки с красными ладонями. Я так хорошо это помню…»
А Таня ничего не помнила. Она посмотрела на свои босые ноги, смуглые до самых колен, с гладкой кожей, крутым сводом, подпирающим легкую ступню. На них так удобно стоять. Посмотрела еще на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, с сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе? Ведь даже посеяв горох близ дороги, человек приходит проведать его по утрам и ликует, видя всходы поднявшимися хоть на самую малость. И Таня горько заплакала.
А поплакав, ощутила успокоение, и радость пришла к ней сама, как приходят голод и жажда: «Ведь это же отец приезжает!» Таня вспрыгнула на кровать, расшвыряла подушки на пол. Потом легла ничком и так лежала долго, смеясь потихоньку и плача, пока не вспомнила вдруг, что вовсе не любит отца. Куда же исчезла ее гордость? Не этот ли мальчик Коля отнял у нее отцовскую любовь.
– А все-таки я ненавижу их, – сказала она.
И снова, то отливая, то приливая, овладевала ее сердцем обида.
Таня вскочила на колени и с силой стукнула кулаком по раме.
Окно раскрылось под ее ударом, и Таня снова увидела Фильку – в третий раз за этот день.
Нет, видно, в его сердце ни тумана, ни обиды, какие ощущала в себе Таня.
Он сидел на завалинке под окном и держал на коленях атлас.
– Нет такой страны – Маросейка, – сказал он. – Есть далекая страна Марокко, есть остров Майорка, который захватили фашисты. А это не остров, не полуостров, не материк. Зачем ты обманываешь меня?
А Таня смотрела на Фильку, будто не видя его, будто глядела сквозь него на песок.
– Молчи, молчи, Филька, – сказала она. – Все равно не люблю.
– Разве я обидел тебя чем-нибудь? – спросил Филька.
И руки его опустились, как только заметил он еще не остывшие на ресницах Тани слезы. Душевная слабость охватила его.
И так как Фильке солгать не стоило никакого труда, как и сказать правду, он хлопнул ладонью по атласу и воскликнул;
– Есть такая страна Маросейка! Этот проклятый атлас никуда не годится. Он совсем не полный! Я даже отлично помню, как учитель говорил нам о ней.
Таня только сейчас услышала Фильку, И его простодушная ложь вернула ей покой.
«Вот кто будет мне постоянным другом, – решила она. – Ни на кого я не променяю его. Разве не делился он со мной всем, что у него есть, даже самым малым?»
– Филька, – сказала она, – я не о тебе говорила. Я говорила о другом мальчике, которого зовут Коля. Ты прости меня.
А Филька простил уже давно, едва только с губ ее слетело первое слово, сказанное более ласково, чем другие.
– Если это о другом, – сказал он, – то ты можешь его не любить. Мне это все равно. Однако почему ты его не любишь?
Таня не ответила сразу, но, помолчав немного, спросила:
– Как, по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет?
– Должен, – ответил Филька твердо. – Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем другое дело. Тогда вспомни обо мне, если потребуется тебе крепкая рука или аркан, которым ловят оленей, или палка, которой я научился владеть хорошо, охотясь в тайге за дикушами.
– Но ведь ты его совсем не знаешь, за что же ты будешь его бить?
– Но я знаю тебя, – возразил ей Филька.
И эта мысль – платить за обиду не слезами, а ударом – показалась ей в этот момент не глупой и вполне ясной, лишенной всякой смутности, какую она ощущала в себе. Она и сама умела отлично сбивать с деревьев дикуш, метко кидая в этих смирных птиц тяжелые камни и сучья.
Но через минуту она подумала: «Я, кажется, делаюсь злой».
А Филька вдруг шагнул от окна налево, в смущении глядя поверх Таниного плеча, и, прижав свой атлас локтем, неожиданно кинулся со двора.
Близко за плечами Тани стояла мать. Она вошла неслышно. В дождевом плаще, в белом докторском халате, она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так, предмет, поднесенный близко к глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду-две неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расходящиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для них, – мать никогда не умела заботиться о себе, – и худые, слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами. И в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она поцеловала мать осторожно, избегая притронуться к глазам, словно боялась своим движением погасить их взгляд.
– Мама, – сказала Таня.
Мать обняла ее.
– Я торопилась домой, – сказала она. – Я соскучилась по тебе, Танюша.
Она оглядела дочь долгим пристальным взглядом. Сначала взглянула на волосы – они выцвели сильно, стали совсем как сталь; потом посмотрела в лицо – оно было горячим и на коже пылал загар.
«Ей было в лагере хорошо», – подумала мать.
Затем поглядела на ее ноги и удивилась, что Таня сидит босая. Тогда лишь увидела она беспорядок: подушки, валявшиеся на полу, смятую кровать и на кровати письмо, вынутое из конверта.
И тогда взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской, погас сам собой, словно ветер, налетевший внезапно, возмутил его ясность. В нем появились беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель?
– Ты прочла это без меня, Таня? – тихо спросила мать.
Таня безмолвно опустила голову.
– Ты должна быть рада, Таня.
Но и на этот раз с ее губ не слетело ни звука. А мать терпеливо ждала.
– Мама, этот мальчик мне брат? – спросила Таня.
– Нет, – ответила мать. – Он чужой. Он только племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит его и жалеет, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Папа – добрый человек. Я всегда говорила тебе об этом.
– Значит, он мне чужой, он мне даже не брат, – сказала Таня, наклонив голову еще ниже.
Мать тихим движением подняла ее лицо и поцеловала два раза.
– Танюша, милая, мы с тобой поговорим. Мы обо всем поговорим. Ты встретишь их, Таня, и увидишь сама. Отец будет рад. Ты ведь пойдешь на пристань, правда?
– А ты, мама?
Но мать отвернулась от ее внимательных глаз.
– Я, Таня, не могу. Ты ведь знаешь, мне всегда так некогда.
И, отвернувшись, она почувствовала, как Таня спрятала голову под ее слабую руку и крепко прижалась к ней.
– Мама, я люблю только тебя. Я буду всегда с тобой. Ни с кем никогда, никого мне, не нужно. Я не пойду их встречать.
IVЭто было удивительно, но цветы, которые Таня высадила на грядку, еще жили в то утро, когда должен был приехать отец.
Сердитый ли ручеек, вылившийся из бочки, так хорошо омыл их корни, или они просто были живучи, как многие цветы на севере, который не дает им запаха, хотя и оставляет долго жить, но во всяком случае они держались на своих высоких ножках, когда Таня взглянула на них. Она решила их никому не отдавать.
Она прогнала утку, усевшуюся среди цветов на грядке, и посмотрела вверх, на каланчу. Деревянная, она царила над этим городом, где во дворах на заре распевали лесные птицы. На ней еще не поднимали сигнального флага. Значит, парохода еще не было видно. Он мог и опоздать. Но Тане было мало дела до флага. Она вовсе не собиралась идти на пристань. А если она и перехватила свои тонкие волосы лентой и сменила платье, надев самое лучшее, то это могло быть и потому, что сегодня в самом деле праздник; начинается новый учебный год.
Но до школы еще так долго ждать. Зачем же она поднялась так рано? «Что же делать, если не спится? – сказала бы она матери, если бы та проснулась от скрипа двери в доме. – Что же я могу поделать, – повторила б она, – если сегодня я вовсе не могу заснуть».
Но придет ли когда-нибудь пароход? Существует ли он на самом деле? Или это призрак, для которого вовсе нет никакого места, никакого срока и который плывет сейчас, может быть, по другой реке и другой туман стоит за его кормой.
Здесь, во дворе, тоже туманно немного. Еще ветви берез блестят от капель ночного тумана, ствол влажен – дерево еще не очнулось от сна.
Слишком рано вышла Таня из дому, очень рано. Однако слышны уже в переулке шаги. Они стучат по земле, они звенят по камню. Кто-то спешит на пристань. Брат ли идет встречать сестру, или отец спешит обнять сына, или просто рыбак ждет с пароходом вестей? А может быть, это и Филька торопится в последний раз перед школой половить у пристани ершей?
Таня присела на скамью у ворот.
Она слушала. И слух Тани чутко бодрствовал среди сонной травы, дремлющей под ее ногами, и сонных ветвей, дремлющих над ее головой.
И далекий свисток, такой далекий, что только в ожидании может сердце услышать его, коснулся слуха Тани. Это свистел пароход за Черным мысом у маяка.
Таня открыла калитку и вышла и снова вошла во двор, постояв неподвижно у цветов. Не сорвать ли их все-таки, пока они еще живы и могут доставить радость отцу? Это ведь все, что у нее есть.
И Таня сорвала цветы – саранки и ирисы, еще прежде выращенные ею с заботой.
Затем она позвала собаку. Тигр охотно вышел с ней на улицу. И они прошли через весь город, который еще не совсем проснулся. Только одна каланча никогда не знала сна. Крошечная дверь наверху, похожая на бойницу, была открыта навстречу ветру. И флаг был поднят и тянулся все в одну сторону – к реке.
К реке направлялись и прохожие, спешившие на пристань.
Таня на секунду остановилась у спуска, чтобы сверху посмотреть на родную реку. О, какая светлая она, хотя темные от хвои горы рядами стоят на берегу! О, какая большая – даже тень от этих гор не может ее закрыть! Не по ней ли хотелось плыть Тане далеко, в иные страны, где обитает дикая собака динго. Не плывет ли она к ней сама?
А пароход подходил уже близко. Черный, кряжистый, точно скала, он все же казался малым для этой реки, терялся в ее светлой равнине, хотя рев его долго отдавался в глубине лесистых гор.
Таня стремглав бросилась по спуску вниз. Пароход уже отдавал причалы, чуть навалившись на пристань, полную народа. А на пристани тесно от бочек. Они повсюду – и лежат, и стоят, точно кубики лото, в которое только что играли великаны.
С парохода махали платками. Не ей ли это? Она побледнела. Она тоже помахала рукой, через силу подняв ее кверху. Ах, это просто забавно! Как в толпе она узнает отца, которого никогда в своей жизни не видала? И как он узнает ее? Она не подумала об этом, когда бежала на пристань. Зачем поддалась она невольному желанию сердца, которое теперь так стучит и не знает, что ему делать; умереть от обиды или стучать еще сильней?
И вот стоит она теперь с жалкими цветами возле бочек, и старая собака лижет ее ноги, не в силах ей ничем помочь.
А пассажиры проходят мимо.
Может быть, вот они – их трое: он в шляпе, блестящей от ворса, женщина стара, а мальчик высок и худ и в достаточной мере противен.
Но нет, они проходят мимо, никуда не глядя, никого не ожидая встретить.
Или, может быть, вот они – их тоже трое: он толст, в кепке из толстого сукна, она молода и некрасива, а мальчик тоже толст и противен еще в большей мере.
«Да, кажется, они».
Таня шагнула вперед. Но взгляд человека был сух и недолог, а толстый мальчик показал рукой на цветы и спросил:
– Ты продаешь их?
Дрожа от обиды, Таня отошла в сторону. Она не вскрикнула. Она только спряталась за бочки и здесь простояла до самого конца. Никого уже не было на пристани. Не гремели доски под шагами. Все ушли, чего стоять? Они просто не приехали сегодня.
Таня вышла из-за бочек. Уже матросы отправились в город, и мимо прошли санитары с носилками. Они всегда уходили последними. Таня пошла с ними рядом.
На носилках под суконным одеялом, вытянув ноги, лежал мальчик. Лицо его было багрово от жара. Однако он был в сознании и, боясь вывалиться, крепко держался за края носилок. От этого усилия или, может быть, от страха смущенная улыбка бродила на его губах.
– Что с ним? – спросила Таня.
– На пароходе заболел. Малярия, – коротко ответил, санитар.
Заметив Таню, идущую рядом, мальчик подавил свой страх, лег прямо и долгим, немного воспаленным взглядом посмотрел на Танино лицо.
– Ты плакала недавно? – спросил он вдруг.
Таня закрыла цветами свой рот. Она поднесла их к лицу, словно эти несчастные саранки имели когда-нибудь приятный запах. Но что может знать этот больной мальчик о запахе северных цветов?
– Ты плакала, – твердо повторил он снова.
– Что ты, мальчик! – ответила Таня, кладя к нему на носилки цветы. – Я не плакала.
И человек, последним сбежавший с трапа на пристань, уже никого не увидел на ней, кроме одинокой девочки, печально поднимающейся в гору.
VЭтот первый день в школе, радостный для всех других детей, был тяжелым днем для Тани. Она вошла одна на школьный двор, вытоптанный детскими ногами, Сторож отзвонил уже.
Она толкнула тяжелую дверь. В коридоре, как и на дворе, было светло, пусто, тихо. Неужели она опоздала?
– Нет, – сказал ей сторож, – беги скорей. Учителя еще не расходились по классам.
Но она не в силах была бежать. Медленно, точно продолжая взбираться на крутизну, шла она по длинному натертому воском коридору, а над ее головой висели плакаты. Во все десять огромных окон освещало их солнце, не утаивая ни единой запятой. «Ребята, поздравляем вас с началом нового года». «Добро пожаловать!» «Будем учиться отлично».
Маленькая девочка с тонкими косичками, завитыми на кончике в кольцо, пробежала мимо Тани и на бегу обернулась к ней.
– Их бин, ду бист, ер ист! – прокричала она по-немецки и показала ей язык.
Девочка уже исчезла за поворотом, а Таня остановилась у высоких дверей. Тут ее новый класс. Дверь была закрыта, и в классе шумели. И этот шум, как милый шум реки и деревьев, с ранних лет окружавший ее, привел в порядок ее мысли. Она, словно мирясь сама с собой, сказала: «Ну ладно, забудем все».
Она распахнула дверь. Громкий крик встретил ее на пороге.
А она уже улыбалась. Так человек, вошедший с мороза в избу, еще не различая с холода ни лиц, ни предметов в доме, все же улыбается заранее и теплу, и словам, которые еще не сказаны, но которые, – он знает, – не будут враждебны ему.
– Таня, к нам! – кричали одни.
– Таня, с нами садись! – кричали другие.
А Филька сделал на парте стойку – прекрасную стойку, которой мог бы позавидовать каждый мальчик, хотя вид у него был при этом печальный и он более внимательно, чем другие, смотрел Тане в глаза.
А Таня все улыбалась.
Она выбрала Женю в подруги и села с ней рядом, как сидела в лагере у костра, а Филька поместился сзади.
И в ту же минуту в класс вошла Александра Ивановна – учительница русского языка.
Она поднялась на кафедру и тотчас же сошла с нее.
Затем она приблизилась к детям настолько, что между ними и ею уже не было никаких преград, кроме собственных недостатков и достоинств каждого. А была она молода, лицо имела свежее, взгляд светлый и спокойный, невольно привлекавший к себе внимание самых отчаянных шалунов. И всегда на ее черном платье сияла маленькая звездочка, выточенная из уральского камня.
И странно, ее свежесть и молодость дети никогда не принимали за неопытность, над которой они не упустили бы случая посмеяться.
Они никогда не смеялись над ней.
– Ребята, – сказала она, после долгого летнего перерыва пробуя свой голос. Он был у нее по-прежнему глубок и тоже невольно привлекал к себе внимание. – Ребята, сегодня праздник, мы начинаем учиться, и я рада, что снова с вами, снова буду вашим классным руководителем – вот уже седьмой год. Все вы выросли за это время. Но все же учились вы всегда отлично.
И она, разумеется, до конца сказала бы все, что полагалось сказать детям перед началом учебного года, если бы в класс в это время не вошли два новых ученика. Это были те самые мальчики, которых Таня встретила на пристани утром. Один – худой и высокий, другой – с толстыми щеками, придававшими ему вид настоящей шельмы.
Все посмотрели на них с любопытством. Но никто из этих сорока мальчиков и девочек, беспокойно сидевших на партах, не поглядел на них с таким ожиданием, как Таня. Вот сейчас она узнает, кто из них причинил ей такую муку. Может быть, это все-таки «они». Учительница спросила, как их зовут.
Толстый мальчик ответил:
– Годило-Годлевский.
А худой сказал:
– Борщ.
Все засмеялись.
«Значит, в самом деле «они» не приехали, – подумала с облегчением Таня и снова сказала себе: – Ладно, пока забудем все».
Зато учительнице смех, зазвеневший в классе, не возвещал хорошего начала.
Однако она сказала:
– Итак, мы начнем занятия. Я надеюсь, что за лето, ребята, вы ничего не забыли.
Филька громко вздохнул.
Учительница секунду смотрела на него. Но взгляд ее не был строгий. Она решила быть сегодня снисходительной к детям. Все же это их праздник, и пусть кажется им, что сегодня она у них в гостях.
– Что вздыхаешь, Филька? – спросила она. Филька поднялся со скамьи.
– Я встал на рассвете сегодня, – сказал он, – чтобы написать своему другу письмо, и отложил его в сторону, потому что забыл, какие знаки нужно поставить в таком предложении; «Куда ты утром так рано уходила, дружок?»
– Плохо, если ты забыл, – сказала учительница и посмотрела на Таню. Та сидела с опущенными глазами, И, приняв это за желание избежать ответа, Александра Ивановна сказала: – Таня Сабанеева, не забыла ли и ты, какие знаки препинания нужны в этом предложении? Скажи нам правило.
«Что ж это? – подумала Таня. – Ведь он обо мне говорит. Неужели же все, и даже Филька, так жестоки, что ни на минуту не дают мне забыть то, что всеми силами я стараюсь не помнить?»
И, так думая, она ответила:
– В предложении, где есть обращение, требуется запятая или восклицательный знак.
– Вот видишь, – обратилась к Фильке учительница, – Таня отлично помнит правило. Ну-ка, иди к доске, напиши какой-нибудь пример, в котором было бы обращение.
Филька, подойдя к доске, взял в руки мел.
Таня сидела по-прежнему с опущенным взглядом, чуть заслонившись рукою. Но и заслоненное рукою лицо ее показалось Фильке таким убитым, что он пожелал себе провалиться на месте, если это он своей шуткой причинил ей хоть какое-нибудь огорчение.
«Что с ней делается?» – подумал он.
И, подняв руку, мелом написал на доске: «Эй товарищь больше жизни!»
Учительница развела руками.
– Филька, Филька, – сказала она с укоризной, – все ты забыл, решительно все. Какие уж там запятые! Почему ты слово «товарищ» пишешь с мягким знаком?
– Это глагол второго лица, – ответил без смущения Филька.
– Какой глагол? Почему глагол? – вскричала учительница.
– Конечно, глагол второго лица, – с упрямством ответил Филька. – Товарищ! Ты, товарищ, что делаешь? Отвечает на вопрос «что делаешь».
Громкий хохот прошелся по всем скамьям, заставив Таню поднять лицо. И когда Филька снова взглянул на нее, она уже смеялась своим милым смехом громче всех остальных.
Филька, чуть ухмыльнувшись, стряхнул со своих пальцев мел.
Филька был доволен.
А учительница с недоумением следила за ним, слегка прислонившись к стене.
Как этот мальчик, которого она ценила за его быстрый ум и находчивость, мог быть доволен своей грубой ошибкой? Нет, тут кроется нечто другое. Дети обманывают ее. А она-то думала, что хорошо знает детское сердце.








