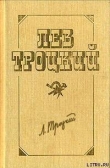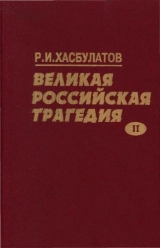
Текст книги "Великая Российская трагедия. В 2-х т."
Автор книги: Руслан Хасбулатов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 61 (всего у книги 66 страниц)
Самый короткий путь к российской конституционно-демократической модели общественного устройства видится, во-первых, в историческом опыте России и критическом анализе использования многими странами проверенной двумя веками теории разделения власти, когда усиление мощи государства идет через разделение власти по горизонтали и вертикали – четкой вертикальной субординации и горизонтальной взаимозависимости; во-вторых, в теории и практике федерализма.
При анализе государственного устройства важно определить его конкретную форму, под которой понимается способ территориально-политической организации, определяемый принципами взаимоотношений между центральными и местными органами государственной власти. Наличие конкретной формы государственного устройства в определенной стране зависит от целого ряда социальных, национальных, географических, исторических и других факторов.
В современной науке государственного (конституционного) права выделяют две основные формы государственного устройства – унитарную и федеративную. Федеративная форма в отличие от унитарной сложна и разнообразна и в каждом конкретном случае имеет уникальные специфические особенности.
Необходимо отметить, что понятия “федерация” и “федерализм” не совпадают. Федерация – это форма государственного устройства, предполагающая образование единого государства из нескольких государственных образований, обладающих определенной юридической и политической самостоятельностью. Понятие “федерализм” шире и сложнее понятия “федерация”, поскольку включает в себя не только теорию федеративного государства, но и обозначает принцип политической организации, который позволяет объединить независимые государства под общим центральным правительством, оставляя им определенную долю прав.
Основная проблема любой федерации – разграничение компетенции между центром и субъектами федерации, определяющее меру децентрализации, то есть степень относительной самостоятельности составляющих ее субъектов. Существуют различные подходы к тому, как должно происходить это разделение. Одни считают, что федерация существует до тех пор, пока есть четкое разграничение функций и полномочий, другие стоят на позиции, что современный уровень развития не требует строгого разделения власти между различными уровнями, если это позволяют условия или к этому приводит логика развития государства (например, концепция “нового федерализма” в США). На практике одним из самых сложных вопросов остается вопрос о юридическом и фактическом разграничении компетенции между центром и субъектами. В мире накоплен богатый положительный опыт в этом направлении и столь же много ошибок, неудач и просчетов, которые мы стараемся учитывать, что помогает на этом сложном направлении парламентской деятельности.
Парламент взялся осуществить программу Федеративного договора, властью оживить модель российского конституционно-демократического государства. Эта долговременная перспективная проблема эволюционного пути развития России реализуется.
В федеративном государстве существуют (взаимодействуют и противоборствуют) две тенденции: центростремительная и центробежная. Предельно упрощая проблему, можно сказать, что одна стремится к организации, порядку и даже деспотизму, в то время как другая – к дезинтеграции, хаосу и, возможно, анархии. Федеративное государство может развиваться только как результат взаимодействия этих двух сил, как компромисс между двумя крайностями – чрезмерным централизмом и анархией.
Федерализм обладает уникальным качеством – спсобностью приспосабливаться к постоянно меняющемуся социальному, политическому и экономическому состоянию динамически развивающегося общества. И хотя в настоящее время преобладает унитаризм, федерация является достаточно распространенной формой государственного устройства благодаря как историческому развитию, так и отмеченным выше достоинствам. Федерализм сегодня – это одна из самых жгучих проблем, ибо это проблема поиска наиболее оптимальной формы государственного устройства, позволяющей стабильно развиваться всем регионам и всем народам России.
Многие настаивают на том, что благом для России было бы, если бы она перестала существовать как единое государство и превратилась в систему близко или не очень связанных друг с другом государственных (или, что, вероятно, тогда было бы точнее: государственно-подобных) образований. Есть и те, кто, напротив, настаивает на унитарности как на наиболее традиционной для России форме государственного устройства, позволяющей успешно противодействовать межэтническим конфликтам. Между тем ясно, что Федеративный договор, заключенный в конце марта сего года и впоследствии ставший согласно решению шестого Съезда народных депутатов России частью Конституции Росийской Федерации, недвусмысленно формулирует третий путь развития России – путь специфического федерализма. На мой взгляд, именно идея федерализма может стать той идеей, реализация которой даст искомый результат с точки зрения формы государственного устройства. Здесь срабатывает двойное видение каждой проблемы: с позиций федерации и субъекта федерации. При этом надо оценивать применимость этой идеи для России, рассчитывать механизм ее реализации необходимо, учитывая вероятностное развитие СНГ.
Если попытаться кратко выразить суть федерализма, то это установление единого государственного порядка с помощью механизма соглашения. В основе федеративного государства лежит согласие всех частей этого государства самоосуществлять себя как единое государство. Сами формы достижения такого согласия могут быть различными. При этом федеральная система выражает себя как на правовом уровне, так и на уровне установления определенных институтов.
Собственно говоря, соглашения между народами и государствами для достижения общих целей – обычная практика, установившаяся давно. Таким образом формировались в основном военные союзы. В Древней Греции, из которой вышли практически все основные формы современного государства, между вечно враждовавшими друг с другом полисами очень быстро устанавливалось военное сотрудничество, когда дело доходило до нападения внешних врагов. Однако военный союз – очень нестабильное явление, и его развал следовал практически сразу после исчезновения угрозы. Как показывает современная практика, и экономический союз при своем тяготении к созданию определенных институтов также долгое время способен оставлять неизменным статус входящих в него государств. В федеративном государстве просматриваются по меньшей мере несколько факторов, позволяющих народам и регионам сблизиться до создания или поддержания единой государственности.
Конечно, нельзя говорить также, что федеральное устройство – навеки. Истории известны и страны, которые, пройдя стадию союзов различного уровня между частями государства, превратились затем в унитарные государства. Таким путем развивалась Италия. Возможно выделение из состава федеративного государства какой-либо из его частей и превращение этой части в самостоятельное государство. После второй мировой войны таким образом был создан, к примеру, Пакистан, выделившийся из состава Индии. Наконец, как учит нас и собственный опыт, возможен полный распад некогда единой государственности и формирование на ее основе менее жестких союзов.
Cегодня в мире насчитывается несколько десятков федеративных государств, от таких гигантов, как Россия и США до Швейцарии и Австрии. В их число входят ведущие государства мира (США, Индия, Германия, Канада). Традиционно считается, что федеративные государства образовывались на основе установления союзных отношений (вначале конфедеративного характера) между близлежащими государствами, которые впоследствии формировали единые государственные органы, устанавливали единый правопорядок и так далее. Так возникли США. Послевоенный федерализм ФРГ, несмотря на то, что учитывались и определенные традиции создания Германии, в большей степени являлся попыткой децентрализации управления единым государством, попыткой создания определенных гарантий от восстановления авторитарного режима. Федеративное устройство Индии – это устройство, возникшее после освобождения от колониальной зависимости, которое стало одной из попыток разрешения межэтнических проблем этой страны. В ряде стран, например, Мексике, Бразилии федеральное устройство возникло в результате наделения дополнительными полномочиями провинций, преобразуемых в силу этого (по примеру США) в штаты. Но и в ряде стран Европы (например, в Великобритании, в Бельгии) под давлением национального фактора также всерьез обсуждается возможность применения по меньшей мере элементов федерализма.
Таким образом, выделить в этом многообразии конкретных условий какую-то закономерность, в которую укладывалась бы вся идея федерализма, не представляется возможным. Должны быть рассмотрены несколько факторов, которые в своей системе давали бы понимание ценности федерализма.
Вообще федерализм традиционно связывается с наличием самостоятельных государств, которые реализуют свой суверенитет также и тем, что передают часть своей конпетенции Федерации. Однако, как я пытался показать, и такой подход тоже страдает определенной однобокостью. Установление федеративных отношений в унитарном государстве возможно путем наделения регионов (республик) дополнительными полномочиями. При этом субъекты федерации, получая самостоятельные полномочия в сфере установления собственного правопорядка, координирующегося с федеральным правопорядком, и обладающие всеми возможностями формирования собственных бюджетов, в то же время не являются, разумеется, самостоятельными государствами.
Допустимо вполне, что при совершенствовании государственных институтов Российской Федерации возможно установление такого правового режима, который предполагает за субъектами Федерации наличие суверенитета, но ограниченного. В частности, это касается вопросов гражданства, установления международно-правовых отношений (при учете того, что Федерация в любом случае несет ответственность за противоправные действия своих субъектов в международных отношениях) и некоторых других полномочий. Вместе с тем важной особенностью федерации – и в этом ее отличие от конфедерации – является ограничение полного суверенитета субъектов Федерации. Это прежде всего касается права выхода субъекта Федерации из состава Федерации. Поэтому, беря на себя обязательства, вытекающие из установления федеративного устройства государства, субъекты Федерации императивно обязаны отказываться – ради создания атмосферы доверия и формирования государственной правовой стабильности – от права на выход из состава Федерации. Отказ от этого права в большей степени отразил понимание процесса интеграции всех субъектов Российской Федерации. В этом смысле Федеративный договор, ставший неразрывной частью Конституции, – выдающийся демократический прорыв, ведущий не только к укреплению самостоятельности субъектов Федерации, но и к формированию единого, неделимого, целостного федерального государства.
Давно известно, что сепаратизм в России, приводящий в действие центробежные силы и ставящий в затруднительное положение реализацию принципа федерации, носит не только и не столько национальный, сколько региональный характер. Региональный сепаратизм (регионализм) явно просматривается в идеях создания Сибирской, Дальневосточной, Уральской республик, в трудностях, которые возникли с рядом областей России в момент подписания Федеративного договора. Национальные особенности только усиливают региональный сепаратизм, но в настоящее время они скорее подавлены им. Я вполне допускаю, что некоторое “притухание” проблемы “сепаратизм-регионализм” в настоящее время связано чисто с субъективным моментом – стоит уйти из большой политики двум-трем лицам – и проблема обострится.
Однако, трудно отрицать определенную объективность регионального сепаратизма. Вот что пишет – и совершенно справедливо, на мой взгляд, – Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев: “...Побудительным мотивом такого центробежного движения служит не столько подспудное желание северных территорий выйти из состава Российской Федерации, сколько естественное чувство протеста против тех или иных форм дискриминационной политики по отношению к Северу”. И далее: “...в отношениях Москвы с северными окраинами по-прежнему звучит акцент унитарности”.
В условиях, когда экономическая политика государства не только не имеет положительных результатов, но и не приобрела видимой четкости, когда экономические проблемы решаются за счет мизерных средств местных бюджетов, когда серьезнейшей остается проблема государственного монополизма, на поддержание которого уходят ресурсы, скажем, сырьевых районов, естественно желание определенных регионов, способных по структуре продукции выйти и на международный рынок, обрести определенную независимость от пресловутого “диктата центра”. Население считает ответственными за социальные невзгоды федеральные власти, усматривая в них все зло, и это можно по-человечески понять.
Поэтому реальный федерализм, конечно же, может серьезно способствовать стабилизации региональной экономической системы. Регионы, получая механизм влияния на политику федеральных органов, способны более эффективно, не только с помощью забастовок, которые нередко ставят в критическое положение всю экономическую систему страны, противодействовать экономически неоправданной политике федеральных органов управления. Думается, что предоставление просто дополнительных экономических прав регионам без определения механизма реализации этих прав в условиях крайнего монополизма российской экономики не даст искомого результата. И в конфликте неокрепших местных экономических структур и структур прежде всего военно-промышленного и добывающих комплексов, “курируемых” федеральными органами управления, победа в конечном счете окажется на стороне последних. Правда, это будет пиррова победа. А права регионов, закрепленные как полномочия субъектов Федерации, в данном случае могут предоставить регионам дополнительные правовые механизмы разрешения коллизий с федеральными органами управления.
С этой точки зрения, федерализм в России, даже косвенным образом, может способствовать становлению рыночных отношений в экономике.
Правда, здесь также возникают определенные трудности. Во-первых, разграничение регионов не учитывает процессов формирования экономических районов, процессов экономической интеграции. Система экономической инфраструктуры не совпадает с территориальным делением страны, и это объективный процесс, так как экономическая система развивается более стремительно, чем государственно-правовая система. К тому же выпадают из анализа связи, жестко цементированные до сегодняшнего дня, на всю территорию экс-СССР, даже Прибалтику.
Подобное противоречие (между границами штатов и формированием рыночных районов) стало одной из важных проблем развития в экономической истории Федерации США, и разрешение этой коллизии привело к перераспределению компетенций в пользу Федерации (от Штатов – к Федерации). Вторым моментом является то, что региональные попытки местных властей выйти из кризиса самостоятельно не учитывают интересов всей целостности территории страны. Некоторые регионы России (если учитывать при этом как ведущий фактор выживания структуру потребностей международного рынка) могут остаться нищими со всеми вытекающими отсюда последствиями для населения. И для поддержки этих регионов требуются крупные средства, которые могут быть найдены с помощью известной уравнительной системы финансового “выравнивания”, предполагающей задействование финансовых механизмов перераспределения денежных средств в пользу попавших в сложную ситуацию регионов. Это требование мощно звучит в нашем Парламенте в форме “выравнивания стартовых возможностей регионов в условиях перехода к рынку”. Это – нелепость, которую не понимает даже Правительство. Но я тогда отчаялся убедить в этом парламентариев.
С другой стороны, такой подход предполагает усиление федеральных органов управления, но требует прежде всего отказаться от местного эгоизма. Далее, состояние экологии также потребует формирования мощных в финансовом отношении федеральных институтов. Наконец весьма часто встречаются факты того, что в некоторых регионах созданы условия, препятствующие становлению свободного предпринимательства. Причем такие условия создаются с помощью формально правовых средств, например, с помощью жесткой местной налоговой системы, “налагающейся” на федеральную. Такая ситуация также потребует усиления контрольных функций федерального Правительства. Здесь опять-таки речь идет о необходимости более высокого профессионализма.
Нередко высказывается мнение, что в период проведения реформ необходимо установление в стране авторитарного правления. Соответственно это означает формирование системы унитарного государства с очень сильной централизацией власти. К тому действительно имеются определенные предпосылки. Но известно, что жесткая система, управляемая из единого центра, обладает повышенной хрупкостью, и пример СССР показал возможность практически мгновенного распада такого рода системы. Поэтому, как это ни парадоксально звучит, гибкость федерализма способна более мягко принимать на себя социально-политические и экономические трудности, связанные с проводимой реформой.
Федерализм многим сегодняшним политическим деятелям не нравится, потому что не предполагает простых политических решений. Авторитарная система проста: решение – исполнение. А при федерализме эти элементарные управленческие команды должны сочетаться с трудным процессом достижения согласия. Но это делает федерализм важным фактором противодействия сползанию России к авторитаризму.
Позволим напомнить историю Веймарской Германии. Тем более очень многие публицисты и политики пытаются сравнить ситуацию в России в настоящее время с ситуацией в Германии конца 20-х – начала 30-х годов. А одним из факторов, который привел к тому, что установление фашистского режима не встретило практически никакого сопротивления, было то, что в руках земельных органов власти (во главе многих из которых находились представители иных партий) не оставалось правовых средств противодействия центральной власти. Дело в том, что в большинстве районов Германии в связи со сложной социальной обстановкой было введено президентское правление. И практически унитарная система очень быстро стала под партийный контроль. Попытки развития общественно-политической ситуации в таком направлении активно предпринимаются некоторыми несостоявшимися политиками.
Важным моментом, связывающим демократию с федерализмом, так сказать, изнутри, является их правовая основа. Федерализм это не только разграничение компетенции между Федерацией и субъектами, но и формально-правовое закрепление этого разграничения. В настоящее время этот процесс принял повально “договорной” характер. Договоры заключаются не только между Федерацией и ее субъектами, но и между районами о вхождении в область и так далее. Между тем договор как формальная основа разграничения компетенции – это лишь одна из форм установления федерального устройства, при этом, может быть, далеко не самая совершенная. Дело в том, что договор, во-первых, предполагает изначальное равенство сторон. Действительно, если какие-то государственные образования создают Федерацию, то они заключают Договор, и он в данном случае будет наиболее четким выражением их политико-правового положения. Однако договоры о разграничении компетенции между Федерацией и субъектами – это соглашения изначально неравноправных сторон. Поэтому и формой такого соглашения – а здесь формальный момент очень важен – должно быть нечто иное, не договор, а установление этого разграничения законом Федерации, в рамках которого сама Федерация выступает в качестве гаранта его соблюдения. Отсуда вторая проблема – гарантии выполнения взятых на себя обязательств сторонами и особенно Федерацией в целом. В рамках договора должна учитываться та независимая от обеих сторон инстанция, которая могла бы выступить в качестве арбитра в случае возникновения спора о выполнении этого договора сторонами. Но договор между Федерацией и ее субъектами превращает этот спор в международно-правовой, что для Федерации – правовой нонсенс. Поэтому необходимо расширение возможностей закрепления разграничения компетенции между Федерацией и ее субъектами.