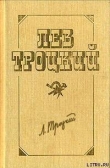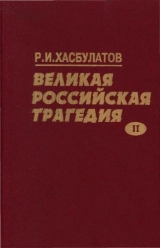
Текст книги "Великая Российская трагедия. В 2-х т."
Автор книги: Руслан Хасбулатов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 66 страниц)
Понятие “марксизм-ленинизм” в нашей стране никогда не отражало подлинной сути динамики общественного процесса и было направлено на доказательство идеи непосредственного продолжения учения Маркса Лениным, Троцким, а затем и Сталиным. Их чисто публицистические, порой хлесткие формулировки, выдавались как последнее слово правовой науки, государственного законодательства, обязательного к исполнению. Вот почему коммунистическая идеология того времени к сегодняшнему дню мертва. Реально же из марксизма еще в XIX веке выделились и укрепились по крайней мере два идейных направления; социал-демократическое (Каутский, Плеханов) и леворадикальное (Ленин, Троцкий). Причем леворадикальный марксизм-большевизм, с самого начала своего зарождения опиравшийся на “азартные” мотивы власти, был устремлен на ее штурм через разрушение государственности.
Большевистский режим власти вверг крестьянскую державу в водоворот военно-индустриальных скоростей. Коммунистически ориентированный маршрут оказался ошибочным. Политические лидеры, заботясь о могуществе государства, просмотрели главное богатство страны: человека, личность. Каждый новый этап требовал повышенных скоростей. А не пора ли оглянуться, оглядеться, осмотреться... Богатство народа есть богатство страны. Парламент подлинно демократической России в этом видит свою задачу.
Само понятие власти в России на протяжении веков связывалось с особой князя, царя, генерального секретаря. Ленинско-троцкистско-сталинское толкование марксизма, отнюдь не являющееся универсальным учением на “все эпохи”, довело эту идею до абсурда. В результате произошла чудовищная деформация личности – даже у самого яркого нашего демократа обнаружишь, как и столетия назад, веру не только в демократические институты власти, а и в “доброго царя”.
Абсолютное единство власти при диктатуре и рационально прагматическое разделение властей при демократии – таковы крайности общественного обустройства в современном мире. “Вся власть – Советам!” (при полном отсутствии таковой на деле) и “Разделяй и властвуй!” (разделяй общество, натравливай одну часть на другую) – два лозунга, которые допускают множество путей их воплощения в жизнь. В их основе лежат два процесса – разделение властей и единство власти – две противоположные концепции...
В сложившейся ситуации в нашей Федерации крайне важно выделение в законодательстве проблем конституционной власти, принятия самой Конституции, процесса перехода от традиционной модели общества, мало связанной законами, к конституционно-демократической модели, имеющей свою самобытную духовно-нравственную основу. В этом смысле увлечение западничеством так же, как и славянофильством, наносит огромный ущерб формированию самих принципиальных основ демократического общества, в котором ярко выражается приоритет личности.
Что является сильной стороной тоталитаризма, единовластия: соединение, подчинение всех интересов глобальному, державному интересу, воплощенному во всесильи чиновничества. Что является слабой стороной единовластия: забывается частный интерес, человек, личность, ее индивидуальность, нет соблюдения равенства возможностей, нет свободы человека вообще как его естественного права.
Сильной же стороной демократии является разделение властей: на первый план выдвигается человек, личность, частный интерес, и только через него идет отстаивание государственных интересов, срабатывает механизм защиты человека законом. Закон становится на пути той ветви власти, которая стремится к экспансии, установлению режима личной власти, установлению “демократической диктатуры”.
Становится все яснее, что идущие в жизни страны экономико-политические процессы не вяжутся, не стыкуются с господствовавшей трактовкой марксизма, в частности, с ленинско-сталинской его интерпретацией, с основанной на них тоталитарной, а затем неототалитарной системой власти, ориентированной на классовую борьбу и диктатуру пролетариата, хотя и было провозглашено общенародное государство, как попытка преодолеть видимое противоречие в обществе. Экс-СССР получил горький урок своего собственного развития: резкое ослабление власти, развал Союза, недееспособность и некомпетентность властных структур, распад политической власти. Напрямую возникла долговременная проблема перераспределения власти – по горизонтали, по вертикали. Все чувствовали: должны прийти другие, иные люди и, разумеется, другая политическая система. В то же время нарастающая борьба за власть сначала затронула верхние эшелоны, наконец, встряхнула все общество.
Система координат разделения власти по горизонтали и вертикали цивилизованными государствами ориентирована на демократию и властные компромиссы носителей власти. Они являются важнейшей процедурой и тактикой действий политиков в цивилизованных странах Запада. Однако универсальные компромиссы опасны в условиях переходного периода, происходящей ломки неототалитарных условий и становления демократических институтов нового строя. Кстати сказать, компромиссы между властями напрочь отрицаются ленинским тезисом: “Никаких компромиссов!” И ленинское отступление “бывают компромиссы и компромиссы” всегда звучало неубедительно.
Переход к теории разделения властей требует от населения России, его интеллектуальной части, переосмысления своего прошлого и настоящего, подразумевает отказ от поиска удобных цитат из Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Троцкого, Бухарина, требует профессионализма, углубленного знания дела. Наконец-то становится все яснее: перед истиной, знанием, опытом все учения равны, надо искать опору в арсенале знаний, накопленных человечеством, а не советоваться с одним идолом – Марксом, отражавшим общую ситуацию в Западной Европе прошлого века, кстати, не претендовавшим на космический универсализм. Об этом в свое время говорил и Ф. Энгельс, сам предприниматель, отнюдь не отвергавший принцип частной собственности при социализме.
Возрастание социального неравенства – одна из главных опасностей в России. Поляризация общества налицо, но обогащаются часто не те, кто производит, а те, кто занимается казнокрадством, спекуляцией и взяточничеством. При этом колоссально возросло влияние чиновничества и “царедворцев” на всех уровнях власти и управления, полностью исчезли контрольные механизмы государства, мораль “растворилась” в лозунгах. Надо всегда помнить, что экономические реформы легче проходят не в голодной, а в сытой, накормленной стране. Поэтому надо всемерно поддерживать производство. Во весь рост встает вопрос: какими механизмами поддержать директора госпредприятия, предпринимателя, товаропроизводителя, тех, кому предстоит стать ключевыми фигурами управления не только своей собственностью, но и державными интересами? Мы еще в декабре 1991 года – начале января 1992 года отчетливо заявили: экономическую реформу надо проводить на глубоко аналитической программной основе, имея стратегические и тактические цели, четко выверяя действия по этапам, комплексно, не уповая на спасительную роль либерализации цен, поскольку такой подход при существующем монополизме производителя приведет к гиперинфляции. Обнищание людей ускоряется, стремительно падает их доверие к власти и к самим носителям власти. Это особенно опасно в условиях резкого ослабления государства.
Например, если рассмотреть этот вопрос с позиций властных структур рынка, ясно, что инвесторы больше всего стремятся к устойчивой системе, представители всех видов фиктивного капитала и иных теневых форм хозяйствования так же, как и многочисленное чиновничество, заинтересованы в ослаблении этой самой власти, в периодическом и эпизодическом безвластии, в нестабильности, в формировании нервозности, чехарды власти, в “войне” разных ветвей власти. Неустойчивые ориентиры и случайные люди у власти выгодны тем, кто сегодня “снимает сливки” в одном слабом звене, завтра – в другом, доводя народное хозяйство до разбазаривания, до повального воровства. Сложилась универсальная криминальная система: централизованная мафия, заинтересованная в хаосе. При параличе правоохранительных и специальных органов государства та сила, что называлась ранее “государственный аппарат”, – отнюдь не лучшая, но тем не менее и в сегодняшней ситуации она все же стремится найти свое место в реформах. У многих ее представителей хороший организаторский опыт, среди них есть профессионалы. Специалисты есть специалисты, их надо использовать, им надо доверять, а не толкать в антидемократические движения, набирающие силу и динамизм на фоне поражений в сфере экономической и социальной политики.
С точки зрения общих тенденций Россия ищет выход в новых моделях государственности, ориентируется на конституционно-демократическую модель, на отход от радикально-марксистской концепции общественного развития, его ленинской интерпретации, часто далекой от правовых формулировок. Язык закона был чужд большевистскому режиму, политическому режиму личной власти в его специфически монопартийной форме. Инструкции ведомств подменили законы государства. Именно здесь камень преткновения: одни ищут эту модель через конкретную личность, олицетворяемую в форме “абсолютной демократии”, другие – в развале страны на удельные княжества по национальным признакам, третьи – в несбыточных мечтаниях о реанимации существовавшего партийно-государственного режима и так далее.
Важно отметить постепенное становление многопартийности как фактора противодействия массовому автократическому сознанию, уникально спокойное отношение населения на первом этапе к исчезновению прежних властных структур и всеобщее ожидание от новых властей улучшения положения людей, во многом инспирированное самими идеологами этих властей – вечными оппозиционерами. Конечно, разрыв с прошлым невозможен без отторжения тех догм, на которых покоится идея концентрации производства и гигантомании. Коммунистические идеи абсолютного обобществления, осуществляемые партийно-государственной олигархией в течение десятилетий, на деле разорили народное хозяйство великой страны. Куда исчезли 200 млрд. долларов, полученные за последние 15 лет (до 1991 года) только от экспорта нефти и газа? Ответа нет. Но положение не улучшается и в последующий период: идет отток валютного капитала и даже более интенсивно, чем ранее.
Но и мы, новые власти, оказались не в состоянии остановить этот развал, к сожалению, порой ускоряем движение вниз по наклонной, входим в штопор. Важно поэтому, чтобы демократические ориентиры России складывали и утверждали новый социальный климат, требующий изменения властных структур, иной государственности, покоящейся на реальном балансе политических сил. Это обстоятельство и является ответом на вопрос о приемлемости теории разделения властей для России.
Государственность экс-СССР теряет власть и силу, хотя частично переносится вместе с бывшим политическим режимом в российские структуры, но опасно то, что, по сути, все институты власти формирующегося российского государства чрезвычайно слабы и дезорганизованы. И ориентированы на слабых, случайных, безвольных лидеров, однозначно ищущих свой личный интерес. Конечно, набирает силу рост национального самосознания. Идут неоднозначные, разнонаправленные, дивергенционные процессы. К сожалению, новые демократические институты власти приняли в себя крупное вливание экс-тоталитаризма. В то же время динамизм формирования властных структур налицо: законодательная вертикаль от Федерации к местной власти; исполнительная вертикаль от Федерации к местной власти; законодательная горизонталь от Парламента к структурам Правительства и судебной власти; законодательно-исполнительная диагональ вообще имеет крайне неясный характер.
Россия – ось, связующая нить переломных процессов смутного времени на гигантских просторах бывшего СССР. Как тяжело нагруженная повозка, Россия, опираясь прежде всего на Парламент, с трудом движется к демократии усилиями тех, кто еще верит и хочет возврата здравого российского политического, юридического и экономического смысла, формирования современной цивилизации. Конституционно-демократическая государственность после дискредитации самой идеи коммунизма опирается ныне на беспартийность, отнюдь не отвергая бывших членов КПСС, из которых партия вышла сама. Но ее “члены” не пытаются ни искать ее, ни возрождать. Они просто стали беспартийными гражданами: это те, кому нужна “великая Россия”, а не те, кому нужны “великие потрясения”, те, которые хотят укрепления внутренних структур власти России и усиления влияния вовне, те, кто искренне стремится к процветанию, гражданскому миру и согласию.
Наступило время, когда поведение народа оказалось мудрее поведения глав правительств, государств, парламентов. Сменяя один другого, они явно не проявляют той мудрости, терпения, которые явил народ, соглашаясь на страдания даже во имя тех реформ, которые им отвергаются изначально, на интуитивном, подсознательном уровне. И его не убаюкивает дружный хор холуйствующих перед исполнительной властью полдюжины столичных газет, присвоивших себе право от имени народа толковать правду.
Рациональная организация государственной власти – несомненно важнейшее условие для преодоления того уникального кризиса, в котором пребывает Россия: экономического, финансового, социального, политического, культурно-нравственного, межэтнического и так далее.
Но, во-первых, такая рациональная организация государственной власти – дело сложное. Она невозможна в краткие сроки. Во-вторых, она требует в качестве предварительного условия определенного улучшения социального климата и расширения базы поддержки реформ.
Размышляя о стратегическом политическом курсе России, порой ловишь себя на мысли, что наш Парламент дрейфует. Тщательно продуманный курс действий в стратегическом плане сбивается ежедневными непродуманными, несбалансированными действиями отдельных парламентариев и их групп, их частными, субъективными интересами. Слишком многое влияет на принятие Парламентом законов и решений, на саму обстановку в Парламенте. Давление, причем колоссальное, на Парламент оказывается извне и изнутри. Твердость или гибкость политического курса и принимаемых решений попадает под огонь критики оппонентов. С одной стороны, это, несомненно, свидетельство стремительно возросшего влияния Парламента как мощной политической силы, способной оказывать влияние на общую ситуацию в стране с позиций интересов избирателя. Но, с другой стороны, у меня возникает опасение – окажется ли способным наш Парламент осознать ту меру ответственности, которая сопровождает его возросшее влияние? Тяжелые это раздумья.
Именно поэтому взаимоотношения “спикер – парламент” становятся для политического курса страны предметом особого внимания. Твердость и гибкость воззрений спикера проверяются на прочность всякий раз, когда от микрофонов задаются не только вопросы, но и звучат оскорбления. Страна привыкает к тому, что на ее глазах происходит не столько реализация курса реформ, сколько падение культуры, нравственности, простой человеческой порядочности, искажение истины и так далее.
Сводить крайности к “центру” – вот задача спикера. Истина видится яснее, ярче то справа, то слева. Нужно понять мотивы тех и других, увидеть сильные и слабые стороны, вовремя заострить внимание, сформулировать свое видение, высказать собственные соображения.
Горькие размышления спикера – это попытка объясниться с теми, кто интересуется политикой. Глубоко верю, что такие объяснения необходимы, и делаю их время от времени. Голубой экран, пресса и помогают, и мешают. Ведь о нашей работе судят по достижениям, а они сейчас невелики. И здесь самое, пожалуй, главное – учет состояния общества. Политическая температура меняется быстрее, чем мы успеваем оценить тенденции этого изменения из-за разнонаправленности событий. Парламент и должен отслеживать состояние общества. Но он находится отнюдь не в условиях необходимого демократического контроля общественности, скажем, через прессу. Нет. Парламент ныне – это осажденная крепость, вокруг которой во всем мире разливается столько лжи, клеветы, инсинуаций, что порою становится просто страшно...
Свои истоки теория разделения властей ведет из древнего мира. Само деление власти – это процесс политики. В античные и средние века Аристотелем, Марсилием Падуанским и другими учеными была сформулирована политико-правовая идея разделения властей. В свете этой базисной, основополагающей концепции государственная власть понимается как совокупность различных властных законодательных, исполнительных и судебных функций, осуществляемых государственнымы органами независимо друг от друга. Ведь просто и очевидно: разделить – значит упорядочить.
В XVII-XVIII веках учение о разделении властей, связанное с теорией естественного права, нашло отражение в американской Декларации независимости (1776г.) и французской Декларации прав человека и гражданина (1789г.). Свой ощутимый вклад в эту концепцию внесли Руссо, Вольтер, Дидро и другие французские просветители. Доктрина о разделении властей легла в основу государственности демократически ориентированных стран Европы и Америки. С этих времен принцип разделения властей приняли как один из основных принципов, положенных в основу конституций, почти все государства мира.
Марксистско-ленинская теория единства власти последовательно отрицала принцип разделения властей, поскольку в нем отвергается классовая природа государства. Данное обстоятельство завело страны, вставшие на позиции марксизма, в тупик. (Мы не говорим о субъективных моментах, связанных с деятельностью конкретных личностей). Сегодня мы не без основания можем говорить, что большевики вслед за генетикой проглядели и кибернетику, информатику, социологию, политологию. Марксизм, отвергнув теорию разделения властей, созданную многовековой историей человечества, не смог увидеть того эффекта от системы равнодействующих в политической жизни, который принес цивилизованным странам и народам достаточно высокий уровень жизни, благосостояние, а отдельному человеку – его индивидуальность, свободу, достоинство, неукротимое стремление к счастью.
Уникальным является то обстоятельство, что “отмена” КПСС мгновенно привела к резкому ослаблению в обществе марксистско-ленинской идеологии: что бы ни говорили, именно это – определяющий фактор в данном споре. Но это логически создало и известный вакуум в гражданском обществе, да и в самих общественных науках. Здесь, однако, есть и несомненный позитивный результат – начала возвращаться наша историческая память, национальная культура. Именно эти процессы помогают “умом понять” Россию, вопреки утверждению замечательного поэта Тютчева, усадьба которого сиротливо стоит на земле великой трагедии, посеянной последствиями Чернобыля...
Теория разделения властей изолированно войти в жизнь Российской Федерации не может. Она является неотъемлемой частью общего курса цивилизации. Мы не привыкли еще к понятию цивилизация (от лат. цивилис – гражданский, общественный, государственный) – уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры – к понятию, которое постепенно получает новые права гражданства, новый смысл, близкий к такому – высшее достижение культуры, все земное, передовое, что выработано человечеством. Оживить общественную науку можно лишь путем равномерного исследования разных общественных наук на их стыках между собой. Применительно к теории разделения – право и философия, право и экономика, право и социология. Именно здесь почва для укрепления этой теории.
Петром I создавалась система образования, и можно привести много фактов укрепления правовой науки и службы в России. Царскосельский лицей преследовал те же цели. В Тенишевском правовом училище в Санкт-Петербурге преподавали законотворчество, где закон был предметом изучения. Законопонимание внедрялось в сознание учащихся, ставилась цель поднятия правовой культуры в народе. Мы и сегодня не можем не продолжить благородную линию наших предков. Ведь опыт предков всегда должен быть путеводной звездой. Только брать надо лучшее.
На глазах идет процесс расставания страны с большевистской школой гуманитарных наук, ориентированных на полуправду и подтасовку данных под установку. Люди все больше стали ориентироваться на здравый смысл: в экономическую науку вернулись имена М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, а сама литература стала носить больше прагматический характер, в историческую науку вернулись В. Ключевский, Н. Костомаров, в социологию – П. Сорокин. Наши люди вдруг увидели громадное богатство русской философии в трудах П. Чаадаева, В. Соловьева, Н. Федорова, Н. Бердяева, П. Флоренского, И.Ильина и на этом фоне юридическая наука как бы раскрывается навстречу теории разделения властей.
Государственные институты цивилизованных стран, возникшие и формировавшиеся в процессе совершенствования горизонтального и вертикального разделения власти, добились реальных успехов. Россия отстала. Это подтверждает сравнение уровня жизни, структур власти, выросших на теории единства власти. Теория разделения властей и ее практическое воплощение позволяют наметить общие и характерные элементы действия институтов власти и управления по вертикали и горизонтали.
Вместе с теорией единовластия нас покидает, хотя и очень трудно, ленинско-большевистский лозунг: “Никаких компромиссов!” Компромиссы разных ветвей власти, пробивая автократическое мышление высшего чиновничества, приходят в повседневную жизнь вместе с самой теорией разделения властей. Наряду с этим все меньше остается людей, готовых взять на себя державную ответственность, готовых “впрячься” в дело государства. Их буквально единицы – царедворцы, серьезно влияющие на внутреннюю, внешнюю, оборонную политику, норовят остаться в тени. Банкротство неототалитарного политического режима произошло в тот момент, когда народ понял: бороться не с кем. Общего врага нет, поскольку становилось все яснее, что прежняя классовая стратификация не соответствует реалиям, – есть обнищавший народ при единицах процентов людей обеспеченных. Реформаторская деятельность Горбачева лишь усилила бедность народа и ослабила государство. Идея национальных государств в таких условиях не могла приобрести иные формы, чем те, к которым подвела ее сегодняшняя жизнь. С этим надо считаться и учитывать в практической политике. Но в то же время развивается и положительная тенденция, переводимая на нашу психологию английской идеей: “Мой дом – моя крепость!” Индивидуальная свобода и индивидуальный интерес при учете общегосударственного интереса способны вывести общество из кризиса.
Данный процесс требует иного подхода. Власть должна “идти” как бы с двух сторон: от человека и от державы, защищать и человека, и державу. На смену примитивному возвеличиванию роли государства должна прийти и иметь свое место государственно-правовая концепция власти – теория и практика разделения. Диктат принуждения как принцип должен вытесняться конструктивным сотрудничеством. Власть должна выступать в роли как бы садовника, который выращивает фруктовое дерево, сообразуясь с особенностями микроклимата, почвы, сорта, ожидаемых вредителей, засухи, заморозков и иных переменных. Но власть должна быть властью и жестко обеспечивать эффективное функционирование самого государства.