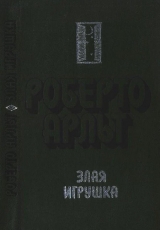
Текст книги "Злая игрушка. Колдовская любовь. Рассказы"
Автор книги: Роберто Арльт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
– Дело серьезное.
– Никакого риска. Перелезем через забор. Мясника из пушки не разбудишь. Ясно, придется работать в перчатках.
– А собака?
– А при чем здесь собака?
– Я думаю, будет шум.
– Твое мнение, Сильвио?
– Но подумай, за магнето дадут сотню.
– Дело хорошее, но скользкое.
– Решайся, Лусьо.
– А что скажет пресса?.. Ладно, надену старые штаны…
– А ты, Сильвио?
– Смотаюсь, как только уснет старуха.
– Когда встречаемся?
– Слушай, Энрике. Не нравится мне это дело.
– Почему?
– Просто не нравится. На нас подумают. Соседский двор… Собака не залает… можем наследить… Нет, не нравится. Ты знаешь, я никогда не привередничаю, но мне не нравится. Слишком близко, а у слизняков нюх хороший.
– Тогда отменяется.
И мы улыбались, словно нам только что удалось избежать большой опасности.
Так проходили дни, полные незабываемых впечатлений, когда мы тратили в свое удовольствие нечестно нажитые деньги, имевшие для нас особого рода ценность и даже как будто оживавшие в наших руках.
Изображения на банкнотах становились осанистее и ярче, мелочь весело позвякивала в карманах и умоляла пожонглировать ею. Да, воровские деньги казались нам ценнее и изысканней, представали символом высшего достоинства и словно нашептывали с улыбкой льстивые слова, зовущие к новым плутням. Это были не те презренные ненавистные деньги, которые надо зарабатывать тяжким трудом, это были шальные деньги – серебряный диск с тонкими ножками и бородой гнома, – которые входили в нашу жизнь пританцовывая и подмигивая, чей божественный пиршественный запах пьянил, как старое вино.
Озабоченное выражение никогда не посещало наших лиц, и взгляд каждого излучал надменность и отвагу. Надменные мы были оттого, что знали: обнаружатся наши похождения, и придется познакомиться со следователем.
Бывало, усевшись за столиком в кафе, мы рассуждали:
– Что бы ты стал делать в полиции?
– Я, – говорил Энрике, – рассказал бы им о Дарвине и о Ле Дантеке[6]. (Энрике был атеистом.)
– А ты, Сильвио?
– Все отрицать, держаться до последнего.
– А «резинка»?
Мы испуганно переглядывались. Мы смертельно боялись «резинки», которая не оставляет следов на теле, той самой резиновой дубинки, которой в полиции угощают преступников, не спешащих раскаяться.
С плохо скрываемым гневом я отвечал:
– Меня не сцапают. Лучше смерть.
При этом слове на скулах играли желваки, глаза стеклянели, уставившись в пространство, в миражную даль, где нам мерещились сцены резни, и ноздри раздувались, почуяв запах пороха и крови.
– Вот я и говорю: надо отравить пули, – нарушил молчание Лусьо.
– И делать бомбы, – подхватывал я. – Никакой пощады. Взрывать, травить фараонов. Кто зазевается – пулю… Следователям – посылки с взрывчаткой.
Так беседовали мы, сидя за столиком в кафе, мрачно упиваясь своей безнаказанностью, ведь никто кругом не знал, что мы – бандиты, и сладкий ужас сжимал наши сердца, стоило только представить, какими глазами взглянули бы на нас прохожие девушки, если бы узнали, что мы, такие юные, такие хрупкие, – бандиты… Бандиты!..
Около полуночи мы встретились в кафе с Энрике и Лусьо, чтобы окончательно уточнить план новой кражи.
Выбрав угол поукромнее, мы заняли столик у окна.
Мелкий дождь частил по стеклу, и оркестр издавал последние страстные вздохи криминального танго.
– Лусьо, ты точно знаешь, что сторожей нет?
– Абсолютно. Сейчас каникулы, все расползлись.
Мы собирались, ни много ни мало, ограбить школьную библиотеку.
Энрике сидел задумчивый, опершись подбородком о ладонь. Козырек кепки затенял его лицо.
Я нервничал.
Лусьо вертелся, глядя по сторонам с видом человека, довольного жизнью. Чтобы окончательно убедить меня в безопасности предприятия, он сдвинул брови и в десятый раз доверительно прошептал:
– Дорогу я знаю. Что ты переживаешь? Перелезем через решетку, и дело с концом. Сторожа в отдельной комнате на четвертом этаже. Библиотека – на третьем, с другой стороны.
– Разумеется, – сказал Энрике, – здорово было бы прихватить «Энциклопедический словарь».
– Как мы прихватим двадцать восемь томов? Ты с ума сошел… Уж лучше сразу заказать грузовик.
Проехало несколько машин с поднятым верхом; слепящие дуги укрывшихся в листве фонарей отбрасывали на мостовую длинные живые тени. Официант принес кофе. Столики вокруг были по-прежнему пусты, музыканты болтали вполголоса, а из биллиардной долетал стук киев, которым увлеченные игроки приветствовали особенно головокружительный карамболь.
– Сыграем козырного?
– Отстань.
– Опять дождь.
– Тем лучше, – сказал Энрике. – Монпарнас и Тенардье любили такую погоду. Тенардье говорил: «Все дело в Жан Жаке Руссо». Славная феня, да и вообще, жук он был, этот Тенардье.
– Еще капает?
Я снова отвернулся к окну. Дождь падал косо; ветер гулял по бульвару, раскачивая мутную водяную завесу.
Я глядел на зелень, облитую серебряным светом фонарей, и мне представлялась другая, тоже летняя ночь и парки, в которых ликовала шумная чернь и красные ракеты вспыхивали в небе. Безотчетная тоска сжала сердце.
Эту злосчастную последнюю ночь я помню очень хорошо.
Оркестр заиграл мелодию, которая на доске значилась под названием «Kiss-me!»[7].
В дешевой обстановке кафе музыка звучала трагично и словно издалека. Это было похоже на пение бедняков эмигрантов в трюме корабля, озаренного закатным солнцем, тонущим в зеленых океанских хлябях.
Мне запомнилось лицо скрипача, его сократовский череп и блестящая лысина. Он был в темных очках, но усталый взгляд скрытых стеклами глаз угадывался по тому, с каким напряжением склонялся он над нотами.
Лусьо спросил:
– Как у тебя с Элеонорой?
– Порвали. Говорит, что больше не хочет со мной гулять.
– Почему?
– Потому.
Образ Элеоноры, высвеченный томлением скрипок, предстал передо мной с беспощадной яркостью. Голос моей души взывал к нему, безмятежному, милому. Какой болью пронизала меня ее далекая улыбка, и я звал ее неслышными проникновенными словами, упиваясь горечью более сладкой, чем само сладострастие: «Ах, если бы эта музыка могла сказать тебе, как я люблю… растрогать своим плачем… тогда, наверное… но ведь и она любила меня… ведь ты любила меня, Элеонора?»
– Дождь кончился… Пошли.
– Идем.
Энрике бросил на стол какую-то мелочь.
– Револьвер с собой? – спросил он меня.
– Да.
– Не подведет?
– Я вчера стрелял. Пробивает две дюймовых доски.
– Если дело выгорит, покупаю браунинг, – продолжал Ирсубета. – А сегодня прихватил на всякий случай кастет.
– С шипами?
– Ну! Еще с какими.
Навстречу нам через сквер шел полицейский.
– А учитель географии, ребята, просто зверем на меня смотрит! – воскликнул Лусьо достаточно громко для того, чтобы его услышал блюститель порядка.
Мы пересекли площадь и очутились перед стеной школьного сада. Снова стало накрапывать.
Под пышными платанами, окружавшими здание, царила непроглядная темь. Дождь наигрывал в листве свою ни на что не похожую мелодию.
За ощерившейся решеткой высилось сумрачное здание школы.
Мы шли медленно, вглядываясь в темноту; потом я молча вскарабкался по прутьям, оттолкнулся от верха решетки и спрыгнул во двор. Приземлившись, я замер, не вставая с корточек, пристально глядя перед собой и ощущая кончиками пальцев влажный камень плит.
– Никого, – прошептал спрыгнувший вслед за мной Энрике.
– Похоже. А где Лусьо?
С улицы донеслось размеренное цоканье подков; проскакала еще лошадь, и все стихло.
Голова Лусьо показалась над прутьями решетки. Он перекинул ногу через верх и прыгнул, приземлившись с такой легкостью, что каменные плиты не отозвались ни единым звуком.
– Кто проехал?
– Патруль. Я сделал вид, что жду трама.
– Надевайте перчатки.
– Верно, из-за этих фараонов я и забыл.
– Ладно. Куда идти? Здесь темно, как…
– Сюда…
Лусьо взял на себя роль проводника, я вытащил револьвер, и мы направились к галерее второго этажа.
Впереди смутно виднелся ряд колонн.
И вдруг чувство невыразимого превосходства над ближними овладело мной настолько, что, крепко, по-дружески сжав локоть Энрике, я шепнул ему:
– Пойдем скорее, – и, забыв о всякой осторожности, зашагал размашисто, громко стуча каблуками.
Многократное эхо разнесло по двору звук шагов.
Уверенность в абсолютной безнаказанности сообщилась и моим товарищам, и мы все вместе расхохотались так громко, что с улицы на нас трижды тявкнул какой-то бездомный пес.
Надавав пощечин пристыженной опасности, мы бросали ей вызов под ликующие звуки фанфар и лихую дробь барабана; нам хотелось поднять на ноги всех, чтобы все видели, каким величием полнится душа грешника, с улыбкой попирающего закон.
Шагавший впереди Лусьо остановился:
– Предлагаю ограбить послезавтра Национальный банк.
– Ты, Сильвио, вскроешь сейфы своим аппаратом.
– Бонно, наверное, рукоплещет нам в аду, – сказал Энрике.
– Да здравствуют Лакомб и Вале! – воскликнул я.
– Эврика! – закричал Лусьо.
– Что с тобой?
– Придумал… Я же говорил!.. Мне надо поставить памятник… Придумал!.. Ну-ка, догадайтесь!..
Мы окружили его.
– Помните? Помнишь, Энрике, ювелирный магазин рядом с кино «Электра»?.. Серьезно, слушай, я не шучу. Туалет в кино без крыши… я точно помню; оттуда перелезаем на крышу магазина. Берем билеты на вечер и смываемся до конца сеанса. Через замочную скважину вдуваем клизмой хлороформ.
– Верно. Слушай, Лусьо, это будет знаменитое ограбление. И кто подумает, что какие-то мальчишки… Этим надо заняться.
Я закурил, и огонек спички осветил мраморную лестницу.
Мы бросились наверх.
На площадке Лусьо зажег фонарик, высветивший узкий замкнутый прямоугольник, от которого ответвлялся темный коридор. К дверному косяку была прибита эмалированная табличка с надписью: «Библиотека».
Мы подошли ближе. Дверь была старая, и высокие зеленые створки не доходили до пола примерно на дюйм.
С помощью рычага можно было запросто сорвать замок.
– Посмотрим сначала галерею, – сказал Энрике. – Там полно лампочек.
В коридоре мы нашли дверь, которая вела на галерею. Вода, клокоча, низвергалась вниз на каменные ступени, и при ослепительной вспышке молнии мы заметили у высокой, обмазанной битумом стены дощатую будку; дверь ее была приоткрыта.
По временам яркий свет молнии выхватывал из темноты далекий фиолетовый край неба, перечеркнутый неровным горизонтом крыш и колоколен. Черная стена зловеще, по-тюремному высилась на фоне грозовых полотнищ.
Мы залезли в будку. Лусьо зажег фонарик.
По углам были сложены мешки с опилками, половые тряпки, щетки и швабры. В центре стояла вместительная проволочная корзина.
– Ну-ка, что там? – Лусьо приподнял крышку.
– Лампочки.
– Посмотрим?
Мы нетерпеливо склонились под светлым пятном фонаря. Среди опилок выпукло блестело стекло электрических ламп.
– Не перегоревшие?
– Их бы выбросили, – но на всякий случай я внимательно осмотрел спираль. Лампы были абсолютно новые.
Мы грабили молча, жадно, набивая карманы лампочками, а когда и этого показалось мало, наполнили ими небольшой холщовый мешок. Лусьо, чтобы не звенели, пересыпал лампы опилками.
Рубашка на животе у Энрике вздулась огромным пузырем. Все это были лампочки.
– Смотрите, Энрике забеременел.
Шутка пришлась по вкусу, все улыбнулись.
Наконец мы благоразумно удалились. Стеклянные груши тихонько позвякивали.
Когда мы остановились у дверей библиотеки, Энрике предложил:
– Пошли взглянем на книги.
– А чем открыть дверь?
– В будке лом.
– Знаете что? Давайте упакуем лампочки, Лусьо забросит их к себе, ему тут ближе всех.
– А это видел? – пробормотал юный шельмец. – Я один не пойду… Сами ночуйте в клетке.
О, шельмовское обличье! Верхняя пуговица рубашки отлетела, и зеленый галстук болтался на растерзанной груди. Прибавьте к этому кепку козырьком назад поверх бледной грязной мордашки, рубашку с закатанными рукавами, перчатки, и перед вами – законченный портрет этого пройдохи, этого жизнерадостного онаниста, играющего на подмостках судьбы роль налетчика.
Энрике выложил свои лампочки и отправился за ломом.
– Тоже мне, умник, этот Энрике! Решил из меня живца сделать, – проворчал Лусьо.
– Глупости. До тебя отсюда два шага. Обернулся бы за минуту.
– Не хочу.
– Конечно, не хочешь… Всем известно, что ты просто пшик.
– А если фараоны?
– Удрал бы. Ноги у тебя есть?
Отряхиваясь, как вылезший из воды пудель, вошел Энрике.
– Ну что?
– Дай, я попробую.
Я обернул конец лома носовым платком и вставил его в щель, решив, что лучше будет тянуть кверху.
Дверь заскрипела.
– Еще чуть-чуть, – прошептал Энрике.
Я потянул снова, и снова послышался угрожающий скрип.
– Дай мне.
Энрике рванул лом с такой силой, что вместо скрипа на этот раз раздался оглушительный треск.
Все мы замерли, оцепенев.
– Дикарь, – прошипел Лусьо.
В тишине стало слышно наше сдавленное дыхание. Лусьо инстинктивно погасил фонарик; от испуга и темноты мы застыли, боясь пошевелиться, настороженно вытянув перед собой дрожащие руки.
Глаза буравили темноту; слух улавливал любой, самый незначительный шорох. Все до предела обостренные чувства обратились в слух, мы стояли, окаменев, полуоткрыв губы, в напряженном ожидании.
– Что делать? – шепотом спросил Лусьо.
Страх отпустил.
Но внезапному наитию я предложил:
– Слушай, Лусьо, бери револьвер, спускайся и присмотри за входом. А мы поработаем.
– А кто уложит лампочки?
– Ага, теперь лампочки… Иди, не трусь.
Пропащий юнец подбросил револьвер, лихо, по-ковбойски поймал его на лету и исчез в темноте коридора.
Энрике осторожно открыл дверь библиотеки.
Воздух был пропитан запахом старой бумаги; вспугнутый лучом фонарика, пробежал по вощеному полу паук.
Высокие стеллажи, покрытые красным лаком, доходили до потолка; световой конус медленно двигался в темных проходах, высвечивая заставленные книгами полки.
Суровая красота величественных застекленных шкафов дополняла сумрачное впечатление; одна к другой стояли книги в кожаных, матерчатых и бумажных переплетах, то и дело вспыхивая витиеватым золотом тиснения.
Энрике подошел к стеллажу.
В отраженном свете его худое лицо приобрело чеканность барельефа; глаза глядели не мигая, и черные волосы мягкими волнами ниспадали на плечи.
Повернувшись ко мне, он улыбнулся:
– Знаешь, здесь есть хорошие книги.
– Да, ходовые.
– Интересно, сколько прошло?
– С полчаса.
Я присел на край стола, стоявшего неподалеку от двери, в центре комнаты. Энрике последовал моему примеру. Мы оба устали. Сумрачная тишина будоражила, располагала к долгим воспоминаниям.
– Скажи, что у вас случилось с Элеонорой?
– Не знаю. А ты помнишь? Она дарила мне цветы.
– Ну?
– Потом она мне писала письма. Странно. Когда любишь, всегда знаешь, о чем думает другой. Как-то вечером, в воскресенье, она шла по улице, а я… я шел ей навстречу. Мы поравнялись, и она… странно… даже не глядя, протянула мне письмо. Она была в платье цвета чайной розы, и – птицы пели…
– О чем вы говорили?
– Так, ни о чем… Она сказала, что будет ждать… понимаешь? Будет ждать, пока мы вырастем.
– Благоразумно.
– Она такая серьезная, Энрике! Ты бы знал. Я стоял у решетки, тогда, вечером. Она молчала… только смотрела иногда, так… я чуть не плакал… мы оба молчали… да и о чем говорить?
– Такова жизнь, – сказал Энрике. – Ладно, пошли посмотрим книги. А как тебе Лусьо? Иногда он меня просто бесит. Скользкий тип.
– Интересно, где ключи?
– В столе – где ж еще.
Перерыв стол, мы нашли ключи в одном из ящиков.
Ключ со скрежетом повернулся в замке, и мы приступили к отбору.
Мы пролистывали тома, и Энрике, отчасти сведущий в ценах, изрекал: «Стоит столько-то» или: «Ничего не стоит».
– «Золотые горы».
– Это изделие разошлось. Любому продашь за десятку.
– «Эволюция материи» Лебона[8]. Иллюстрированное.
– Оставь для меня, – сказал Энрике.
– Рукете. «Органическая и неорганическая химия».
– Клади к остальным.
– «Исчисление бесконечно малых».
– Это высшая математика. Наверное, дорогая.
– А это?
– Как называется?
– Шарль Бодлер. Биография.
– Ну-ка, покажи.
– Похоже на справочник. Барахло.
Я наугад раскрыл книгу.
– Тут стихи.
– Стихи?
Я прочитал вслух несколько строк:
Я люблю тебя так, как ночной небосвод…
Мой рассудок тебя никогда не поймет,
О, печали сосуд, о, загадка немая!
«Элеонора, – подумал я, – Элеонора».
И в атаку бросаюсь я, жаден и груб,
Как ватага червей на бесчувственный труп
[9]
.
– Потрясающе, слушай. Эту я беру себе.
– Ладно, пока я укладываю книги, займись лампочками.
– А где фонарик?
– Неси его сюда.
Я принес фонарик. Мы работали молча, только огромные тени скользили по полу и потолку, искаженные прятавшейся по углам темнотой. Привычное ощущение опасности не стесняло движений.
Энрике просматривал книги и складывал их на столе. Едва я успел упаковать лампочки, как в коридоре послышались шаги Лусьо.
Лицо его, искаженное ужасом, было покрыто крупными каплями пота.
– Там человек… идет сюда… гаси.
Энрике удивленно взглянул на него и непроизвольно выключил фонарик; я в испуге схватился за лом, брошенный у стола. Ледяной обруч ужаса сжал виски.
Кто-то поднимался по лестнице неверными шагами.
Достигший апогея страх вдруг преобразил меня.
Я уже не был просто мальчишкой, искателем приключений; нервы напряглись, тело, подвластное преступному инстинкту, застыло грозным изваянием, окаменело сведенное судорогой, подобралось в предчувствии опасности.
– Кто это? – выдохнул Энрике.
Лусьо пихнул его локтем.
Шаги приблизились; звук их отдавался в ушах, и дрожи барабанных перепонок вторило гулкое биение крови.
Выпрямившись, я занес лом над головой, готовый обрушить удар, готовый ко всему… и в то же время мои чувства с необычайным проворством и как бы на ощупь определяли физиономию каждого звука, его происхождение, стараясь представить внутреннее состояние того, кто их производил.
С головокружительной быстротой проносились безотчетные мысли: «Все ближе… ничего не заметил… иначе ступал бы не так… шаркает… подозревай он, не стучал бы каблуками… держался бы иначе… вслушивался, вглядывался… шел бы на цыпочках… нет, он спокоен».
Вдруг хриплый голос затянул с пьяным надрывом:
Ах, в день несчастливый я встретил тебя,
голубка, голубка.
Невнятное пение оборвалось так же резко, как началось.
«Он заметил… нет… да… нет… ну», – мне казалось, что сердце разорвется, с такой силой стучала в висках кровь.
Войдя в коридор, незнакомец затянул снова:
Голубка, голубка…
– Энрике, – прошептал я. – Энрике.
Мне никто не ответил.
В коридоре рыгнули; пахнуло перегарной кислятиной.
– Он пьян, – шепнул Энрике. – Зайдет сюда, заткнем глотку.
Пришелец удалялся, с трудом передвигая ноги. На повороте он остановился, долго возился с упрямым замком, пока наконец дверь шумно не захлопнулась за ним.
– Уф, пронесло!
– А ты, Лусьо… что молчишь?
– От радости, дружище, от радости.
– Как ты его заметил?
– Я сидел на лестнице, вот так. И вдруг – слышу шум. Высовываюсь и вижу – кто-то открывает калитку. Бамбино! Берет за живое!
– Смотри, как бы он нас не учуял.
– Я его успокою, – сказал Энрике.
– Что будем делать?
– Что делать? Пойдем, я думаю – хватит.
Мы спускались на цыпочках, улыбаясь. Лусьо нес пакет лампочек. Энрике и я – два тяжелых узла с книгами. Вдруг, непонятно почему, я вспомнил о ярком солнечном свете и тихо рассмеялся.
– Что смеешься? – мрачно спросил Энрике.
– Просто так.
– Как бы не наткнуться на фараонов.
– Нет, тут спокойно.
– Ты это уже говорил.
– Да, вон как льет!
– Черт побери!
– Что случилось, Энрике?
– Я забыл запереть в библиотеке дверь. Дай фонарик.
Я протянул ему фонарь, и Ирсубета побежал наверх.
В ожидании мы присели на мраморные ступени.
Я дрожал от холода. Вода яростно ударялась о камень плит во дворе. Глаза сами собой закрывались, в мозгу разлился свет далеких сумерек, и я увидел умоляющее лицо любимой, стоявшей неподвижно, прислонившись к стволу осокоря. И упрямый внутренний голос твердил во мне: «Я любил тебя, Элеонора! Ах, если бы ты знала, как я любил тебя!»
Неся под мышкой книги, появился Энрике.
– Что это?
– «География» Мальт Брана. Взял для себя.
– Всё в порядке?
– Постарался.
– Не заметят?
– Кто знает.
– Слушай, так ведь этот пьянчуга, наверно, запер калитку…
Предположение Энрике не подтвердилось. Калитка была не заперта, и мы вышли на улицу.
Бурлящие потоки бежали вдоль тротуаров; дождь, утихомирясь, сеялся въедливо и упрямо.
Не обращая внимания на тяжесть груза, мы шли торопливо, подгоняемые благоразумными опасениями.
– Славное дельце.
– Славное.
– Лусьо, а что, если пока оставить все у тебя!
– Не глупи, завтра же всё скинем.
– Сколько лампочек вышло?
– Тридцать.
– Славное дельце, – повторил Лусьо. – А книжки?
– Я прикинул – на семьдесят песо, – сказал Энрике.
– Сколько времени, Лусьо?
– Около трех.
Нет, было еще не так уж и поздно, но усталость, тьма и безлюдье вокруг, горечь в душе и капли, стекающие за шиворот, – все это делало ночь бесконечной, и Энрике сказал упавшим голосом:
– Да, очень поздно.
Вконец измотанные и промерзшие, мы вошли в дом Лусьо.
– Тихо, ребята, – старухи проснутся.
– Где спрячем?
– Погодите.
Осторожно приоткрыв дверь, Лусьо проскользнул внутрь и зажег свет.
– Заходите. Вот мои апартаменты.
Обстановка комнаты состояла из шкафа, белого ночного столика и кровати. Над изголовьем, раскинув изломанные умоляющие руки, висел Черный Иисус, а с карточки на стене коленопреклоненная Лида Борелли[10] возводила к потолку скорбный взгляд.
Без сил мы повалились на кровать.
Под глазами залегли темные круги; лица осунулись. Остекленевший взгляд не мог оторваться от белой поверхности стены, то близкой, то далекой, как в фантастическом бинокле жара.
Лусьо спрятал свертки в шкафу и, задумчиво обхватив колено руками, уселся на край стола.
– А «География»?
И вновь воцарилось молчание, сковав наш подмокший энтузиазм, обескровив лица, выскальзывая из посиневших от холода рук.
Я резко поднялся и, мрачно глядя на белую стену перед собой, сказал:
– Дай револьвер, я пойду.
– Я с тобой, – отозвался Ирсубета, и мы – две молчаливые понурые тени – затерялись в темноте улиц.
Я уже почти разделся, как вдруг раздались три повелительных удара в дверь, три исступленных удара, от которых дыбом встали волосы.
В голове мелькнула безумная мысль:
– Меня выследили… это полиция… полиция, – страх душил меня.
Громогласный удар повторился трижды, еще более смятенный, еще более неистовый, еще более неумолимый.
Я взял револьвер и подошел к двери.
Не успел я отворить, как Энрике буквально упал на меня. Несколько книг рассыпались по полу.
– Закрывай, скорее… за мной гонятся… закрывай, Сильвио, – хрипло пробормотал Ирсубета.
Я потащил его на галерею.
– Что случилось, Сильвио, что случилось? – испуганно крикнула из своей комнаты мать.
– Ничего, успокойся… Энрике подрался, увязалась полиция.
В ночной тишине, которая, казалось, была заодно с рыщущим правосудием, прозвучала трель полицейского свистка и частый стук копыт. И вновь – на этот раз ближе – раздались ужасные свистки.
Серпантином взвивались призывные звуки погони.
Скрипнула соседская дверь, послышались голоса; мы с Энрике в темноте, дрожа, прижались друг к другу. Тревожные свистки доносились отовсюду – бесчисленные, угрожающие; звуки зловещей охоты долетали до нас; цоканье копыт в бешеном галопе, резкий разворот на скользкой мостовой и – возвращение по следу. А преступник был здесь, я прижимал его к себе, дрожащего от страха, и безмерное сострадание к сломленному подростку переполняло меня.
Я потащил его к себе. Зубы у него стучали. Дрожа, он упал в кресло; широко раскрытые, как бы удивленные глаза уставились на розовый абажур.
Снова проскакала лошадь, но так медленно, что, казалось, вот-вот остановится у нашего дома. Но наконец седок пришпорил ее, и редкие трели свистков окончательно стихли.
– Дай воды.
Я протянул ему бутыль с водой. Он пил жадно, громко глотая. Оторвавшись, перевел дыхание.
Не отводя остекленевших глаз от розовой материи, он улыбнулся странной, неуверенной улыбкой человека, очнувшегося от кошмара.
– Спасибо, Сильвио, – сказал он, все так же улыбаясь понемногу оттаивая, уверовав в неожиданное чудо спасения.
– Ну, рассказывай!
– Вот. Я шел но улице. Никого. Сворачиваю на Южную и вижу: у фонаря – полицейский. Я встал, а он кричит: «Что несете?» Я ничего не ответил, бросился, как сумасшедший. Он за мной, но не догнал, из-за плаща… стал отставать, и вдруг еще один, на лошади… и – свисток, тот засвистел в свисток. Я поднажал, и вот…
– Видишь… Все потому, что не оставили книги у Лусьо!.. «Сцапают!» «Сами ночуйте в клетке!» А где книги? Ты их не выронил?
– Там, в коридоре.
Маме пришлось объяснить все так:
– Ничего страшного. Просто Энрике играл с ребятами в биллиард и зацепил сукно кием, случайно. Денег не было – ну, хозяин и расшумелся.
Мы собрались у Энрике.
Рыжее солнце прокралось через разбитую форточку в притон старых марионеток.
Энрике задумчиво сидит в углу; глубокая поперечная морщина залегла на лбу. Лусьо курит, устроившись на ворохе грязного белья, и легкое облачко сигаретного дыма заволакивает его бледное лицо. От соседей, из-за уборной, слышна музыка: кто-то наигрывает на пианино вальс.
Я сижу на полу. Безногий солдатик в красно-зеленой форме глядит на меня из помятого картонного дома. Сестры Энрике сварливо ругаются с кем-то на улице.
– Ну, и?..
Энрике поднимает свою благородную голову и смотрит на Лусьо.
– Так что?
Я смотрю на Энрике.
– А ты как думаешь, Сильвио? – снова спрашивает Лусьо.
– Надо выждать, и так наделали глупостей, можно засыпаться.
– Позавчера просто повезло.
– Да, дело ясное, – и Лусьо в сотый раз с удовольствием перечитывает газетную вырезку:
«Сегодня в три часа ночи постовой Мануэль Карлес (участок Авельянеда – Южная Америка) пытался задержать подозрительного прохожего со свертком в руках. В ответ на требование предъявить документы неизвестный бросился бежать, скрывшись на одном из пустырей. 38-й комиссариат полиции принял соответствующие меры».
– Итак, клуб распускается? – спрашивает Энрике.
– Нет, но прекращает свою деятельность на неопределенное время, – отвечает Лусьо. – Просто недальновидно работать под носом у легавых.
– Конечно, глупо.
– А книги?
– Сколько всего?
– Двадцать семь.
– По девять на каждого… не забыть бы поаккуратней свести печать.
– А лампы?
Лусьо тараторит:
– Слушай, о лампочках лучше и не заикайся. Лучше сразу спустить их в сортир.
– Да, верно. Сейчас, пожалуй, рискованно.
Ирсубета молчит.
– Что-то ты невеселый, Энрике.
Странная улыбка кривит его губы; он пожимает плечами и, порывисто выпрямившись, говорит:
– Значит – в кусты, что ж, не каждому дано. А я и один не отступлюсь.
Пробившись в притон старых марионеток, рыжий луч озаряет осунувшееся лицо подростка.
Глава вторая
ТРУДЫ И ДНИ
 озяин запросил за квартиру больше, и нам пришлось переехать, на этот раз в огромный, несуразный, зловещего вида дом на улице Куэнка, в дальней части Флоресты[11].
озяин запросил за квартиру больше, и нам пришлось переехать, на этот раз в огромный, несуразный, зловещего вида дом на улице Куэнка, в дальней части Флоресты[11].
Я перестал видеться с Лусьо и Энрике, и хмурые сумерки нищеты окутали мою жизнь.
Мне было уже пятнадцать лет, и как-то вечером мама сказала:
– Сильвио, надо бы тебе подыскать работу.
Я читал и, оторвавшись от книги, взглянул на нее почти со злобой, подумав: «Работа, опять эта работа», – но ничего не ответил.
Она стояла у окна. Голубоватый свет сумерек лился на ее седеющие волосы, на исчерченную морщинами, сухую кожу лба; она искоса глядела на меня, и я избегал ее взгляда, недовольного и в то же время сочувственного.
Мое молчание было очевидно враждебным, и она повторила:
– Тебе надо найти работу, понимаешь? Учиться ты не захотел, а содержать тебя я не могу. Ты должен устроиться.
Губы ее шевелились едва заметно, тонкие, словно две щепочки. Она куталась в черную шаль, складками спадавшую с узких покатых плеч.
– Надо искать работу, Сильвио.
– Работу, работу! Какую? Господи… Что вы от меня хотите?.. Чтобы я эту работу выдумал? Вы же знаете, я искал…
Мной овладел гнев: меня злило упрямство матери, я ненавидел окружающий меня безразличный мир, подстерегающую на каждом шагу нищету, но самым мучительным было другое – безотчетная уверенность в собственной никчемности.
Но мать настаивала – так, будто ей не было дано иных слов:
– Какую?.. Надо подумать… Какую?
Машинальным движением она расправила складки портьеры и с трудом выговорила:
– В «Ла Пренсе» всегда требуются…
– Да, требуются: посудомойки, чернорабочие… Вы хотите, чтобы я пошел в посудомойки?
– Нет, но ты должен устроиться. У нас совсем нет денег; только чтобы Лила смогла закончить. И всё. А что мне делать дальше?
Приподняв вышитый край подола, она показала стоптанные туфли:
– Посмотри. А Лила, чтобы не тратиться на книги, каждый день ходит в библиотеку. Что мне делать, милый?
Голос ее был взволнованным. Лоб прорезала глубокая складка, губы дрожали.
– Хорошо, мама. Я устроюсь.
Сердце мое разрывалось. Однообразие жизни голубым, мертвенным светом пронизывало душу, молчаливо, как червь, точило ее.
С улицы доносилась грустная детская песенка:
Часовой на башне.
Часовой на башне.
Он одни не спит.
Едва слышно мама шепнула:
– Как бы я хотела, чтобы ты учился.
– Кому это надо.
– Может быть, когда Лила закончит…
В кротком голосе звучала усталая боль. Она присела рядом со швейной машинкой; под тонкой бровью, в глубокой темноте глазницы влажно блеснул взгляд. Она сидела сгорбившейся тенью, и холодная голубизна струилась по гладко зачесанным волосам.
– Как подумаешь… – пробормотала она.
– Что ты, мама?
– Ничего. – И сразу же: – Хочешь, я поговорю с сеньором Найдат? Ты мог бы выучиться на декоратора. Как по-твоему?
– Все равно.
– Ну… они неплохо зарабатывают…
Мне захотелось вскочить, схватить ее за плечи, трясти, кричать:
– Не говорите о деньгах, мама, пожалуйста!.. Замолчите!..
Мы сидели в каком-то тоскливом оцепенении. Дети на улице пели:
Часовой на башне.
Часовой на башне.
Он один но спит.
Я подумал: «Вот она, жизнь. Когда-нибудь и я вырасту и скажу своему сыну: „Надо работать. Я не могу тебя содержать. Такова жизнь“». Внезапная дрожь охватила меня.
Взглянув на мать, на ее маленькое жалкое тело, я испытал невыносимую боль.
Мне показалось, что я вижу ее где-то – вне времени и пространства, на иссохшей серой равнине, под голубым, отливающим сталью небом. Бичуемая тенями, в страшной тоске брела она по обочинам дорог, неся меня, маленького, на руках, согревая у груди, прижимая мое тельце к своему, измученному и жалкому; она побиралась ради меня, и, пока она кормила меня, жгучие слезы опаляли ее губы; голодная, она отдавала мне последний кусок хлеба и, одолеваемая сном, не спала ночами, оберегая мой сон, склонялась надо мной, защищая меня своим маленьким, одетым в лохмотья телом.
Бедная мама! Как бы мне хотелось обнять ее, и чтобы она положила свою седую голову мне на грудь, попросить прощенья за грубые слова – и вдруг, нарушая затянувшееся молчание, я сказал дрожащим от волнения голосом:








