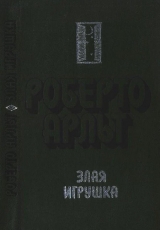
Текст книги "Злая игрушка. Колдовская любовь. Рассказы"
Автор книги: Роберто Арльт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Семь месяцев я провел в спячке, и исподволь моя личность приобрела классическую гибкость человека, которому все безразлично.
Каждый, кто помнит времена своего процветания, не может избавиться от чувства превосходства, вызываемого имевшимся и утраченным комфортом: от этих воспоминаний его гордыня молодеет, притязания растут, и поза, в которой он предстанет перед посторонними, согласуется с его душевным настроем; так и я, подобно тем, кто красит себе волосы, подкрашивал свою несостоятельность. Я пожаловал ей грамоту на элегантность.
Моя элегантность состояла в том, что я ни во что не вникал.
Имярек написал роман? Вот досада! Я не удосужился прочесть его. Такой-то отличился на концерте? Как жаль! А я как раз в это время был за городом. Тот-то выставил свои картины? Тем лучше для него; хотя мне не сообщили об этом, и я не смог посетить выставку.
Я был тем человеком, который не интересуется ничем, даже японо-китайской войной.
Самое обременительное то, что типов, подобных мне, никогда и ничем не интересующихся, в нашем сословии очень много. Когда я встречался с субъектами подобного рода, самое трудное было найти тему для разговора, и нескончаемые охи и ахи поддерживали общий интерес, вызываемый у нас успехами тех, о которых мы «понятия не имели».
Гремел ли гром или шел дождь, были ли мы больны или путешествовали, нас не переставали интересовать разносы, которые какой-нибудь маститый критик учинял одному из наших сотоварищей.
Новость, подобно шаровой молнии, облетала всех, мгновенно передавалась из уст в уста, ее сопровождали радостные улыбки сострадания, вопрошавшие:
– Ты читал, как раздолбали такого-то?
Чем более несправедливой и зловредной была критика, тем радостнее мы ее встречали.
Мы знали, что радость, испытываемая писателем после опубликования книги, омрачается нападками критики, и, когда мы говорили о разносах, нас волновал не разнос сам по себе, мы испытывали удовлетворение от сознания, что наш собрат уязвлен в своем тщеславии или высокомерии.
Адское наслаждение наполняло наши души. Когда чувство радости достигало высшей точки, из-за остатка стыдливости (какого черта! ведь мы, в конце концов, цивилизованные люди), чтобы оправдаться перед самими собой, мы обменивались беспристрастными суждениями по поводу умственного развития нашего сотоварища и все время набавляли цену, чтобы увидеть, кто же даст наивысшую оценку умственным способностям разруганного, и даже подучали удовольствие, выдавая ему патент на гениальность, естественно, между нами, при соблюдении самой строгой секретности и осмотрительности…
Я уверен, никто не осмелился отрицать, что горестные дороги банкротства крайне забавны.
Однако в конце концов мне наскучила роль равнодушного и я сбросил личину невозмутимости.
На свалку дендизм и фатовство! Я – человек из плоти и крови, поклонник таланта, где бы он ни находился, даже если я вытащу его из навозной кучи; не стану утверждать, что мне стоило большого труда превратиться в покровителя желторотых гениев, в менеджера сумеречных умов и тренера синюшных талантов.
Я откопал двух-трех бесподобных балбесов, взял их под свою опеку, поискал и нашел газеты, где они могли бы сотрудничать, поскандалил из-за них с массой добропорядочных, пристойных людей, перессорился со своими приятелями… дошел до того, что посоветовал одному из моих протеже мыться хоть раз в неделю, потому что от него очень дурно пахло… но эти гении, слегка оперившись, стали невыносимо самодовольными и разлетелись в разные стороны, словно мое присутствие было оскорбительно для них.
Я разочаровался в людях и вновь остался совершенно один. В сотый раз в своей жизни я попытался работать, создать нечто прекрасное, вечное. Я хотел потрясти душу людей, заставить их чувствовать себя лучше или хуже, чем они были на самом деле, но мои усилия были тщетны.
Долгими часами я просиживал над листом чистой бумаги, я представлял себе, как, заключив договор с дьяволом-хранителем, буду способен написать что-нибудь вроде «Божественной комедии», и, когда моя робкая и неподдельная радость достигла предела, за которым, по моему мнению, начиналась полоса вдохновения, на листе появлялись две-три строки, я отделывал их, а затем все кончалось тем, что я откладывал перо в сторону.
Я пришел к убеждению, что днем невозможно работать и ждать порывов вдохновения, и обратился к милостям ночи.
Мне бросилось в глаза, что в моем кабинете много книг, хороших картин, завидных удобств, и, уж не знаю почему, я вбил себе в голову, что для того, чтобы снизошло вдохновение, нужна уединенность монашеской кельи, монастырская тишина картезианской обители, затерянной в горах, – тогда я заставил заменить стекла в окнах на vitraux[44], изображающие сцены из средневековой жизни, удобное американское кресло я заменил твердой скамейкой колониальных времен, письменный стол – строгим старинным столиком, электрические лампы – канделябром из кованого железа и зажег свечи.
Однако ни канделябр, ни столик, ни свечи не пробудили долгожданного вдохновения, а скамейка колониальных времен и впрямь стала причиной обострения геморроя, которым я страдал и который еще можно было терпеть на мягких подушках американского кресла.
Я вымел из дома всю средневековую утварь и посвятил себя любовным утехам. Быть может, Вдохновение в руках какой-нибудь женщины, однако из объятий проституток и легкодоступных девиц из буржуазных семей, способных переспать с целой казармой, не потеряв девственности, я вырвался разлохмаченным, как кот, на которого вылили ведро воды, и тут же решил избрать другую дорогу.
Очевидно, я переутомился, и, как чемпион, цепляющийся за спорт, я полностью отдался гимнастике, боксу, другим спортивным дисциплинам.
На площадках для игры в мяч я обливался потом, как грузчик, и не раз покидал ринг с фонарем под глазом… но вдохновение не приходило.
Наконец я пришел к такому выводу.
Мне нечего сказать. Мир моих чувств слишком беден. Меня волнуют не нужды и заботы человечества, не жизнь людей вокруг меня, а личные грошовые амбиции.
Сами расхождения с окружавшим меня обществом были надуманными. Если быть откровенным, откровенным до бесстыдства, общество, в котором я живу, казалось мне прекрасно устроенным, чтобы удовлетворять материальные запросы моего эгоистичного «я». Когда архиепископ отлучил меня от церкви, наверное, он был прав, так как мне было начхать на его религию. Когда я сблизился с рабочими, мой порыв не был естественным, это была поза, и я не могу утверждать по совести, что меня хоть чуточку волнует, хорошо рабочим или плохо. Что мне до них и до всех их проблем! Я глубоко признателен им за то, что они отступились от меня, так как в противном случае, даже не знаю насколько, порыв дурацкого тщеславия осложнил бы мое существование…
Я эгоистичный буржуа. Я не скрываю этого. Поэтому ничто не может задеть меня за живое по-настоящему. Ни хорошее, ни плохое. У меня также нет большого желания обманывать моих близких. Если где-то я обмолвился, что страдаю, когда не могу писать, – это ложь. Я прилгнул, чтобы украсить свою личность хоть чем-то, что могло придать ей интерес.
Какое-то время моя суетность мешала мне. Не стану отрицать. Однако я удовлетворил самолюбие, убедившись, что прочие люди, даже те, кто добился успеха, обладают значительно большей умственной неполноценностью, чем я.
Я совершал добрые и злые поступки, чтобы развлечься на пять минут. Мои чувства проявляются так слабо, что я не могу ни ненавидеть, ни любить кого-нибудь сколько-то длительное время. Затем во мне просыпается чувство насмешливой, шутливой снисходительности.
Я хочу полностью вывернуться наизнанку.
Я Счастлив от того, что я таков: бездарный, расчетливый, черствый, любезный. Я испытываю чувство гордости, когда думаю, что в моей личности может сконцентрироваться бесконечность, и ни одна из ее частиц не оставит следа.
Иногда в порыве ярости мои зрачки мутнеют, потом я пожимаю плечами. Ненависть сменяется неприязнью, неприязнь – безразличием.
Таким же образом прежнее безразличие, когда я не хотел ни во что вникать, я сменил на иное, чуточку более остроумное, ироничное и политичное – я превозношу все. Хорошее и плохое.
Меня не оставляют в покое злопыхатели, стремящиеся насладиться зрелищем моей несостоятельности и узнать, насколько я удручен. Чтобы выведать это, они презрительно отзываются о тех, кто трудится в поте лица. Но я привожу их в замешательство, когда говорю:
– Как! Имярек кажется тебе плохим писателем? Ты ошибаешься, дорогой. Он из первоклассных, и по-настоящему…
Бьюсь об заклад, вряд ли кто лучше меня сумел использовать несбывшиеся желания, тайные поползновения, слепоту и глухоту своих близких.
Я с удовлетворением наблюдаю сейчас, как те, кто рассчитывал увидеть меня огорченным, уходят в смущении, не зная, как меня понимать.
Так проходят годы. Из моей бездарности вытекает философская концепция: неумолимая, ясная, уничтожающая:
– Для чего терять силы в бесплодной борьбе, если в конце пути нас ожидает как последняя награда глубокая могила и бесконечность небытия?
И я знаю, что я прав.
Перевод Г. Когана
В воскресенье после обеда
 ак-то раз Эухенио Карл вышел из дому в воскресенье после обеда и подумал: «Наверняка сегодня со мной произойдет нечто необычайное». Такое предчувствие возникало у Эухенио всякий раз, как сердце у него начинало учащенно биться, и биение это он приписывал телепатическому воздействию чьей-то мысли на его органы чувств. И нередко под влиянием смутного мучительного предчувствия он принимал меры предосторожности, а бывало и вел себя не совсем обычным образом.
ак-то раз Эухенио Карл вышел из дому в воскресенье после обеда и подумал: «Наверняка сегодня со мной произойдет нечто необычайное». Такое предчувствие возникало у Эухенио всякий раз, как сердце у него начинало учащенно биться, и биение это он приписывал телепатическому воздействию чьей-то мысли на его органы чувств. И нередко под влиянием смутного мучительного предчувствия он принимал меры предосторожности, а бывало и вел себя не совсем обычным образом.
Поведение его в таких случаях зависело от его душевного состояния. Если он бывал весел, то допускал, что предзнаменование это благоприятно по своей сути. Напротив того, если настроение у него было мрачное, он старался даже не выходить на улицу, боясь, как бы ему на голову не свалился карниз небоскреба или оборвавшийся провод.
Но вообще-то ему нравилось отдаваться предчувствию, этому неясному ожиданию необыкновенного события, которое живет в людях замкнутых и угрюмых.
Уже более получаса бродил Эухенио бесцельно по улицам, как вдруг заметил невдалеке женщину в черном пальто. Непринужденно улыбаясь, она шла к нему. Эухенио, нахмурившись, внимательно пригляделся, но не узнал ее и тут же подумал: «Как хорошо, что женщины держатся все свободнее».
Вдруг она воскликнула:
– Как поживаете, Эухенио?
Карл мгновенно избавился от окутавшего его память тумана:
– О! Кого я вижу! Как поживаете, сеньора? А Хуан?..
Леонильда поглядела на Эухенио с едва уловимой, двусмысленной улыбкой:
– Ушел куда-то, как обычно. Вот оставил меня одну. Не хотите ли зайти попить со мной чаю?
Леонильда говорила тихо, нерешительно, с мягкой, едва заметной улыбкой, игриво и устало склонив голову к плечу и глядя на мужчину, чуть прикрыв веки, словно прямо в глаза ей били яркие солнечные лучи. А в глубине ее глаз, как капли воды, дрожали холодные льдинки, и Карл подумал: «Кажется, ей было бы интересно оказаться в постели с чужим мужчиной…» Не успел он до конца это домыслить, как пульс у него участился и с семидесяти пяти подскочил до ста десяти. Ему показалось, что он только что пробежал дистанцию двести метров, – так он разволновался, стоя возле двери в неведомое, которую тихонечко приоткрывала ему Леонильда. Но тут как молния пронеслось в голове: «Одна! Выпить с ней чаю! Она, очевидно, не понимает, что женщина, оставшись дома одна, не должна принимать друзей своего мужа». И он пробормотал:
– Да нет… Большое спасибо. Если бы Хуан был дома…
Конечно, это его голос прозвучал жалобно, как голос ребенка, которому дают монетку, а он отказывается только потому, что приучен не брать подарков. И так он огорчился, что тут же подумал: «Что же я за идиот такой! Надо было согласиться. Хоть бы она повторила свое приглашение!» А вслух произнес:
– Подумать только, Леонильда, а я ведь вас не узнал.
Но думал он совсем о другом, и женщина, казалось, прекрасно понимала, какие разноречивые чувства будоражат сейчас мужчину, а Карл снова подумал: «Что же я за идиот! Почему не принял приглашение?» Но Эухенио, стремясь положить конец этому наваждению, продолжал свое:
– Я вас не узнал, а когда увидел, что вы мне улыбаетесь, подумал – кто бы это мог быть?
Пока он говорил, в голове у него звенело только одно: «Почему бы ей не повторить своего приглашения выпить чаю?»
Леонильда ласково смотрела ему в глаза. В ее улыбке сквозило едва заметное презрение: женщина, казалось, насквозь видит лицемерие мужчины, напрасно старающегося разыграть комедию о «добродетельном горожанине». Молчание превращалось для Эухенио в грохочущую бурю, среди шума которой он как бы с удивлением различал едва шелестящий призыв Леонильды: «Да решайтесь же. Я одна. Никто ничего не узнает».
Больше им не о чем было разговаривать. Но они по-прежнему не могли сойти с дорожки, проложенной их взаимным влечением и подспудными противоречивыми мыслями. Эухенио проговорил, еле ворочая одеревеневшим от напряжения языком:
– Так, значит, вашего мужа нету? Ушел… и оставил вас одну?
Она расхохоталась, потом, слегка склонив голову к левому плечу и продолжая смеяться, покрутила ремешки своей сумочки и, вызывающе глядя на него, ответила:
– Он оставил меня совсем одну. Одну-одинешеньку. Мне стало очень скучно, и я вышла прогуляться. Почему же вам не попить со мной чаю?
Пульс у Карла опять подскочил с восьмидесяти до ста десяти. В глазах мелькнула нерешительная искорка: «Потерять друга? Остаться наедине? Интересно, чем все это кончится?!»
Леонильда внимательно и немного насмешливо наблюдала за ним. Она видела, что его мучают сомнения, и, все еще не сходя с той же дорожки, слегка склонив голову, с призывной, как у cocotte[45], улыбкой, смотрела на него прищурившись и, как бы поддразнивая, говорила:
– Вы только подумайте! Мне придется сказать Хуану, что если и впредь он станет оставлять меня одну, я вынуждена буду найти себе поклонника. Как забавно! Поклонник – в мои-то годы! Разве кто-нибудь в меня влюбится? Но почему бы вам все-таки не зайти? Выпьете чаю и уйдете… Что случилось, почему вы такой грустный?
Она была права. Карлу никогда еще не было так грустно. Он думал, что вот сейчас он предает своего друга. Какие угрызения совести он испытает, едва лишь оторвется от этой женщины, и какие оба они будут грязные! Однако улыбка Леонильды была такой призывной. Карл вновь подумал: «Предать друга ради женщины? Он вправе тогда будет сказать мне: „Ты разве не знаешь, что мир переполнен женщинами? Так вот ведь – ты нашел мою жену, мою единственную. И это ты! А в мире полно женщин“». Вот она неожиданность, которую он сегодня предчувствовал…
Сердце у Эухенио стучало, будто он пробежал двести метров. И он был более не в силах сопротивляться. Леонильда побеждала его, не двигаясь с места, по-прежнему склонив к левому плечу голову и открывая в беззастенчивой улыбке ровную линию белых зубов и розоватых десен.
Ужасная слабость овладела всем его существом. Она навалилась ему на плечи, а руки и ноги налились свинцом и все вокруг закачалось: он словно бы оказался высоко над землею, на гребне тучи, люди и города остались далеко внизу.
В то же время он безумно хотел окунуться в незнакомый мир ощущений, который предлагала ему замужняя женщина, но, вопреки своему желанию, он не мог преодолеть какую-то инерцию и сдвинуться с места, и земля уходила у него из-под ног.
И тут она, очень тихо, снова предложила:
– Выпьете чаю и уйдете…
Он решительно ответил:
– Пошли. Составлю вам компанию, выпьем вместе чаю, – а сам подумал: «Когда мы останемся одни, я возьму ее за руку, потом поцелую, а там уж дотронусь до груди – это и все, и ничего. Возможно, она скажет: „Нет, оставьте меня“. Но я отнесу ее на постель, на широкую супружескую постель, на которой она уже столько лет спит с Хуаном».
Она спокойно и доверчиво шла с ним рядом. Карл чувствовал себя нелепо, словно деревянный человечек, качающийся на неустойчивых ножках. Чтобы хоть что-то сказать, Леонильда спросила:
– Вы все еще живете врозь с женой?
– Да.
– И не тоскуете по ней?
– Нет.
– Ох, какие же вы, мужчины… какие…
Целых две секунды Эухенио хотелось громко расхохотаться, и про себя он повторял: «Какие мы, мужчины, какие… А вы-то, вы хороши – приглашаете меня на чашку чаю в отсутствие мужа!», но, подумав снова о том, как он останется с глазу на глаз с Леонильдой в квартире, он уже не мог избавиться от Хуана. Ему представился Хуан, мчащийся после работы в подпольный дом терпимости и выбирающий там себе проституток с самым роскошным задом, и тогда он с интересом взглянул на Леонильду, спрашивая себя, подойдет ли он этой женщине, и тут вдруг уже оказался перед какой-то деревянной дверью; Леонильда вытащила ключ и, чуть улыбаясь, открыла ее. Они поднялись по лестнице и теперь едва осмеливались взглянуть друг другу в глаза.
«Находись я сейчас возле водопада, и то у меня не шумело бы так в ушах», – думал Эухенио.
Щелкнул еще один замок, стало темнее, но вскоре он уже различил обстановку кабинета; вновь повернулся ключ, и косые желтые лучи упали на спинку диванов. Он увидел, что стены были оклеены зелеными обоями, и, не в силах держаться на ногах, свалился в кресло. У него разболелись суставы – слишком стремительно мчался он мысленно к исполнению своего желания, и теперь все сочленения его тела словно покрылись плесенью тоски.
Кровь, казалось, сбилась в огромный сгусток, заблокировавший сердце, и какая-то слабость разливалась изнутри, поднимаясь вверх от коленных суставов и глубоко погружая его в это холодное кожаное кресло, в то время как голос отсутствующего мужа шептал ему в уши: «Мерзавец, ведь это моя жена, моя единственная женщина. Ты не знал? Единственная на всем свете!»
Насмешливая улыбка появилась на лице Эухенио: «Оказывается, все мужья имеют одну-единственную женщину, когда узнают, что она готова лечь в постель с другим».
Он понял, что Леонильда еще в комнате, лишь услышав ее слова:
– Извините, Эухенио, я пойду сниму пальто.
Она исчезла. Карл с трудом поднялся с кресла и, стоя неподвижно, стал сильно трясти головой. Он знал этот прием – видел, как боксеры после нокдауна делают так. Он глубоко вздохнул и, теперь уже полностью овладев собой, уютно устроился на диване. Ему самому было любопытно, как он поведет себя с этой женщиной.
Затянутая в темный английский костюм из легкой шерсти, появилась Леонильда. Она тоже, казалось, овладела собой, и тогда Эухенио насмешливо спросил:
– Значит, вы очень скучаете?
Она села в кресло прямо напротив дивана, скрестила ноги, немного подумала и, как бы решившись, ответила:
– Да, очень.
Наступила тревожная тишина, оба изучающе смотрели друг другу в глаза, а Карлу казалось, что он слышит как будто записанные на пленку слова: «Совсем одни. Десять минут назад ты спокойно шествовал по скучным воскресным улицам, не зная, чем заняться, и ожидая необыкновенного события. Ох, жизнь! А теперь не знаешь, с чего начать комедию. Обнять ее, поцеловать руку, незаметно погладить грудь. Ни одна женщина не устоит перед мужчиной, когда он ласкает ее грудь».
У мужчины опять загрохотал в голове водопад, и, стараясь протолкнуть застрявшие в пересохшем горле слова, он, едва ворочая языком, с неискренней улыбкой человека, который не находит темы для разговора, пробормотал:
– А вы ничего не предпринимаете, чтобы не скучать?
– Хожу в кино.
– Вот как! А кто из актрис вам больше нравится?
Они вновь внимательно посмотрели друг на друга. Леонильда, удобно облокотившись на ручку кресла, глупо улыбалась, щуря глаза, и казалось, что она читает мысли Карла и издевается над его нерешительностью. Она сидела, обхватив колено длинными тонкими руками, и в какие то мгновения выглядела опьяненной этим приключением, и Карл опять спросил:
– Значит, вы скучаете?
– Скучаю.
– А он что говорит?
– Кто? Хуан? А что, по-вашему, он может сказать? Иногда он говорит, что ему не надо было на мне жениться. А иногда, наоборот, говорит, что у меня вид женщины, созданной, чтобы иметь любовника. Как вам кажется, принадлежу я к женщинам, которых любят? Я тоже часто думаю – зачем мы поженились?
Эухенио взял сигарету. Он давно заметил, что любое беспокойство легко снимается, если занять себя какой-нибудь ерундовой, механически выполняемой работой. Он медленно затянулся, набрал полный рот дыма, потом постепенно выпустил его и, уже овладев собой, совершенно спокойным голосом спросил:
– Так что же, Хуан никогда не спрашивал, не хочется ли вам иметь любовника? Вернее сказать, никогда не намекал, что вам нужно завести себе любовника?
– Нет…
– Тогда почему же вы сегодня пригласили меня? Хотите изменить мужу… И выбрали меня?
– О нет, Эухенио! Какая дикость! Хуан очень хороший. Он целый день занят…
– И потому что он хороший и целый день занят, вы приглашаете меня на чашку чаю?
– Ну что в этом плохого?..
– В самом деле, ничего плохого. Одно только – вы рискуете столкнуться с нахалом, который попытается уложить вас в постель!
Леонильда, не сдержавшись, даже подскочила на кресле:
– Я бы закричала, Эухенио, не сомневайтесь. Ведь я скучаю, но при этом занята целый день. Мне просто тошно сидеть одной в четырех стенах. Ужас какой-то! Вы понимаете, какие мысли бродят в голове у женщины, весь день запертой в четырех стенах своей квартиры?
Она начинала бунтовать. Следовало поостеречься.
– А он не замечает, что с вами происходит?
– Замечает…
– И что же?
– Так это ведь муж…
– А почему вы не развлекаетесь чтением?
– О, пожалуйста, оставьте. Книги – это кошмар. Что мне читать? Из книг разве можно что-нибудь почерпнуть?!
Теперь она удобно уселась в глубоком кресле и при слабом освещении казалась грустной, а кожа у нее стала матовой. С тоской в голосе она открыла ему свое сокровенное желание:
– Знаете, Эухенио, мне хотелось бы жить совсем в другом месте…
– Где же?
– Не знаю. Мне хотелось бы ехать и ехать, даже не думая, где поселиться. А вместо этого… Хотите знать, что делает Хуан, когда возвращается домой? Принимается читать газеты!
– В газетах много очень интересных новостей.
– Знаю, знаю… Какой же вы шутник! Он читает газеты и на все мои вопросы односложно отвечает «да» или «нет». Вот так мы разговариваем. Нам нечего сказать друг другу. Как мне хотелось бы куда-нибудь уехать, далеко-далеко… Сесть в поезд – пусть льет дождь, – обедать на вокзалах, в ресторане. Не подумайте, Эухенио, что я сошла с ума…
– Да я ничего не думаю…
– А он – наоборот, его с места не сдвинешь, только когда я уж вовсе не выдерживаю, соглашается поменять квартиру. Похоже, он пришит к дому. Вот именно, Эухенио, пришит к дому. Кажется, все мужчины, достигнув тридцати лет, не хотят уже с места сдвинуться. А мне хотелось бы куда-нибудь уехать далеко. И жить, как живут киноактрисы. Как вы думаете, о жизни киноактрис правду пишут в газетах или нет?
– Правду… процентов на десять.
– Вот видите, Эухенио… именно так мне хотелось бы жить. Но теперь это невозможно.
– Конечно, конечно… И все-таки, зачем вы меня пригласили?
– Просто хотелось поговорить с вами. – Она тряхнула головой, как бы отгоняя от себя некстати появившиеся мысли. – Нет, я никогда не смогла бы изменить Хуану. Никогда. Избави бог. Вы поймите… Вдруг узнали бы его друзья… Какой для него позор! А вы, вы первый же сказали бы: «Супруга Хуана изменяет ему, и не с кем-нибудь, а со мной…»
– А вам не хотелось, чтобы вас поцеловали?
– Нет.
– Вы уверены? – Эухенио не мог скрыть лукавой улыбки и продолжал настаивать: – Не знаю почему, но мне кажется, что вы лжете.
На минуту Леонильда смутилась. В глазах у нее был испуг, словно бы она внезапно оказалась где-то высоко-высоко и земля ускользала у нее из-под ног. Если бы Эухенио и задался целью уяснить себе, в чем тут дело, сейчас это было невозможно. Она выглядела теперь более утонченной в этой непостижимой прозрачности, паря где-то высоко над землей, под самым небом.
– Пообещайте мне никому не рассказывать, хорошо?
– Конечно.
– Ну так вот – однажды один друг Хуана поцеловал меня.
– Вы хотели, чтобы он вас поцеловал.
– Нет, вышло все… совсем случайно.
– Ну, и вам было приятно?
– Тогда я ужасно рассердилась. И сразу его прогнала.
– С тех пор прошло уже несколько лет.
– А он больше к вам не приходил?
– Нет… Ох, вы плохо обо мне подумаете!
– Нет.
– Ну хорошо, потом я не раз с сожалением думала, почему этот друг больше не приходит.
– Вы бы ему отдались?
– Что вы, нет… Но вот вы скажите мне, Эухенио, что же это происходит с мужчиной, что он может вот так грубо набрасываться на жену своего друга? Друга, которого любит, – ведь он любил Хуана.
– В общем-то, если подойти с точки зрения метафизики, трудно установить, что происходит. Другое дело, если объяснять с точки зрения материалистической: тут можно сказать, что мужчина, видя вас, почувствовал некоторое возбуждение, а вы, возможно, об этом догадались.’ Можно так же предположить, что вы умышленно способствовали его возбуждению. Вы принадлежите к тому типу женщин, которым нравится зажигать друзей своего мужа.
– Это неправда, Эухенио. Вы же видите… между нами ничего не происходит…
– Потому что я сдерживаюсь.
– Вы сдерживаетесь? А я и не заметила.
– С тех самых пор, как вы пригласили меня на чай. Да, сдерживаюсь, а кроме того, я при этом развлекаюсь.
– Развлекаетесь? Каким образом?
– Наблюдая за другим человеком. Играю, как кошка с мышкой. Вот смотрю вам в глаза и в глубине их вижу бурю желаний и сомнений.
– Эухенио!
– Что?
– Теперь вы расскажете своей жене, что я пригласила вас пить чай?
– Нет… я ведь с ней не живу. Но даже если бы я не жил отдельно, все равно не рассказал бы, потому что у нее наверняка хватило бы времени сбегать ко всем своим приятельницам и сообщить им: «А вы знаете, жена Хуана пригласила моего мужа выпить с ней чаю, когда она была совсем одна…»
– Как непорядочно!
– Ничего подобного. Она честная женщина. И все честные женщины более или менее похожи на нее. Более или менее развратные, более или менее скучные. Иногда они и не прочь бы переспать с приглянувшимся мужчиной, но тут же отступают, и даже с собственным мужем не очень-то спят…
– А что вы подумали, когда я вас пригласила?..
– Когда вы меня пригласили, я было уклонился, но тут же подумал, какой же я идиот, что отказался, непременно соглашусь, если меня еще раз позовут. Когда же вы стали настаивать, чтобы я зашел попить чаю, то я почувствовал ужасное волнение и любопытство…
– Продолжайте, продолжайте, мне так нравится вас слушать.
– Любопытство и волнение. Вот именно. Приключение. Так я подумал, когда шагал рядом с вами. Давно уж я не спал с замужними женщинами, а тем более с женой моего друга…
– Эухенио, вы невыносимы. Я запрещаю вам говорить такое.
– Тогда замолкаю.
– Нет, продолжайте.
– Хорошо. Так на чем мы остановились? Да, я уже говорил, в последнее время меня привлекает лишь одухотворенная любовь… иначе говоря, только молоденькие. Одно понять не могу – почему говорят, что молодые женщины одухотворены?
– Вы в кого-нибудь влюбились?
– Ну нет, но было несколько случаев, и я смог убедиться, что самые, казалось бы умные девушки отличаются невероятной узостью интересов. Вот послушайте. Совсем недавно я познакомился с молоденькой девушкой – она и литературой занимается, и туберкулезом болеет. Пошли мы в кафе, и уже через пять минут она стала болтать о своих цветных пижамах, говорить о своих руках, «бледных, как слоновая кость», и о слабом табаке, и о музыке Дебюсси… Так знаете, что я сделал? Напрочь отмел ее доверительные признания о таких значительных вещах, спросив ее, все ли у нее в порядке по женской части и ежедневно ли бывает стул…
Леонильда оглушительно расхохоталась.
– Ох, Эухенио, Эухенио, вы изумительный дикарь!..
Карл продолжал:
– Она не обиделась, а так как она выглядела ужасно худенькой, мне стало ее жаль. Я решил ей помочь. Составил для нее прекрасный режим дня: с утра шведская гимнастика, за завтраком – цитрусовые, и, поверьте мне, Леонильда… я дошел до того, что не просто беспокоился, справляет ли она нужду ежедневно, но и каков характер стула, объясняя ей, что идеально иметь стул, похожий на яблочное пюре.
– Перестаньте, Эухенио, смените тему…
– Нет, Леонильда… вы должны понять, какое у меня доброе сердце. Я вовсе не дикарь. Я сказал этой девушке: сначала ты должна прибавить десять кило, а уж потом можешь лишаться невинности. Вам не кажется, Леонильда, что девушки с четырнадцати лет должны были бы иметь право спать, с кем им только захочется?
– А как же дети?
– Надо остерегаться. Ужасно ведь, Леонильда, заставлять женщину охранять свою собственную невинность… Ну ладно, так вот, для этой девушки в моих уроках было мало одухотворенности, и она меня оставила, наверное ради какого-нибудь кудрявого юнца, который носит желтенькие перчатки и читает Жана Кокто.
Пока Карл разглагольствовал, Леонильда думала: «Какой он болтун». Стараясь не выдать, что настроение у нее становится все хуже и хуже и что она нервничает, Леонильда протянула руку, поправила искусственный цветок в вазочке и сказала:
– Так вы, Эухенио, рассказывали о…
– Вам скучно?
– С чего вы взяли, Карл?
– По крайней мере в мыслях вы были где-то далеко отсюда.
– Да, вы правы, Эухенио. Я вспоминала, о чем вы думали, когда мы встретились.
– Мне пришло сразу же на ум, как я уже рассказывал, что я стою у истока удивительного приключения. Во всяком, случае, приключения загадочного. С другой стороны, в какой-то степени даже интересно – подвергнуться риску стать под пулю, которую пустит в тебя муж, он же твой друг. Может, и не это… А как вам кажется… Хуан мог бы меня убить?
– Нет… по-моему, нет. Ему, бедняге, было бы так неприятно…
– Вот видите… Мы, современные мужья, не годимся даже для того, чтобы свернуть шею мерзавцу, который крадет у нас жену. Конечно, то, что теперь не сворачивают шею супруге, это достижение науки и цивилизации… но как бы там ни было, а иногда приятно было бы кого-нибудь прикончить… во имя предрассудков. Кроме того, Леонильда, Хуан не убил бы ни вас, ни меня не потому, что он добрый, – он просто понял бы, что вы наставили ему большие, с этот дом, рога, пытаясь хоть чуть-чуть восстановить справедливость… Ну ладно, вернемся к тому, с чего начали… Когда я вошел, первое, о чем подумал, – как разыграть с вами любовную комедию… начать с целования рук или дотронуться до груди…
– Эухенио!..
– Именно об этом я думал.
– Я не разрешаю вам…
– Вот теперь вы разыгрываете комедию…
– Ну хорошо… но не говорите так.
– Прекрасно… Отменяется описание сеанса массажа…








