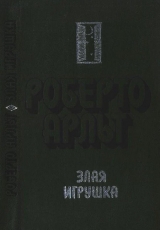
Текст книги "Злая игрушка. Колдовская любовь. Рассказы"
Автор книги: Роберто Арльт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
– Забавно получается. Не хватало еще, чтобы эта сеньора приняла меня в дом за красивые глаза. А я вам скажу, что это, пожалуй, было бы честнее. А так – сеньора Лоайса впустила меня в дом только потому, что я обещал развестись с женой. Значит, мой развод был ценой, которую она требовала за свою дочь? Иначе за каким дьяволом ей надо было меня принимать? Я для нее был находкой. Полный идиот, которым можно вертеть как угодно, вполне оправдывает звание мужа, каков бы он ни был. Испорченную девицу только идиот и возьмет в жены. Своим флагом он, так сказать, прикроет подпорченный товар. У этих женщин не только ни стыда, ни совести, но они еще и опытные притворщицы. Теперь мне понятно, почему как-то раз эта почтенная вдова в разговоре с Зулемой заявила: «Бальдер – простая душа». Что вы на это скажете? Я умолчал обо всем, что заметил, потому что иначе мне правды было не открыть. Но от меня ничто не ускользнуло. Я входил в их дом, как в логово разбойников. Не зная, с какой стороны ожидать предательского удара.
– Наверняка вы не ждали этого удара с полной уверенностью?
– А вы ждали измены Зулемы? Нет. Меж тем в основаниях для этого не было недостатка, правда? И вы пришли ко мне… будто признания жены вам мало.
Альберто качает головой. У него нет доводов в защиту женщин, с которыми он дружен. Наконец восклицает:
– Я вижу, вы страдаете предрассудком насчет женской невинности.
– Не больше, чем они насчет моего развода и вторичного законного брака. Так что, по-моему, тут мы квиты. Вы, надо полагать, думаете, что невинность Ирене для меня так уж много значит. Вовсе нет, друг мой, ее невинность для меня – ничто. Ведь я подозревал, что она утрачена. И подтверждение этого не было для меня неожиданностью. Сумел же я притвориться и не показать вида перед Ирене.
– И что же?
– Скажу больше. Даже если бы эта девушка до меня отдалась десятку мужчин, я оставил бы это без внимания. Разве сам я не был близок с сотней женщин?
– Тогда в чем же дело, Бальдер? Я не понимаю!
– Я ненавижу ложь, отпускаемую ежедневно в разумных дозах, ненавижу сообщничество бездушной матери и лицемерной девицы, ненавижу весь этот фарс, который они передо мной разыгрывали. Когда я признался, что женат, Ирене просто обязана была сказать и о себе всю правду. А она затеяла нечестную игру. И вышло так, что я был втянут в ваше грязное сообщество и играл в нем самую унизительную в моей жизни роль.
– Значит, если бы она призналась, что потеряла невинность, вы не вошли бы в ее дом?
– Это вопрос с подвохом, Альберто. Теперь я уже не могу знать, как бы я поступил тогда. Сейчас у меня совсем другое душевное состояние. И я действую сообразно с тем, что со мной произошло. Ясно вижу все глупости, которые совершил ради Ирене. У меня не может быть ничего общего с женщиной, внутренняя жизнь которой совершенно несходна с моей. Я не искал в Ирене любовницу. Любовниц я могу завести без счета… Ирене тоже это понимает. Для меня она была чистой любовью…
– Я это понимаю.
– Лучше б вы меня не понимали. Может, вам только кажется, что вы понимаете меня.
– Зачем вы это говорите?
– У меня такое ощущение, что вы мне враг.
– А я понимаю, Бальдер, все, что творится у вас в душе.
– Спасибо. О чем я говорил? Ах да… Ирене… Я, как и вы, думал вылепить душу любимой женщины по своему образу и подобию. Воображал, что посвящу ей жизнь. Что мы соединим наши силы. Хотел отдать ей все лучшее, что есть во мне. Я думал, – и это не красивые слова, Альберто, нет, – когда ей исполнится двадцать четыре года, все женщины и мужчины будут оборачиваться и с восхищением смотреть ей вслед. В ней они увидят сверхженщину. Как вы понимаете, эта самая сверхженщина обернулась для меня хитренькой самочкой, которая пойдет но рукам, ехидно посмеиваясь. Разве это не страшно?
По щекам Бальдера катятся жгучие соленые слезы. Он смахивает их яростным движением:
– Не обращайте на меня внимания, Альберто. Я унижен, я оскорблен, как никто на свете. Самые чистые мои мечты посвятил я женщине, которую запросто может обнимать кто угодно. Я не мальчик, но меня все-таки провели, уничтожили. Я верил, что искренность всемогуща, и посмотрите, что сталось со мной! Моя искренность не пробудила в душе Ирене ни отзывчивости, ни благородства. Вообще ничего! За пределами матримониальных интересов душа ее оказалась пустой. Вот именно! Душа ее иссушена развратом и ложью. Вот что! Это душа женщины, которая лжет. Лжет всегда, Альберто, лжет постоянно. Солгала она и тогда, когда уверяла, будто не знает, что Зулема…
– Тут она не солгала.
– Солгала! Она лгала и вам, и матери, и Зулеме… лгала мне… лгала всем на свете. Она лжет, потому что ей надо что-то скрывать, потому что в жилах ее течет негритянская кровь, а негров приучил лгать бич белого человека.
Альберто упорствует:
– Зулема сама сказала мне, что Ирене не знала…
– И Зулема лжет…
– Тогда кому же верить?
– Это вы у меня спрашиваете? Мне-то откуда знать, кому можно верить? Никому и ни в чем.
Боль приливает к щекам Эстанислао, жжет их огнем. Альберто задумался, как шахматист над очередным ходом. Бальдер продолжает:
– Я теперь понял, почему она молчала. Понял, почему поднимала бровь и глядела на меня насмешливо. Понял, откуда у нее опыт бывалой женщины. А я, глупец, говорил ей о любви. Как, должно быть, смеялась надо мной эта «невинная девочка»! Вместе со своей матерью. Они обо, наверное, лопались от смеха! И приговаривали: «Да неужто это и в самом деле женатый человек?»
– Бальдер… Какой вы все-таки странный! Поднимаете бурю в стакане воды. Ирене – добрая и ласковая девушка. Может, у нее и пылкий темперамент, немного пылкий, этого отрицать нельзя, но не более. Вы ошибаетесь, Бальдер. Я знал ее отца…
– Который был подполковником нашей доблестной Армии… Ну, продолжайте: и ее мать, вдову строгих правил, не так ли?
– Не шутите, Бальдер.
– Это вы шутите, Альберто. А мне, ей-богу, не до шуток.
Больше им сказать друг другу нечего. Оба встают, прощаются, механик изучает сквозь очки желтое лицо Бальдера и с запозданием настаивает:
– Послушайте, Бальдер, вы ошибаетесь. Попомните мое слово. Никого нельзя осудить, не доказав вину. Вы ошиблись. Вы совершаете жестокую несправедливость… да… именно, жестокую несправедливость по отношению к девушке, единственная вина которой в том, что она полюбила вас и отдалась вам.
Бальдер крутит головой из стороны в сторону:
– Я не ошибаюсь. С этим покончено! Ирене не была девушкой. Поймите меня хорошенько: не была девушкой. А я, к несчастью, люблю ее по-прежнему!
Альберто берет свою шляпу со стола и, секунду поколебавшись, протягивает руку Бальдеру, обменивается с ним вялым рукопожатием. Выходит. На мгновение останавливается в коридоре, будто забыл что-то сказать, потом шаги его глохнут на линолеуме вестибюля.
Эстанислао падает на стул, подпирает голову руками, опершись локтями о стол, а голос Духа шепчет ему на ухо:
– Бальдер, ты скрыл от механика половину того, что произошло. Почему ты не сказал ему, что вчера, когда ушла Ирене, к тебе зашла твоя жена и ты с ней помирился?
– Ирене не была девушкой.
– И ты думаешь, этого предлога достаточно, чтобы дать тягу? Прекрасно, Бальдер, что и говорить! Ты действуешь, как бездушный игрок. Поставил на карту: а ну как Ирене солгала! И ты выиграл. Выиграл по всем игрецким законам… Но ты вернешься к ней, потому что победа твоя тебе самому в тягость и никакой радости тебе не принесла.
– Я покончил с ней навсегда.
– Ты к ней вернешься…
Перевод В. Федорова
РАССКАЗЫ

Горбунок
 азноречивые и преувеличенные слухи, распространившиеся по поводу моих похождений на квартире у сеньоры Икс в компании Риголетто, горбунка, восстановили в свое время против меня все общество.
азноречивые и преувеличенные слухи, распространившиеся по поводу моих похождений на квартире у сеньоры Икс в компании Риголетто, горбунка, восстановили в свое время против меня все общество.
Все же моя странная выходка сама по себе не закончилась бы для меня таким плачевным образом, если бы я не довел дело до конца и не придушил Риголетто.
Сворачивать горбунку шею оказалось, с моей стороны, неосмотрительной глупостью, и я навредил себе этим поступком больше, чем если бы осмелился поднять руку на какого-нибудь благодетеля рода человеческого.
Полиция, судьи, журналисты – словно с цепи сорвались. И я даже временами спрашиваю себя, имея то есть в виду непреклонность в данном случае нашего правосудия, что, может быть, Риголетто и в самом деле было предназначено со временем стать каким-нибудь необыкновенным деятелем, изобрести что-нибудь выдающееся или другим каким способом осчастливить человечество. Ведь иначе и непонятно, зачем бы еще понадобилось служителям Фемиды обрушиваться на меня с такой немилосердной жестокостью ради бродяги подзаборного, которому, соберись вместе все добропорядочные граждане и надавай ему пинков под зад, так за его несусветную наглость и того было бы мало.
Я, конечно, понимаю, что на нашей планете случаются вещи и похуже, о это слабое утешение для того, кто, подобно мне, с тоской смотрит на источающие гнусь и смрад стены тюремной камеры и ничего хорошего для себя уже не ждет.
Но не иначе как на роду мне было написано, что горбатый навлечет на меня беду.
Хорошо помню, – и любителям богословия и метафизики есть здесь над чем поразмыслить, – что еще с младенческих лет горбатые калеки сильно занимали меня. Я ненавидел их, и они влекли меня к себе, как притягивает и одновременно внушает ужас открывшаяся вдруг под ногами пропасть, когда смотришь вниз с высоты девятого этажа, с балкона, к перилам которого я не раз приближался с замирающим от сладостной жути сердцем. И как не могу я сдержать страха, стоя у края пропасти, лишь только представлю себе, как падаю вниз, задыхаясь от раздирающих грудь спазм, – так и при виде скособоченной фигуры горбуна меня начинает неудержимо преследовать вызывающая дурноту мысль, что это я сам – скрюченное в три погибели существо с отвратительным наростом на спине, отверженное, ютящееся в собачьей; конуре, и стаи злых мальчишек гоняются за мной по пятам, норовя ткнуть меня в горб иголкой.
Это невыносимо… Не говоря уже о том, что у всех горбатых дурной характер: озлобленный, подозрительный… так что я с полным правом осмеливаюсь заявить, что оказал обществу неоценимую услугу, придушив Риголетто и избавив тем самым всех своих сограждан, наделенных чувствительным сердцем, подобным моему, от устрашающего и отталкивающего зрелища. К тому же горбунок был очень жестоким человеком. Таким жестоким, что я ежедневно вынужден был повторять; ему:
– Послушай, Риголетто, ты что, с ума спятил? Перестань сейчас же истязать животное. Что тебе эта свинья сделала? Ведь ничего. Не так, скажешь?
– А вам-то что?
– А то, что свинья здесь ни при чей, у тебя, видать, просто дурное настроение, и ты решил сорвать злобу на бессловесной скотине.
– Ну, когда мне захочется по-настоящему позабавиться, я оболью эту тварь керосином и подожгу.
И с этими словами горбунок с удвоенной силой принимался нахлестывать кнутом по поросшему короткой щетиной хребту животного, скрежеща при этом зубами, как театральный злодей. А я не отставал:
– Ой, Риголетто, дождешься ты, что я откручу тебе голову. Одумайся, Риголетто. Мой тебе дружеский совет…
Но все мои увещевания оставались гласом вопиющего в пустыне. Горбунку доставляло дьявольское удовольствие поступать мне наперекор и поминутно выказывать свой насмешливый и жестокий характер. Напрасно я обещал спустить с него семь шкур или трахнуть хребтиной об стену так, что горб спереди вылезет. Ему хоть кол на голове теши.
Возвращаясь к моему теперешнему положению, замечу, что если я себя сейчас в чем упрекаю, так в том, что имел глупость довериться журналистам и пуститься с ними в обсуждение всех этих тонкостей.
Я думал, они меня правильно поймут, и вот теперь мое доброе имя навеки опорочено, ведь далеко не самое сильное из того, что обо мне понаписали эти мараки – это что я сумасшедший; совершенно серьезно утверждалось также, что, судя по моим поступкам, я обладаю полным набором качеств отпетого негодяя.
Я не стану, разумеется, лезть из кожи и доказывать, что я вел себя в доме у сеньоры Икс как истинно воспитанный человек. Нет, избави бог. По крайней мере дать в этом честное слово я бы себе не позволил.
Но подобное крайнее суждение нисколько не дальше отстоит от истинного понимания моих душевных свойств, чем инсинуации моих врагов. Они льют на меня ушаты грязи и называют чудовищем, ссылаясь на ту веселую непосредственность, с какой я повествую об известных своих поступках и даю к ним пояснения, как будто именно эта непосредственность и не является свидетельством моей неиспорченности, не доказывает с очевидностью, какой у меня отзывчивый и сердечный нрав.
С другой стороны, если уж мерить мои поступки, так самой высокой мерой: мерой моих страданий. Я столько выстрадал за свою жизнь. Не скрою, что постоянным источником душевных мук была для меня моя повышенная чувствительность, настолько обостренная, что, стоило мне, бывало, взглянуть на человека, я с уверенностью мог уловить тончайшие оттенки его мыслей и, что хуже всего, никогда не ошибался. Я отчетливо различал, как, в зависимости от обуревавших ее чувств, душа человека переливается всеми цветами, от багрового, когда он разгневан, до травянисто-зеленого, когда он испытывает нежность, подобно тому как луч лунного света, преломляясь в атмосфере, изменяет свою окраску в зависимости от плотности скопления водяных частиц. И мне не раз говорили потом:
– Помните, года три назад вы мне сказали что я думаю по такому-то поводу. Так вот, вы были тогда правы.
Так и шел я но жизни и, глядя в лица мужчин и женщин, без труда мог видеть, какие пружины управляют их стремлениями, какие страсти движут ими, неизменно угадывая по их уклончивым взглядам, по легкой дрожи в уголках губ, по едва заметному трепету ресниц их затаенные желания, их скрытую боль. И никогда я не был более одинок, чем тогда, когда все они были для меня как на ладони.
И вот, сам того не желая, я открыл для себя, что даже самые незначительные наши поступки замешаны на низких помыслах и люди, которые были в глазах своих ближних добрыми и порядочными, стали для меня тем, что Христос назвал гробами поваленными. Мое природное добродушие постепенно омрачилось, и я превратился в замкнутого и желчного субъекта. Но так я никогда не доберусь до того, ради чего затеял это повествование, то есть, собственно, до первопричины моего нынешнего бедственного положения. А началось все в тот самый день, когда меня дернул черт привести к сеньоре Икс злополучного горбунка.
У сеньоры Икс я был завсегдатаем и на меня там «имели виды», проча за меня одну из дочерей. Произошло это самым любопытным образом. Сеньора Икс так ловко обстряпала дело, что я и оглянуться не успел, как стал в этой семье своим человеком, причем действовала она наверняка и с точным расчетом, суть которого сводится к тому, что вам отказывают в глотке воды и ставят перед носом, хотите вы того или нет, непочатую бутылку. Можете себе представить, каково приходится человеку, которого мучит жажда. Когда его еще и подзуживают, что, дескать, ничего у тебя не выйдет. Я не преувеличиваю, есть свидетели. Так что совесть моя чиста. Более того, когда наши взаимоотношения оказались на грани разрыва, я поспешил сделать все возможное, чтобы этого не произошло, чем вызвал негодование друзей дома. И это тоже весьма любопытно. Многие матери одобряют подобного рода отношения между своими дочерьми и их женихами, и стоит вам потерять бдительность – если только на потерявшего бдительность может снизойти просветление, – вы с ужасом обнаруживаете, что дела зашли дальше, чем того позволяют приличия.
А теперь обратимся к горбунку, чтобы воздать каждому по заслугам его. Когда он в первый раз появился у меня, он был совершенно пьян, оскорбил старую служанку, которая вышла его встретить, и поднял такой гвалт, что, наверно, и на улице было слышно:
– В чем дело? Почему не гремит музыка в мою честь? Почему рабы, куда они к черту все запропастились, не спешат мне навстречу умащать мои чресла? Вместо нежных отроков с урыльниками на меня напустилась у входа какая-то смрадная, беззубая ведьма! Как вы только можете жить в такой трущобе? – И, окинув высокомерным взглядом свежевыкрашенные двери, воскликнул: – Да это же не жилище порядочного человека, а москательная лавка! Мне просто блевать хочется! Почему вы не догадались хотя бы окропить стены благовониями, зная кто придет? Или до вас не доходит, что здесь воняет скипидаром?
Каков наглец, а? И в эти руки попала моя судьба!
Это серьезно, милостивые государи, это очень серьезно.
Если начать по порядку, я познакомился с горбунком в кафе: я хорошо помню этот день. Я задумчиво сидел за столиком, уткнувшись носом в чашку, как вдруг, подняв глаза, обнаружил напротив себя горбатого человечка в одной рубашке, ножки которого болтались чуть ли не в полуметре от пола, внимательно наблюдавшего за мной и сидевшего самым неприличным способом: оседлав стул и облокотившись о его низкую спинку.
Из-за жары он только что скинул с себя пиджак и, почувствовав облегчение, зыркал теперь черными выпученными глазищами на игроков в бильярд. Был он таким коротышкой, что едва доставал плечами до поверхности стола. И, наблюдая, как я уже сказал, за игрой, он сочетал это занятие с не менее важным – внимательно поглядывал на свои часы, словно время, которое они ему сообщали, имело для него большее значение, чем то, которое обозначено было на огромных часах, украшавших стену заведения.
Но самым чудным в его облике, кроме, конечно, горба, была голова – квадратная, с вытянутым округлым лицом, похожая одновременно на мулью, если смотреть сбоку, и на лошадиную, если смотреть в фас.
Некоторое время я разглядывал уродца с любопытством, с каким смотрят на внезапно выпрыгнувшую откуда-то жабу; он же, нисколько не оскорбившись, произнес, обращаясь ко мне:
– Не будете ли вы столь любезны, кабальеро, позволить мне воспользоваться вашими спичками?
Улыбнувшись, я протянул ему коробок: человечек зажег наполовину выкуренную сигару и после короткой паузы, во время которой он пристально изучал меня, воскликнул:
– А вы симпатичный парень! Наверно, невесты за вами косяками ходят.
Лесть всегда приятна, даже если она исходит из уст такой уродины, и я весьма доброжелательно отвечал ему, что да, у меня действительно есть невеста, красавица, хотя я не совсем уверен, что она меня любит, на что незнакомец, которого я про себя сразу же окрестил Риголетто, с наставительным видом кивавший головой, пока я говорил, откликнулся:
– Не знаю почему, но как только я вас увидел, мне моментально пришла в голову мысль, что из таких вот парней и получаются со временем отличнейшие рогоносцы. – И не успел я прийти в себя от ошеломления, в которое этот скоморох поверг меня своей неслыханной наглостью, добавил:
– Что касается меня, кабальеро, то у меня, верите ли, никогда не было невесты, говорю вам сущую правду…
– Уж в чем в чем, а в этом я ни капельки не сомневаюсь, – отвечал я с ухмылкой.
– Я очень рад, что вы так покладисты, кабальеро, потому что мне совсем не хотелось бы затевать с вами ссору…
Пока он говорил, меня так и подмывало встать и стукнуть его по башке или выплеснуть ему в физиономию остатки кофе, но я сдержался, убедив себя, что, ввяжись я в подобных обстоятельствах в драку, я же буду еще и виноват, и, когда я переборол себя и решил не связываться, – тем более что эта жаба в человеческом обличии даже чем-то начинала мне нравиться, своей из ряда вон выходящей развязностью, должно быть, – горбунок, одарив меня самой шутовской улыбкой из своего репертуара, произнес, обнаруживая желтые лошадиные зубы:
– Эти часы обошлись мне в двадцать песо… На моем галстуке ни морщинки, и он стоил мне восемь песо… Обратите внимание на мои ботинки, кабальеро, они стоят тридцать два песо… Разве кому-нибудь может взбрести в голову назвать меня голодранцем? Никогда! Не так, скажете?
– Ну что бы!
Он поморгал набрякшими веками и, мотнув головой, как шаловливый медвежонок, повел свою речь дальше, одновременно как бы вопрошая и утверждая:
– Так приятно бывает исповедаться в своих личных делах постороннему человеку, как вы считаете, кабальеро? А много ли найдется таких, кто мог бы так вот запросто подсесть в кафе к незнакомому человеку и завязать с ним любезную беседу, как делаю я? Не много, ответите вы. А почему, скажите?
– Не знаю…
– Потому что мое лицо источает непорочную честность.
Довольный донельзя своим умозаключением, мошенник с чертовским изяществом потер руки и изрек, окидывая помещение взглядом победителя:
– Я мягче французской булки и капризнее беременной на пятом месяце. Достаточно взглянуть на меня, чтобы убедиться, что я один из тех избранных, которых господь бог время от времени ниспосылает на землю в утешение роду людскому, дабы не отчаялась паства его, и хотя я не верую в пресвятую богородицу, благостыню источают уста мои и речи мои сладки, как гиметский мед.
Глаза полезли у меня на лоб от удивления, а Риголетто продолжал:
– Я мог бы теперь быть адвокатом, если бы учился, да вот не получилось. Зато я достиг совершенства в искусстве владения щеткой.
– Щеткой?
– Ну да, сапожной щеткой… И горжусь этим, потому что без посторонней помощи достиг общественного положения, которое занимаю. Или вас смущает, что я называю это искусством? Но разве самый последний уличный сапожник не величает себя «обувных дел мастером», какой-нибудь парикмахеришка – «специалистом по художественной стрижке и укладке волос» и «артистом» – платный партнер на танцульках?
Нет, честное слово, такого пройдохи я не встречал еще в своей жизни.
– А теперь вы что поделываете?
– Тем, кто меня не забывает, советую, на какой номер поставить. Уверен, что вы тоже будете моим клиентом. Могу рекомендовать…
– Не имею ни малейшего желания…
– Хотите сигару?
– Не откажусь.
Когда я раскурил предложенную мне сигару, Риголетто оперся лапкой о мой столик и произнес доверительно:
– Я вообще-то не очень люблю завязывать новые знакомства, так как люди вокруг, как правило, лишены такта и дурно воспитаны, но вы мне сразу понравились… показались мне человеком порядочным, и я хотел бы быть вашим другом, – и, произнеся эти слова, горбунок, хотите верьте, хотите нет, спрыгнул со стула и уселся за мой столик.
После этого вы не будете сомневаться, что Риголетто был самым бесцеремонным из своих собратьев, и это показалось мне настолько забавным, что я не мог удержаться и, протянув руку, похлопал его по горбу.
Уродец сделал было строгое лицо, но, решив, видно, что так будет лучше, рассмеялся:
– Пусть он принесет вам удачу, кабальеро, мне же от него одни убытки.
Я никогда не верил, что моя невеста может испытывать ко мне то же пылкое чувство влюбленности, которое меня заставляло грезить о ней днем и ночью.
Временами мне казалось, что моя жизнь наткнулась на нее, как река на возникшую вдруг посреди течения скалу. И это вот ощущение – что я река, разделившаяся на два рукава, с каждым днем иссякающие, так как скала с каждым днем раздается вширь, – и придавало прелесть тому жуткому, захватывающему дух наслаждению, в котором воедино слились упоение любовью и собственной гибелью. Вы улавливаете мою мысль? Жизнь, текущая в нас, натыкается, как на каменную глыбу, на другую жизнь, а поскольку воде не под силу с ходу разрушить камень, мы в конце концов страстно влюбляемся в это препятствие, которое стесняет наше движение, само оставаясь неподвижным.
Как водится, с первых же дней нашего знакомства она постаралась, со свойственной ей насмешливой холодностью, дать мне почувствовать тяжесть своей власти. В чем выражалось это ее посягательство на мою свободу, я не мог бы сказать точно, но постоянно испытывал в ее присутствии как бы повышенное атмосферное давление. Рядом с ней я казался себе в собственных глазах каким-то смешным и уничиженным и не мог сам объяснить, чем это вызвано.
Излишне говорить, что я ни разу не осмелился поцеловать ее, вбив себе в голову, что это будет воспринято ею как оскорбление. И это еще не все, мне легче было вообразить ее в объятиях другого, хотя, как я теперь понимаю, подобная извращенность воображения была следствием того, что я вел себя с нею как последний дурак.
Между тем, в силу тех любопытных преобразований, которые производит в нас иногда алхимия чувств, я яростно возненавидел ее мать, возлагая на нее главную вину за идиотскую историю, в которую я влип. Ведь если я оказался в женихах, я был обязан этому проискам злокозненной старухи, и в короткий срок сложилось самое невероятное и противоестественное положение, ибо уже не любовь к дочери заставляла меня ходить в этот дом, а ненависть к матери, исподтишка, но настойчиво продолжавшей гнуть свое, постоянно сосредоточенной на своих расчетах и как бы оценивающей, насколько велика в данный момент вероятность того, что я наконец решусь сделать предложение ее дочери. Лицо матери не отпускало меня, как кошмар, как воспоминание о тяжком оскорблении или пережитом невыносимом унижении. Я забывал о девушке, сидящей рядом со мной, и погружался в изучение этого лица, по-старушечьи оплывшего и дряблокожего, иногда такого неподвижного, словно отчеканенного на потемневшем серебре, – и только черные ее глаза впивались в вас живо и цепко.
Ее щеки были изборождены глубокими морщинами, и когда она сидела посреди гостиной, застывшая и суровая, глядя куда-нибудь в сторону, например уставившись в потолок, от ее закутанной в черное фигуры исходила такая непреклонная воля, что одного этого было достаточно, чтобы заставить вас подчиниться ей, и звучание ее сильного и властного голоса ничего уже не могло добавить к этому впечатлению.
В один прекрасный момент я почувствовал, что становлюсь ненавистен этой женщине, что ей в сердце закрадываются сомнения, «не просчиталась ли она», делая на меня ставку и возлагая на меня свои надежды.
И чем больше разгоралась и клокотала в ее душе ненависть, тем ласковее ко мне становилась сеньора Икс, – осведомлялась о моем здоровье, всегда оставлявшем желать лучшего, окружала меня своими заботами, как пожилые женщины, делаясь с годами слегка сентиментальными, окружают заботами своих взрослых сыновей, и в то же время, как чудовищная паучиха, все плела и плела вокруг меня невидимую паутину, стараясь опутать меня обязательствами но рукам и ногам. Только ее черные цепкие глаза настороженно следили за мной, пытаясь проникнуть мне в душу и разгадать мои намерения. Время от времени, когда неопределенность положения делалась ей невыносима, она пыталась разрешить ее чуть ли не напрямую:
– Подруги проходу мне не дают, все спрашивают, когда же свадьба, а что я могу им ответить? Что скоро. Или так: да, пора бы нам и о приданом для «нашей девчушки» подумать.
Произнося эти слова, сеньора Икс смотрела на меня в упор, не дернется ли у меня веко, не дрогнет ли какой мускул на лице, выдавая мое намеренье уклониться от навязанных мне обязательств, когда она затратила столько сил и хитрости, чтобы подтолкнуть меня к их выполнению. И хотя она была уверена, что я ее неприятно: разочарую, она делала вид, что нисколько не сомневается в моей «порядочности» и в моем «рыцарском благородстве», но усилие, которое ей приходилось производить над собой, чтобы надеть эту маску спокойствия, придавало ее голосу приторную ненатуральность, сообщавшую речи поспешность шепотка, словно вам хотят рассказать что-то по секрету, на ухо, а непроизвольное движение, с каким она по-звериному облизывала пересохшие губы, выдавало ее страстное желание прикончить меня на месте или сделать: меня объектом долгой и жестокой мести.
При всем своем самодурстве сеньора Икс без зазрения совести кривила душой, желая меня убедить, что разделяет мои идеи, ненавистные ей в самом широком смысле этого слова. Это она-то, можете себе представить, у которой всегда вызывали бурный энтузиазм самые беззастенчивые и грязные из подвизавшихся на нашей политической ниве ретроградов и мракобесов!
И хотя разница в убеждениях может показаться, на первый взгляд, пустячным поводом для того, чтобы два человека возненавидели друг друга, но это совсем не такие уж пустяки, и в том месте человеческого подсознания, где скапливается злоба, когда иного выхода для нее нет, разница в убеждениях может послужить той психологической отдушиной, через которую она выходит наружу. Меня выводила из себя такая ее сговорчивость и попытки подстроиться под меня: от общения с этой женщиной у меня было такое чувство, словно я вывалялся в грязи, и меня унижало сознание, что, назови я однажды день ночью, она тотчас с готовностью подтвердит:
– Действительно, я и не заметила, что уже стемнело.
Короче говоря, если все это выразить в нескольких словах, она поджидала момента, когда я наконец решусь жениться. Вот тут-то она и захлопнула бы у меня перед носом дверь, чтобы расквитаться за нервотрепку, причиненную ей перипетиями моего затянувшегося жениховства.
Между тем ячейки сети с каждым разом все суживались, и мне было все труднее протискиваться сквозь них. День за днем сеньора Икс добавляла новое звено к своей пряже, и невыносимая тоска охватывала меня по временам, словно у меня на глазах пилили доски для гроба, в котором я буду погружен в вечное небытие.
Я знал, что стоит мне пойти у них на поводу и согласиться стать членом этой семьи, – немногие добрые качества, оставшиеся во мне, разобьются вдребезги. Обе они, и маменька, и дочка, сядут, как говорится, на меня и поедут, и я буду вынужден весь свой век делить с ними их мелочные заботы, жить их жвачной жизнью, лишенной положительных идеалов, обречь себя на беспросветное прозябание, когда личность человека постепенно разрушается под бременем материальных забот и он превращается с годами в бездумного робота с пристежным воротничком, которого жена и теща поминутно едят поедом за то, что он приносит мало денег или не пришел домой вовремя.
Я давно понял, что не создан для такого рабства. С большей готовностью я, кажется, согласился бы ночевать под железнодорожной насыпью, на голой земле, чем прогуливать по дорожкам сквера коляску с посапывающей внутри запеленутой куклой, наличие которой, по общему мнению, должно внушать мне «чувство отцовской гордости».
Увольте, я никогда не мог постичь, чем здесь гордиться и, признаюсь, чувствую скорее стыд и досаду, когда взрослый человек начинает распинаться передо мной по поводу того, что супруга подарила ему сына и какой он поэтому счастливый. Я сотни раз ловил себя на мысли, что такого рода сюсюканье – или надувательство, или непролазная глупость. Ведь вместо того, чтобы прыгать от счастья вокруг колыбели новорожденного, мы должны лить слезы, что произвели на свет еще одно жалкое и слабое человеческое существо, обреченное на долгие годы страданий и редкие минуты радости.








