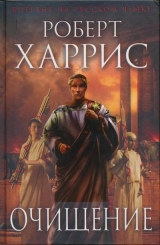
Текст книги "Очищение"
Автор книги: Роберт Харрис
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
Роберт Харрис
«Очищение»
Часть первая
КОНСУЛ
63 г. до н. э
Абсолютно неблагодарная задача – сохранение Республики, не говоря уже об управлении ею!
Цицерон, речь 9 ноября 63 г. до Р.Х.
I
За два дня до инаугурации Марка Туллия Цицерона в качестве консула Рима из Тибра, недалеко от стоянки Республиканского военного флота, было выловлено мертвое тело мальчика.
Такое событие, хотя и трагическое само по себе, в другой ситуации не привлекло бы к себе внимания вновь избранного консула. Однако в этом трупе было нечто столь гротесковое и потому угрожающее спокойствию граждан, что магистрат[1]1
Должностное лицо, избираемое населением на 1 год, для безвозмездного исполнения государственных функций в Древнем Риме.
[Закрыть] Октавий, отвечающий за поддержание порядка в городе, послал за Цицероном и попросил того немедленно прибыть на место происшествия.
Сначала Цицерон отказывался идти, ссылаясь на работу. Как кандидату, набравшему наибольшее количество голосов, ему, а не его коллеге предстояло председательствовать на открытии сессии Сената, и он писал свою инаугурационную речь. Но я знал, что за его отказом кроется нечто большее. Он невероятно брезгливо относился к смерти. Даже убийство животных во время игр выбивало его из колеи, и эта слабость – а в политике доброе сердце это, несомненно, слабость – становилась известна другим. Первой его реакцией было послать меня вместо себя.
– Ну конечно, я пойду, – осторожно ответил я. – Однако… – Я замолчал.
– Что? – резко спросил он. – Что «однако»? Ты думаешь, что обо мне плохо подумают?
Я ничего не ответил и продолжал записывать его речь. Молчание затягивалось.
– Ну что ж, хорошо, – наконец вздохнул Цицерон. Он поднялся на ноги. – Октавий большая зануда, однако дело свое знает. Он бы не посылал за мной, если бы на то не было причины. И, в любом случае, мне надо проветриться.
Был конец декабря, и на улице дул ветер, от которого у человека мгновенно перехватывало дыхание. На улице сгрудилось около десятка просителей, ожидающих возможности высказаться, и, когда вновь избранный консул вышел из двери, они бросились к нему через дорогу.
– Не сейчас, – сказал я, отталкивая их. – Не сегодня.
Цицерон закинул конец своего плаща через плечо, прижал подбородок к груди и быстро зашагал вниз по холму.
Мы прошли, наверное, около мили, под углом пересекли Форум и вышли из города через ворота, ведущие к реке. Вода в реке стояла высоко, течение было быстрым, и то тут, то там на воде появлялись водовороты и рябь. Впереди нас, напротив Тиберианы, среди верфей и кранов Навалии, мы увидели большую волнующуюся толпу людей. (Вы поймете, как давно все это было – прошло уже более полувека, – если я скажу вам, что в то время мосты еще не соединяли остров ни с одним из берегов Тибра.) Когда мы подошли ближе, многие из зевак узнали Цицерона, и по их рядам прошел шорох любопытства, в то время как они расступались, пропуская нас. Кордон легионеров из морских бараков стоял в оцеплении вокруг места происшествия. Октавий ждал нас.
– Прошу прощение за беспокойство, – сказал он, пожимая руку моего хозяина. – Я понимаю, как вы должны быть заняты накануне своей инаугурации.
– Мой дорогой Октавий, я рад видеть тебя в любое время. Ты знаком с Тироном, моим секретарем?
Октавий посмотрел на меня без всякого интереса. Хотя сейчас его помнят только как отца Августа, в то время он был эдилом[2]2
Должностное лицо (магистрат), ведавшее общественными играми, надзором за строительством и содержанием храмов, раздачей хлеба гражданам и т. д.
[Закрыть] из плебеев и восходящей звездой на политическом небосклоне. Он сам вполне мог стать консулом, не умри неожиданно от лихорадки через четыре года после описываемых событий. Эдил увел нас с ветра в один из военных доков, в котором, на больших деревянных катках, стоял корпус легкой галеры, готовый к ремонту. Рядом с ним, на земле, лежал какой-то предмет, завернутый в парусину. Без всяких церемоний Октавий отбросил ткань и показал нам обнаженный труп мальчика.
Насколько я помню, ему было около двенадцати лет. Красивое умиротворенное лицо, похожее на женское. На щеках и на носу виднелись остатки золотой краски, а в его влажных, темных волосах была завязана красная ленточка. У трупа было разрезано горло. На теле длинный вертикальный разрез, внутренние органы отсутствовали. Крови не было, только темная удлиненная полость, как у выпотрошенной рыбы, заполненная речной тиной. Не знаю, как Цицерону удалось сохранить присутствие духа, но я видел, что он с трудом сглотнул и продолжил осмотр. Наконец хозяин хрипло произнес:
– Это настоящее злодейство.
– И это еще не все, – сказал Октавий.
Он присел на корточки, взял голову ребенка в руки и повернул ее влево. От этого движения рана на шее бесстыдно открылась и закрылась, как будто это был второй рот, который пытался нас о чем-то предупредить. Казалось, это не произвело на Октавия никакого впечатления, но, с другой стороны, он был военным человеком и, несомненно, привык к таким видам. Отодвинув волосы трупа, эдил показал глубокую вмятину, как раз над правым ухом мальчика, ткнув в нее пальцем.
– Видите, как будто его ударили сзади? Думаю, наверное, молотком.
– Раскрашенное лицо. Волосы перевязаны лентой. Удар нанесен молотком, – повторил Цицерон, и было видно, как к нему постепенно приходит осознание того, что могло произойти. – Потом ему перерезали горло. И, наконец, его тело было… выпотрошено.
– Именно, – сказал Октавий. – По-видимому, его убийцы хотели исследовать его внутренности. Он – жертва человеческого жертвоприношения.
При таких словах в этом холодном и плохо освещенном месте волосы у меня на голове и шее встали дыбом, и я почувствовал присутствие Зла – почти ощутимого физически и обладающего силой молнии.
– А ты где-нибудь слышал, есть ли в городе культы, которые совершают подобную мерзость? – поинтересовался новый консул у эдила.
– Ни одного. Конечно, в городе есть галлы – говорят, что они подобные вещи практикуют. Но сейчас их в городе не так много, да и ведут они себя вполне прилично.
– А кто жертва? Кто-то уже заявил о пропаже?
– Это еще одна причина, по которой я попросил тебя прийти. – Октавий перевернул тело на живот. – Видишь, прямо над копчиком у него маленькая татуировка? Те, кто выловил тело, не обратили на нее внимания. «С. Ant. М. f. С. n.» – Гай Антоний, сын Марка, внук Гая. Вот тебе и известная фамилия. Он был рабом твоего коллеги, консула Антония Гибриды. – Октавий поднялся и вытер руки о парусину, затем небрежно набросил ткань на тело. – Что ты собираешься делать?
Цицерон как загипнотизированный смотрел на кучу, лежащую на земле.
– Кто еще об этом знает?
– Никто.
– Гибрида?
– Нет.
– А толпа снаружи?
– Только слухи о том, что произошло ритуальное убийство. Ты же лучше других знаешь, что такое толпа. Говорят, что это плохое предзнаменование накануне твоего консульства.
– Может быть, они и правы.
– Тяжелая зима. Им бы неплохо успокоиться. Я полагаю, что надо послать за кем-то из жрецов, чтобы они совершили обряд очищения, что ли?
– Нет-нет, – быстро ответил Цицерон, отрывая взгляд от тела. – Никаких жрецов. Они только все осложнят.
– Тогда что нам делать?
– Никому ничего не говорить. Сожгите останки как можно скорее. Запретите всем, кто их видел, говорить о них, под страхом тюремного заключения.
– А как же толпа?
– Вы разберитесь с телом, а толпу предоставьте мне.
Октавий пожал плечами.
– Как тебе будет угодно. – Ему было все равно. Это был предпоследний день его службы – думаю, он был рад, что эта проблема его уже не касалась.
Цицерон подошел к двери и несколько раз глубоко вздохнул. Его щеки порозовели. А затем я увидел, как и много раз раньше, как он расправил плечи и придал своему лицу уверенный вид. Он вышел на улицу и забрался на гору бревен, чтобы обратиться к толпе:
– Граждане Рима! Я убедился, что мрачные слухи, которыми полон Рим, не соответствуют действительности. – Цицерону приходилось кричать, чтобы его услышали на таком ветре. – Расходитесь по домам и наслаждайтесь праздником.
– Но я видел тело! – закричал один из мужчин. – Это человеческое жертвоприношение, чтобы навести порчу на Республику!
Его крик подхватили другие:
– Этот город проклят! Твое консульство проклято! Приведите жрецов!
– Да, труп находится в ужасном состоянии. А что вы хотите? Бедняга провел в воде много времени. А рыбы голодны. Они хватают пищу там, где могут… – Цицерон поднял руку, чтобы успокоить толпу. – Вы что, действительно хотите, чтобы я пригласил жрецов? А зачем? Чтобы они прокляли рыбу? Или благословили ее? Расходитесь по домам. Наслаждайтесь жизнью. Через день наступает Новый год! И новый консул – можете быть в этом уверены – будет стоять на страже вашего благополучия!
По его стандартам, это было среднее выступление, но своей цели оно достигло. Раздалось даже несколько восторженных возгласов. Консул спрыгнул вниз. Легионеры расчистили для нас проход сквозь толпу, и мы быстро двинулись в сторону города. Когда мы подходили к воротам, я оглянулся. По краям толпы люди уже уходили в поисках новых развлечений. Я повернулся к Цицерону, чтобы поздравить его с эффектным выступлением, и увидел, что он стоит, согнувшись, над канавой. Его рвало.
Таким город был накануне вступления Цицерона в должность консула: водоворот из голода, слухов и тревог. Он был полон ветеранов-инвалидов и разорившихся крестьян, которые просили милостыню на каждом углу. Бесчинствующие банды пьяных молодых людей терроризировали торговцев. Женщины из приличных семей открыто предлагали себя перед тавернами. То тут, то там возникали большие пожары и происходили ожесточенные стычки. Собаки выли в безлунные ночи. Город наполняли фанатики, прорицатели и нищие всех мастей. Помпей все еще командовал легионами на Востоке, и в его отсутствие по городу распространялась атмосфера неуверенности и страха, наползавшая на город как туман с реки, заставляя всех дрожать за свое будущее. Казалось, что вот-вот что-то должно произойти, но никто не знал, что именно. Говорили, что новые трибуны работали вместе с Цезарем и Крассом над планом передачи общественных земель городской бедноте. Цицерон попытался что-то об этом узнать, но потерпел неудачу. Магазины были пусты – товаров не было, еду запасали впрок. Даже ростовщики перестали давать деньги в рост.
Что же касается второго консула, Антония Гибриды – Антония-полукровки, получеловека, полуживотного, – то он был буйным идиотом, который пытался избраться в тандеме с заклятым врагом Цицерона Катилиной. Несмотря на это и предвидя сложности, с которыми им придется столкнуться, Цицерон, нуждавшийся в союзниках, приложил колоссальные усилия, чтобы установить с ним добрые отношения. К сожалению, его усилия ни к чему не привели, и я объясню почему. По обычаю, в октябре вновь избранные консулы тянули жребий, какой провинцией они будут управлять, когда закончится их год на посту консула. Гибрида, который был в долгах, как в шелках, мечтал о неспокойной, но очень богатой провинции Македонии, где можно было сделать себе большое состояние. Однако, к его разочарованию, ему достались мирные пастбища Ближней Галлии, где даже мыши было трудно прокормиться. Македония же досталась Цицерону. Когда эти результаты были объявлены в Сенате, на лице Гибриды появилось такое выражение детской обиды и удивления, что весь Сенат покатился со смеху. С тех пор он и Цицерон не разговаривали.
Неудивительно, что Цицерон так много времени уделял подготовке своей инаугурационной речи. Однако, когда мы вернулись домой, он все никак не мог сосредоточиться. Хозяин смотрел куда-то вдаль с отсутствующим выражением на лице и повторял один и тот же вопрос: «Почему мальчика убили таким способом? И какое значение имеет то, что он был собственностью Гибриды?» Он был согласен с Октавием – наиболее вероятными виновниками являлись галлы. Цицерон даже послал записку своему другу, Фабиусу Санге, который представлял интересы галлов в Сенате. В ней он спрашивал, считает ли Фабиус подобное возможным? Однако через час Санга прислал довольно раздраженный ответ, заявив, что, конечно, нет и что галлы очень сильно обидятся, если консул будет продолжать настаивать на подобных спекуляциях. Цицерон вздохнул, отбросил письмо и попытался собраться с мыслями. Однако ему никак не удавалось придумать что-то путное, и незадолго до захода солнца он опять потребовал подать себе плащ и сапоги.
Я подумал, что хозяин хочет прогуляться в общественном саду, расположенном недалеко от дома, как он это часто делал, когда сочинял свои выступления. Но, когда мы добрались до гребня холма, вместо того чтобы повернуть направо, он направился к Эсквилинским воротам, и, к своему удивлению, я понял, что консул хочет пересечь границу того места, где сжигались трупы. Обычно он избегал его всеми правдами и неправдами. Мы прошли мимо носильщиков с ручными тележками, ожидающих работы прямо за воротами, а затем и мимо приземистой резиденции палача, которому запрещалось жить в границах города. Наконец мы пришли на священную землю Лабитины[3]3
Богиня мертвых и похорон.
[Закрыть], полную каркающих воронов, и подошли к храму. В те времена он был штабом гильдии могильщиков: здесь можно было купить все необходимое для погребения, начиная от приспособлений для умащивания тела и кончая ложем, на котором тело сжигалось. Цицерон взял у меня денег и пошел переговорить со жрецом. Он передал ему кошелек, и появились два официальных плакальщика. Цицерон позвал меня.
– Мы как раз вовремя, – сказал он.
Наверное, мы представляли собой довольно забавную процессию, когда пересекали Эсквилинское поле. Первыми шли плакальщики, неся в руках горшки с благовониями, затем – вновь избранный консул, а затем – я. Вокруг нас, в сумерках, плясали огни погребальных костров, раздавались крики неутешных родственников. В воздухе висел запах благовоний – сильный, но недостаточно сильный, чтобы отбить запах горящей плоти. Плакальщики привели нас к общественной устрине[4]4
Место для сжигания трупов.
[Закрыть], где куча трупов на телеге ожидала своей очереди быть сожженной. Без одежд и обуви эти никому не нужные тела были такими же нищими в смерти, какими были и в жизни. Только тело убитого мальчика было покрыто: я узнал его по парусине, в которую он теперь был туго укутан. Пара служащих легко забросили его на металлическую решетку, Цицерон наклонил голову, а наемные плакальщики громко застонали, надеясь, без сомнения, на хорошие чаевые. Порыв ветра пригнул ревущее пламя к земле, и очень быстро все было кончено: мальчик отправился навстречу тому, что ожидает всех нас.
Эту сцену я не забуду никогда.
Без сомнения, величайшим даром Провидения людям является то, что мы не знаем своего будущего. Представьте себе, если бы мы заранее знали результаты наших планов и надежд или если бы могли предвидеть, как умрем – как страшна была бы наша жизнь! А вместо этого мы, как животные, беспечно проживаем день за днем. Однако рано или поздно всему приходит конец. Люди, события, цивилизации подчиняются этому закону: все существующее под звездами когда-нибудь исчезнет; даже самые твердые скалы превращаются в пыль. Только рукописи вечны.
И с этой мыслью и надеждой, что мне удастся выполнить свою задачу до моей кончины, я расскажу вам невероятную историю консульства Цицерона и то, что произошло с ним за четыре года после окончания его срока. За тот период времени, который мы, смертные, называем люстр[5]5
Пятилетний период в Древнем Риме между двумя очистительными жертвоприношениями, производимыми одним из цензоров от имени народа Рима.
[Закрыть] и который для богов не более чем мгновение.
II
На следующий день, накануне инаугурации, выпал снег – сильный снегопад, который обычно можно наблюдать только в горах. Он одел храмы Капитолия в мягкий белый мрамор и накрыл город белым покровом в руку толщиной. Ни о чем подобном я никогда не слышал и, принимая во внимание мой возраст, наверное, больше и не услышу. Снег в Риме? Конечно, это был знак. Но знак чего?
Цицерон расположился у себя в кабинете, возле жаровни с горячими углями, и продолжал работать над своей речью. Он не верил в знамения и, когда я вбежал в кабинет и рассказал ему о снеге, лишь пожал плечами: «И о чем же это говорит?» А когда я начал робко выдвигать аргумент стоиков в защиту предсказаний – если есть боги, они должны заботиться о людях, а если они заботятся о людях, то должны сообщать им о своей воле, – Цицерон резко прервал меня и произнес со смехом:
– Ну уж бессмертные боги, обладая таким могуществом, могли бы найти более надежный способ сообщить нам свою волю, чем снег. Почему бы не прислать нам письмо? – Он покачал головой и повернулся к столу, а затем, кашлянув, добавил: – Право, возвращайся к своим обязанностям, Тирон, и проследи, чтобы меня больше не беспокоили.
Пристыженный, я вышел и проверил, как идет подготовка к инаугурационной процессии. Затем я занялся почтой сенатора. К тому времени я был его секретарем уже шестнадцать лет, и для меня в его жизни, частной или публичной, не было тайн. В те дни я обычно работал за складным столиком, который ставился у входа в кабинет хозяина, и здесь я мог останавливать непрошеных гостей и слышать, когда он звал меня. Отсюда же я мог слышать утренние звуки дома: Теренция в столовой выговаривала горничным за то, что зимние цветы, которые они выбрали, не отвечают новому статусу ее мужа; одновременно она бранила повара за качество вечернего меню. Маленький Марк, которому было чуть больше двух лет, топал за ней повсюду на нетвердых ногах, весело вереща по поводу выпавшего снега. Очаровательная Туллия, которой было уже тринадцать и которая осенью должна была выйти замуж, зубрила греческий гекзаметр со своим учителем.
Работы было так много, что я смог опять высунуться на улицу только в полдень. Несмотря на время дня, улица была почти пуста. Город казался молчаливым и зловещим; он был пуст, как в полночь. Небо было бледным, снег прекратился, и мороз превратил его в белую хрустящую корочку на поверхности земли. Даже сейчас – таковы свойства человеческой памяти – я помню, с каким ощущением крошил ее своей обувью. Вдохнув в последний раз морозный воздух, я повернулся, чтобы войти в тепло, когда услышал в тишине отдаленный звук кнута и стоны людей. Через несколько секунд из-за угла показались раскачивающиеся носилки, которые несли четыре раба в униформе. Надсмотрщик, который бежал сбоку, махнул кнутом в моем направлении.
– Эй, ты! – закричал он. – Это дом Цицерона?
Когда я ответил утвердительно, он через плечо бросил кому-то: «Нашли» – и хлестнул ближайшего к себе раба с такой силой, что бедняга чуть не свалился на землю. Для того чтобы передвигаться по снегу, надсмотрщику приходилось высоко поднимать ноги, и именно таким способом он приблизился ко мне. Затем появились вторые носилки, за ними третьи и, наконец, четвертые. Они выстроились в ряд перед домом, и в тот момент, когда опустились на землю, носильщики попадали в снег, повиснув на ручках, как измученные гребцы виснут на своих веслах. Эта сцена мне совсем не понравилась.
– Может быть, это и дом Цицерона, – запротестовал я, – но посетителей он не принимает.
– Ну нас-то он примет, – раздался из первых носилок знакомый голос, и костлявая рука отодвинула занавеску, показав лидера патрицианской партии в Сенате Литация Катулла. Он был закутан в звериные шкуры до самого торчащего подбородка, что придавало ему вид большого и злобного горностая.
– Сенатор, – произнес я, кланяясь. – Я доложу о вашем прибытии.
– И не только о моем, – уточнил Катулл.
Я взглянул на улицу. С трудом выбираясь из следующих носилок и проклиная свои солдатские кости, на улице появился победитель Олимпия и отец Сената Ватий Изаурик. Рядом с ним стоял серьезный противник Цицерона во всех судебных заседаниях Гортензий, любимый адвокат патрициев. Он, в свою очередь, протягивал руку четвертому сенатору, чье морщинистое, коричневое, беззубое лицо я не смог узнать. Мужчина выглядел совсем одряхлевшим. Думаю, что он давно перестал ходить на заседания Сената.
– Благородные граждане, – сказал я как можно торжественнее, – прошу вас пройти за мной, и я доложу о вас вновь избранному консулу.
Я шепотом приказал носильщикам пройти в таблиниум[6]6
Помещение в римском доме для деловых встреч и переговоров, сразу за атриумом.
[Закрыть] и поспешил в кабинет Цицерона. Подходя к дверям, я услышал его голос, торжественно декламирующий «Жителям Рима я говорю – достаточно!», а когда я открыл дверь, то увидел, что он стоит спиной ко мне и обращается к двум младшим секретарям, Сизифию и Лорею, вытянув руку и сложив большой и указательный пальцы в кольцо.
– А тебе, Тирон, – продолжил хозяин, не поворачиваясь, – я говорю – не сметь меня больше прерывать! Какой еще знак послали нам боги? Дождь из лягушек?
Секретари захихикали. Накануне дня достижения своей высшей цели Цицерон полностью выбросил из головы перипетии дня предыдущего и находился в хорошем расположении духа.
– Делегация из Сената хочет тебя видеть.
– Вот уж воистину зловещее знамение. И кто же в нее входит?
– Катулл, Гортензий, Изаурик и еще один, которого я не узнал.
– Цвет аристократии? Здесь, у меня? – Цицерон остро взглянул на меня через плечо. – И в такую погоду? Наверное, это самый маленький дом из тех, в которых они когда-либо бывали… Что им надо?
– Не знаю.
– Смотри, записывай все очень тщательно. – Будущий консул подобрал тогу и выставил вперед подбородок. – Как я выгляжу?
– Как настоящий консул, – заверил я его.
По разбросанным на полу листкам своей речи он прошел в таблиниум. Слуга принес для всех стулья, но только один из прибывших присел – это был трясущийся старик, которого я не узнавал. Остальные стояли вместе, каждый со своим слугой, и явно чувствовали себя некомфортно в доме этого низкорожденного «нового человека», которого они только что скрепя сердце поддержали на выборах на пост консула. Гортензий прижимал к носу платок, как будто низкорожденность Цицерона могла оказаться заразной.
– Катулл, – любезно произнес Цицерон, входя в комнату, – Изаурик, Гортензий. Для меня это большая честь.
Он кивнул каждому из бывших консулов, но когда подошел к четвертому, я увидел, что даже его феноменальная память на какую-то секунду подвела его.
– Рабирий, – вспомнил он, наконец. – Гай Рабирий, не так ли?
Он протянул ему руку, но старик никак на это не прореагировал, поэтому, не прерывая движения, Цицерон сделал приглашающий жест:
– Прошу вас. Мне это очень приятно.
– Ничего приятного в этом нет, – сказал Катулл.
– Это возмутительно, – произнес Гортензий.
– Это война, – заявил Изаурик. – Именно гражданская война.
– Ну что ж. Мне очень огорчительно это слышать, – сказал Цицерон светским тоном. Он не всегда принимал их всерьез. Как многие богатые старики, они воспринимали малейшее собственное неудобство как признак наступления конца света.
– Вчера трибуны передали это судебное предписание Рабирию. – Гортензий щелкнул пальцами, и его помощник передал Цицерону официальный документ с большой печатью.
Услышав свое имя, Рабирий жалобно спросил:
– Я могу поехать домой?
– Позже, – жестко ответил Гортензий, и старик склонил голову.
– Судебное предписание Рабирию? – повторил Цицерон, с сомнением глядя на старика. – А какое преступление он мог совершить?
Хозяин громко зачитал документ вслух, чтобы я мог его записать.
– Лицо, указанное в документе, обвиняется в убийстве трибуна Сатурния и нарушении священных границ здания Сената. – Он поднял голову в недоумении. – Сатурний? Но ведь его убили… лет сорок назад?
– Тридцать шесть, – поправил Катулл.
– Катулл знает точно, – добавил Изаурик. – Потому что он там был. Так же, как и я.
– Сатурний! Вот был негодяй! Его убийство – это не преступление, а благое дело! – Катулл выплюнул это имя так, как будто оно было ядом, попавшим ему в рот, и уставился куда-то вдаль, как будто рассматривал на стене храма фреску «Убийство Сатурния в здании Сената». – Я вижу его так же ясно, как тебя, Цицерон. Трибун-популяр[7]7
Популяры – идейно-политическое течение в поздней Римской республике конца II–I в. до н. э., отражавшее интересы плебса. Следует отметить, что вожди популяров, выступая против нобилитета, сами же принадлежали, за редким исключением, к этому сословию.
[Закрыть] в худшем смысле этого слова. Он убил нашего кандидата на пост консула, и Сенат объявил его врагом народа. После этого от него отвернулся даже плебс. Но прежде чем мы смогли схватить его, он с частью своей банды забаррикадировался на Капитолии. Тогда мы перекрыли подачу воды. Это была твоя идея, Ватий.
– Точно. – Глаза старого генерала заблестели от воспоминаний. – Уже тогда я хорошо знал, как вести осаду.
– Естественно, что через несколько дней они сдались, и их заперли в здании Сената до суда. Но мы боялись, что им опять удастся убежать, поэтому забрались на крышу и стали забрасывать их кусками черепицы. Им негде было спрятаться. Они бегали туда-сюда и визжали, как крысы в канаве. К тому моменту, когда Сатурний перестал шевелиться, его с трудом можно было узнать.
– И что же, Рабирий был вместе с вами на крыше? – спросил Цицерон. Я поднял глаза от записей и посмотрел на старика – глядя на его пустые глаза и трясущуюся голову, трудно было поверить, что он мог принимать участие в такой расправе.
– Ну конечно, он там был, – подтвердил Изаурик. – Нас там было человек тридцать. Да, то были славные денечки, – сжал он пальцы в шишковатый кулак, – когда мы были полны жизненных соков!
– Самое главное, – устало произнес Гортензий, который был моложе своих компаньонов и, по-видимому, уже устал слушать эти повторяющиеся истории, – важно не то, был ли там Рабирий или нет, а то, в чем его обвиняют.
– И что это? Убийство?
– Perduellio[8]8
Государственное преступление – измена отечеству.
[Закрыть].
Должен признаться, что никогда не слышал этого слова, и Цицерону пришлось повторить его для меня по буквам. Он объяснил, что этот термин употреблялся древними в значении государственной измены.
– А почему надо применять такой древний закон? Почему бы просто не обвинить его в предательстве и покончить с этим? – спросил хозяин, повернувшись к Гортензию.
– Потому что за предательство полагается изгнание, тогда как за Perduellio – смерть, и не через повешение. Если Рабирия признают виновным, то его распнут.
– Где я? – снова вскинулся Рабирий. – Что это за место?
– Успокойся, Гай. Мы твои друзья. – Катулл нажал ему на плечо и усадил назад в кресло.
– Но никакой суд не признает его виновным, – мягко возразил Цицерон. – Бедняга уже давно не в себе.
– Perduellio не разбирается в присутствии присяжных. В этом вся загвоздка. Его разбирают два судьи, которых специально для этого назначают.
– А кто назначает?
– Новый городской претор[9]9
Государственная должность в Древнем Риме, третья по значимости, после консулов. В описываемый период избиралось 8 преторов.
[Закрыть] – Лентул Сура.
При этом имени Цицерон сморщился. Сура был бывшим консулом, человеком громадных амбиций и безграничной глупости. В политике два эти качества очень часто неотделимы друг от друга.
– И кого же эта Спящая Голова назначила судьями? Это уже известно?
– Один из них – Цезарь. И второй – тоже Цезарь.
– Что?
– Гай Юлий Цезарь и его кузен Луций будут назначены, чтобы разобрать это дело.
– Так за всем этим стоит Цезарь?
– Поэтому вердикт абсолютно очевиден.
– Но должна же быть возможность апелляции. Римский житель не может быть казнен без справедливого суда, – заявил Цицерон в крайнем возбуждении.
– Ну конечно, – горько заметил Гортензий. – Если Рабирия признают виновным, то он может апеллировать. Но загвоздка в том, что не к суду, а ко всем жителям города, собравшимся на ассамблею на Марсовом поле.
– Вот это будет зрелище! – вмешался Катулл. – Вы только представьте себе: толпа судит римского сенатора? Да они его никогда в жизни не оправдают, ведь это лишит их основного развлечения.
– Это означает гражданскую войну, – сказал Изаурик без всяких эмоций. – Потому что мы такого не потерпим. Ты слышишь, Цицерон?
– Да, я тебя слышу, – ответил тот, быстро пробегая глазами документ. – А кто из трибунов выдвинул обвинение?.. Лабиний, – сам ответил он на свой вопрос, прочитав подпись. – Это один из людей Помпея. Обычно он в подобные склоки не ввязывается. И какой же здесь интерес Лабиния?
– Вроде бы его дядя был убит вместе с Сатурнием, – презрительно произнес Гортензий. – И честь его семьи требует отмщения. Это все полная ерунда. Все это затеяно только для того, чтобы Цезарь и его банда смогли напасть на Сенат.
– Итак, Цицерон, что ты предполагаешь делать? Мы за тебя голосовали, хотя у многих были сомнения.
– А что вы от меня ждете?
– А ты как думаешь? Борись за жизнь Рабирия. Публично осуди этот злодейский умысел, а затем, вместе с Гортензием, защищай его перед народом.
– Да, это будет что-то новенькое, – сказал Цицерон, оглядывая своего всегдашнего противника. – Мы – и вдруг по одну сторону баррикад.
– Мне это нравится не больше, чем тебе, – холодно парировал Гортензий.
– Хорошо-хорошо, Гортензий. Не обижайся. Для меня будет большой честью выступить вместе с тобой в суде. Но давайте не будем спешить в эту ловушку. Давайте подумаем, нельзя ли обойтись без суда.
– Каким образом?
– Я переговорю с Цезарем. Выясню, чего он хочет. Посмотрю, не сможем ли мы найти компромисс. – При упоминании компромисса все три бывших консула одновременно стали возражать. Цицерон поднял руки. – Цезарю что-то нужно. Ничего страшного не произойдет, если мы выслушаем его условия. Это наш долг перед Республикой. И это наш долг перед Рабирием.
– Я хочу домой, – жалобно сказал Рабирий. – Пожалуйста, отпустите меня домой.
Не позже чем через час мы с Цицероном вышли из дома. Снег скрипел и хлюпал у нас под ногами, пока мы спускались по пустым улицам по направлению к городу. И опять мы были одни – во что сейчас мне уже трудно поверить; наверное, это был один из последних походов Цицерона в Риме без телохранителя. Однако он поднял капюшон своего плаща, чтобы его не узнали. В ту зиму даже самые людные улицы в центре города не могли считаться безопасными.
– Они должны будут пойти на компромисс, – сказал он. – Цезарю это может не нравиться, но выбора у него нет. – Неожиданно он выругался и поддел снег ногой. – Неужели весь мой консульский год будет таким, Тирон? Год, потраченный на то, чтобы метаться между патрициями и популярами в попытках не дать им разорвать друг друга на части?
На это я ничего не смог ответить, и мы продолжали идти в молчании. Дом, в котором Цезарь жил в то время, располагался в какой-то степени под домом Цицерона, в Субуре[10]10
Название района Древнего Рима, который являлся оживленным местом, населенным в основном бедняками, с большим количеством притонов.
[Закрыть]. Дом принадлежал семье Цезаря уже больше века и, без сомнения, в свое время был совсем не плох. Но к тому моменту, как его унаследовал Цезарь, район совершенно обнищал. Даже первозданный снег, на котором уже осел пепел костров и виднелись экскременты, выбрасываемые из окон, не скрывал, а только подчеркивал запущенность узких улиц. Нищие протягивали дрожащие руки за подаянием, но денег у меня с собой не было. Я помню уличных мальчишек, забрасывающих старую и громко визжащую проститутку снежками, а раз или два нам попадались руки и ноги, торчащие из сугробов. Это были замерзшие останки несчастных, которые не пережили предыдущую ночь.
И именно здесь, в Субуре, Цезарь ждал своего шанса, как гигантская акула, окруженная мелкими рыбешками, надеющимися на крохи с ее стола. Его дом стоял в конце улицы башмачников, а с двух сторон от него стояли высокие доходные жилые дома, каждый по семь или восемь этажей. Замерзшее белье на веревках, протянутых между этими домами, делало их похожими на двух пьяниц, обнимавших друг друга над крышей дома Цезаря. У входа в один из них с десяток парней устрашающего вида притопывали ногами вокруг железной жаровни. Пока мы ждали, когда нас впустят, я чувствовал на спине их жадные, недобрые взгляды.








