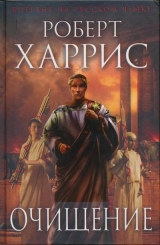
Текст книги "Очищение"
Автор книги: Роберт Харрис
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
– Нет, Марк, это касается не только тебя, но и всех нас. Как мы сможем расплатиться с долгами без доходов от Македонии?
– Ты хочешь спросить, откуда возьмутся деньги на твою кампанию на пост претора нынешним летом?
– Это нечестно!
Цицерон взял Квинта за руку.
– Брат, выслушай меня. Ты станешь претором. И получишь этот пост не за взятки, а потому, что ты принадлежишь к семье Цицеронов, а это сделает твой триумф еще приятнее. Ты должен понять, что мне необходимо было разорвать связь Гибриды с Цезарем и трибунами. Моя единственная надежда провести Республику через все эти шторма – единство Сената. Я не могу себе позволить, чтобы мои коллеги плели заговоры за моей спиной. Поэтому с Македонией необходимо было расстаться. – Затем он обратился к Аттику и Теренции: – Да и кто захочет управлять провинцией? Вы же знаете, что я не смогу оставить вас одних в Риме.
– А что помешает Гибриде забрать у тебя Македонию, а затем поддержать обвинение против Рабирия? – настаивал Квинт.
– А зачем ему это надо? Он сошелся с ними только из-за денег. Теперь он может расплатиться с долгами без их помощи. Кроме того, ведь ничего еще не подписано, и я в любое время могу поменять свое мнение. В то же время сейчас этим благородным жестом я показываю людям, что у меня есть принципы и что благополучие Республики для меня важнее своего собственного.
Квинт посмотрел на Аттика. Тот пожал плечами и сказал:
– Железная логика.
– А что ты думаешь по этому поводу, Теренция? – спросил Квинт.
Во время всего этого разговора жена Цицерона молчала, что было на нее не похоже. Даже сейчас она ничего не сказала и молча смотрела на мужа, который смотрел на нее с непроницаемым лицом. Медленно она подняла руку к волосам и вынула из них диадему. Не отводя взгляда от лица Цицерона, сняла ожерелье, отстегнула брошь с лифа и сняла золотые браслеты с рук. И наконец, скривившись от усилия, стащила кольца с пальцев. Проделав все это, она собрала свои новые драгоценности в горсть и, разжав руки, уронила их на пол. Блестящие камни и драгоценный металл разлетелись по мозаичному полу. Женщина повернулась и молча вышла из комнаты.
IV
На следующее утро, с первыми лучами солнца, мы уезжали из Рима. Это было частью исхода всех официальных лиц, их семей и приближенных, для того чтобы принять участие в Латинских празднествах на горе Альбан. Теренция сопровождала своего мужа, однако атмосфера в их носилках была едва ли не холоднее этого январского горного воздуха снаружи. Консул заставил меня работать, сначала продиктовав длинное донесение Помпею, в котором подробно описал политическую ситуацию в Риме, а затем – несколько коротких писем руководителям провинций. Все это время Теренция сидела с закрытыми глазами, притворяясь спящей. Дети ехали со своей няней в других носилках. Вслед за нами следовал караван повозок, в которых находилась вновь избранная власть Рима: сначала Гибрида, а за ним преторы – Целер, Концоний, Руф Помпей, Помптин, Росций, Сульплисий и Валерий Флакк. Только Лентул Сура, городской претор, остался в Риме, чтобы следить за порядком в городе.
– Город выгорит дотла, – предположил Цицерон. – Этот человек полный идиот.
После обеда мы добрались до дома Цицерона в Тускулуме, но времени на отдых не было, так как ему пришлось немедленно ехать судить соревнования местных атлетов. Главным пунктом празднеств было соревнование по мастерству в исполнении маховых движений, где столько-то очков присуждалось за высоту амплитуды, столько-то за стиль, а столько-то за силу. Цицерон не имел ни малейшего понятия, кто из атлетов лучший, и поэтому объявил победителями всех участников, пообещав всех наградить за свой собственный счет. Этот жест вызвал аплодисменты среди присутствовавших местных жителей. Когда Цицерон присоединился к Теренции в повозке, я услышал, как она спросила:
– Очевидно, Македония заплатит?
Он рассмеялся, и между ними наступила оттепель.
Основная церемония проходила на закате на вершине горы, добираться до которой надо было по крутой и извилистой дороге. С заходом солнца сильно похолодало. На каменистой почве снег доходил до колен. Консул возглавлял процессию, окруженный своими ликторами. Рабы несли фонари. На всех ветках и во всех кустах местные жители поместили фигурки людей или людские лица, сделанные из шерсти или дерева, как напоминание о тех временах, когда еще приносились человеческие жертвы. Например, для того, чтобы приблизить конец зимы, в жертву приносили мальчика. Вся эта сцена была полна необъяснимой меланхолии – пронизывающий холод, спускающийся полумрак и эти зловещие эмблемы, раскачивающиеся на ветру. На высоком месте поляны жертвенный костер выплевывал в небо снопы оранжевых искр. В жертву Юпитеру был принесен бык, а местные жители всем предлагали попробовать свое домашнее молоко.
– Пусть люди воздерживаются от ссор и вражды друг с другом, – сказал Цицерон, и казалось, что эти традиционные слова обрели сегодня новое значение.
К моменту окончания церемонии на небе взошла огромная луна, похожая на голубое солнце. Вся округа была залита ее мертвенным светом. При этом она хорошо освещала дорогу, когда мы стали спускаться вниз. Во время этого спуска произошли два события, о которых будут говорить многие месяцы. Во-первых, совершенно неожиданно луна исчезла с небосклона, как будто ее опустили в черный пруд, и процессия, двигавшаяся в ее свете, вынуждена была мгновенно замереть и ждать, пока будут зажжены факелы. Эта пауза не сильно затянулась, но странно, как задержка на зимней горной дороге может повлиять на воображение человека, особенно если его окружают висящие фигурки людей. Раздались панические голоса, особенно когда обнаружилось, что все остальные звезды и созвездия продолжают ярко светить на небе. Вместе со всеми я поднял глаза к небу, и в этот момент мы увидели падающую звезду, похожую на горящую пику, пролетевшую прямо на запад в направлении Рима, где она погасла и исчезла. Удивленные восклицания были заглушены рассуждениями, что бы все это могло значить.
Цицерон молчал и ждал, когда возобновится движение. Позже, когда мы вернулись в Тускулум, я спросил его, что он обо всем этом думает.
– Ничего, – ответил сенатор, отогреваясь возле огня. – Почему я должен об этом думать? Луна зашла за облако, а звезда пересекла небосклон. Что еще об этом можно сказать?
На следующее утро пришло известие от Квинта, оставшегося в Риме следить за делами Цицерона. Хозяин прочитал письмо, а затем протянул его мне. В нем говорилось, что на Марсовом поле установили громадный деревянный крест, и плебс покидал пределы города, чтобы полюбоваться на него. Лабиний открыто говорит, что крест предназначен для Рабирия и что старика повесят на нем в конце месяца. Надо возвращаться как можно скорее.
– В одном Цезарь меня восхищает, – сказал Цицерон. – Он не любит тратить время попусту. Его суд еще даже не выслушал показаний свидетелей, а он не прекращает давить на меня. Посыльный все еще здесь?
– Да.
– Пошли записку Квинту, что мы вернемся к ночи. И еще одну – Гортензию. Напиши, что я был польщен его визитом пару дней назад, что я все обдумал и с удовольствием буду вместе с ним защищать Гая Рабирия… – Он кивнул каким-то своим мыслям. – Если Цезарь хочет войны, он ее получит.
Когда я подошел к двери, он окликнул меня:
– Пошли раба, чтобы тот нашел Гибриду и пригласил его вернуться в Рим в моем экипаже, так, чтобы мы смогли обсудить наши договоренности. Мне нужно их письменное подтверждение до того, как Цезарь доберется до него и уговорит поменять свое мнение.
Таким образом позже я очутился в экипаже, сидя на одной скамейке с одним консулом и напротив другого. Я пытался записать пункты их соглашения, пока мы тряслись по виа Латина. Эскорт ликторов скакал впереди нас. Гибрида достал небольшую фляжку с вином, к которой регулярно прикладывался, время от времени предлагая ее дрожащей рукой Цицерону, всякий раз вежливо отказывавшемуся. Мне никогда не приходилось наблюдать за Гибридой на таком коротком расстоянии. Его когда-то благородный нос был красным и расплющенным; консул всем говорил, что его сломали в битве, но все знали, что это произошло в драке в таверне. Щеки Гибриды были бордовыми, и от него так сильно разило алкоголем, что я боялся опьянеть, просто вдыхая с ним один и тот же воздух. Бедная Македония, подумал я, так вот кто будет управлять тобой через год! Цицерон предложил просто поменяться провинциями, что позволяло избежать голосования в Сенате («Как хочешь, – сказал Гибрида, – ты у нас юрист»). В обмен на Македонию Гибрида соглашался выступить против популярского закона и встать на защиту Рабирия. Он также согласился выплачивать Цицерону одну четверть получаемых доходов. Со своей стороны Цицерон обещал, что сделает все возможное, чтобы срок Гибриды в качестве губернатора был продлен на два или три года, и выступит в качестве защитника, если его привлекут к суду за коррупцию. В последнем пункте Цицерон сомневался, так как, зная Гибриду, это была не пустая формальность, однако, поразмыслив, согласился, и я записал и этот пункт.
После того как торг был закончен, Гибрида опять достал свою фляжку, и на этот раз Цицерон согласился сделать глоток. По выражению его лица я понял, что вино было неразбавленным и ему не понравилось, однако он притворился, что оно ему приятно, а затем оба консула откинулись на спинки сидений, очевидно удовлетворенные проделанной работой.
– Я всегда думал, – сказал Гибрида, подавляя икоту, – что ты подтасовал результаты жребия, когда мы выбирали провинции.
– А как бы мне это удалось?
– Ну, существует множество способов, особенно если этим решает заняться консул. Ты мог бы спрятать выигрышный жетон в руке и заменить им тот, который ты вытащил бы. Или же консул мог сделать это для тебя, когда объявлял победителя. Так ты что, действительно честно выиграл?
– Да, – ответил Цицерон, слегка возмущенный. – Македония принадлежала мне по праву…
– Правда? – Гибрида рыгнул и поднял фляжку. – Ну, теперь мы все исправили. Давай выпьем за судьбу.
Мы выехали на равнину, и за дорогой потянулись плоские и голые поля. Гибрида стал что-то напевать себе под нос.
– Скажи, Гибрида, – спросил Цицерон после непродолжительного молчания. – Ты не потерял мальчика дней пять назад?
– Кого?
– Мальчика. Лет двенадцати.
– Ах вот ты о чем, – сказал Гибрида небрежно, как будто терять мальчиков вошло у него в привычку. – И ты уже об этом слышал?
– Я не просто слышал, но и видел, что с ним сделали. – Внезапно Цицерон очень внимательно посмотрел на Гибриду. – В честь нашей новой дружбы расскажи мне, что произошло.
– Не знаю, стоит ли. – Гибрида лукаво взглянул на Цицерона. Он, может быть, и был алкоголиком, но не терял способность мыслить, даже когда был выпивши. – В прошлом ты говорил обо мне очень неприятные вещи. Я должен привыкнуть к тому, что могу доверять тебе.
– Если ты боишься, что то, что ты мне расскажешь, выйдет за пределы этого экипажа, то могу тебя успокоить. Теперь мы с тобой связаны одной веревочкой, Гибрида, независимо от того, что происходило между нами раньше. Я не сделаю ничего, что могло бы нарушить наш союз, который так же ценен для меня, как и для тебя, даже если ты скажешь мне, что сам убил мальчика. Мне просто надо это знать.
– Хорошо сказано, – Гибрида опять рыгнул и кивнул в мою сторону. – А твой раб?
– Ему можно абсолютно доверять.
– Ну что ж, тогда выпей еще, – сказал Гибрида, опять протягивая фляжку Цицерону. Когда тот заколебался, то он потряс ею перед его лицом. – Давай, выпей. Не терплю, когда кто-то остается трезвым, когда все остальные пьют. – И Цицерону пришлось сделать глоток, скрывая свое неудовольствие, пока Гибрида весело рассказывал, что произошло с мальчиком, как будто это была одна из его охотничьих историй.
– Он был из Смирны. Очень музыкальный. Забыл, как его звали. Обычно он пел для моих гостей за обедом. Я одолжил его Катилине для обеда сразу после Сатурналий. – Он сделал еще один глоток. – Катилина тебя ненавидит, правда?
– Думаю, что да.
– Я-то буду попроще. А Катилина – нет. Он – Сергий[19]19
Полное имя Катилины – Луций Сергий Катилина, где Сергий имя рода.
[Закрыть] до мозга костей. Не может смириться с фактом, что его обошел на выборах консула простой человек, да к тому же провинциал. – Гибрида скривил губы и покачал головой. – После того как ты выиграл выборы, клянусь, он сошел с ума. В общем, на том обеде он немного потерял контроль над собой и предложил, чтобы мы поклялись священной клятвой, для которой нужна соответствующая жертва, чтобы ее скрепить. Он приказал позвать моего мальчика и велел ему начинать петь. Затем зашел ему за спину, – Гибрида сделал полукруг рукой, – и ба-бах! И все было кончено. По крайней мере, быстро. А что было дальше, я не знаю – уехал.
– Ты хочешь сказать, что Катилина убил мальчика?
– Он размозжил ему череп.
– О боги! Римский сенатор! А кто еще там был?
– А, ну как же… Лонгин, Цетег, Курий – обычная компания.
– Четыре члена Сената – пять, если считать тебя.
– Меня можешь не считать. Мне было действительно плохо, ведь я заплатил тысячи за этого мальчишку.
– И в чем же он заставил вас поклясться, если для этого потребовалась такая мерзость?
– Мы должны были поклясться, что убьем тебя, – весело сказал консул и поднял фляжку. – За твое здоровье!
И он расхохотался. Он смеялся так долго, что разлил вино. Оно текло по его носу и падало на подбородок, оставляя пятна на его тоге. Гибрида безуспешно попытался вытереть его, а потом его движения замедлились, рука упала на колени, и он заснул.
Цицерон впервые услышал о заговоре против него и не знал, как ему реагировать. Была ли это просто пьяная болтовня или же это была серьезная опасность? Когда Гибрида захрапел, Цицерон взглянул на него с презрением и провел остаток путешествия в молчании, сложив на груди руки и задумчиво глядя в окно. Гибрида же проспал всю оставшуюся дорогу до Рима, и спал он так крепко, что, когда мы подъехали к его дому, ликторам пришлось вытащить его из повозки и уложить в вестибюле… Казалось, что его рабы привыкли к тому, что их хозяина доставляли домой в таком виде, и, когда мы уезжали, я увидел, как один из них льет воду на голову Гибриде.
Квинт и Аттик уже ждали нас, когда мы вернулись домой. Цицерон быстро рассказал им, что мы узнали от Гибриды. Квинт потребовал, чтобы эту историю немедленно сделали публичным достоянием, но Цицерон с ним не согласился.
– Ну а что потом? – спросил он.
– А потом пусть работает закон. Виновным должно быть предъявлено обвинение, они должны быть осуждены, на них должна быть наложена опала, и они должны отправиться в изгнание.
– Нет, – не согласился хозяин. – У обвинения не будет никаких шансов на успех. Во-первых, где ты найдешь сумасшедшего, который согласится выдвинуть обвинение? Но если даже ты найдешь такого идиота, который согласится выдвинуть его против Катилины, то где ты найдешь доказательства его преступления? Гибрида сразу же откажется от своих показаний, даже если ему будет обещана неприкосновенность – в этом ты можешь быть абсолютно уверен. Он просто скажет, что ничего подобного не происходило, и разорвет наш союз. И трупа уже тоже нет. Более того, есть свидетели, которые слышали, как я публично отрицал, что произошло ритуальное убийство.
– Так что же, мы будем сидеть и ничего не делать?
– Нет. Мы будем ждать и наблюдать. Нам нужен шпион в лагере Катилины. Гибриде он больше доверять не будет.
– Нам также нужно принять дополнительные меры безопасности, – сказал Аттик. – Как долго тебя будут охранять ликторы?
– До конца января. До того момента, как председателем Сената станет Гибрида. А затем они вернутся уже в марте.
– Предлагаю поискать добровольцев среди всадников, готовых быть твоими телохранителями, пока у тебя не будет ликторов.
– Частный телохранитель? Люди скажут, что я зазнался. Это должно быть сделано очень аккуратно.
– Положись на меня и не беспокойся. Я все устрою.
Так мы и договорились, а Цицерон занялся поисками агента, который мог бы войти в доверие к Катилине и докладывать обо всем, что происходило в его стане. Сначала, через несколько дней после этого разговора, хозяин попытался договориться с Руфом. Начал он с того, что извинился за свою грубость во время обеда.
– Ты должен понять, мой дорогой Руф, – объяснял он, прогуливаясь с ним по атриуму и положив ему руку на плечо, – что одним из недостатков стариков является то, что они, когда смотрят на молодых, то видят их такими, какими они были, а не такими, какими они стали. Я обращался с тобой, как с тем юношей, который появился на пороге моего дома три года назад, а теперь я понял, что ты уже двадцатилетний мужчина, который сам прокладывает себе путь в этом мире и заслуживает всяческого уважения. Я искренне сожалею о том, что невольно оскорбил тебя, и надеюсь, что ты не держишь на меня зла.
– Я сам виноват в том, что произошло, – ответил Руф. – Не буду кривить душой и говорить, что согласен с твоей политикой. Но моя любовь и уважение к тебе неизменны, и я никогда не позволю себе думать о тебе плохо.
– Хорошо сказано, мальчик, – Цицерон ущипнул его за щеку. – Ты слышал, Тирон? Он меня любит. И ты не хочешь, чтобы меня убили?
– Убили тебя? Конечно, нет. А почему ты спрашиваешь?
– Те, кто согласен с твоими политическими взглядами, обсуждают мое убийство – Катилина в первую очередь. – И Цицерон рассказал Руфу об убийстве раба Гибриды и о страшной клятве, которой поклялся Катилина и его приспешники.
– Ты уверен в этом? – спросил Руф. – При мне он никогда ничего подобного не упоминал.
– Что ж, он, несомненно, говорил о своем желании убить меня – Гибрида это подтвердил. Если же он еще раз поднимет этот вопрос, то я буду благодарен, если ты поставишь меня в известность.
– Понятно, – сказал Руф и посмотрел на руку Цицерона на своем плече. – Так вот зачем ты меня пригласил… Чтобы сделать из меня своего шпиона.
– Не шпиона, а законопослушного горожанина. Или наша Республика упала так низко, что дружба стала выше убийства консула?
– Я никогда не убью консула и не предам друга, – ответил Руф, освобождаясь от объятий Цицерона. – Именно поэтому я рад, что нашу дружбу теперь ничто не омрачает.
– Блестящий ответ юриста. Ты усвоил мои уроки лучше, чем я предполагал.
* * *
– Этот молодой человек уже готов повторить все, что здесь говорилось, Катилине, – сказал Цицерон задумчиво, после того как Руф ушел.
И, наверное, хозяин был прав, так как с этого дня Руф отдалился от Цицерона, и теперь его часто можно было видеть в компании Катилины. Он попал в очень странную компанию: несдержанная молодежь, такая, как Корнелий Цетег, всегда готовая к драке; стареющие и опустившиеся патриции, такие, как Марк Лека и Аутроний Петус, чья публичная карьера была уничтожена их личными пороками; бывшие солдаты, во главе которых стоял бандит Гай Манлий, служивший центурионом у Суллы. Их связывала только преданность Катилине – который мог быть очаровательным, когда не пытался убить тебя, – и желание полностью разрушить порядок, существовавший в Риме. Дважды, когда Цицерон обращался к ассамблее по поводу закона Рулла, они устраивали концерт из криков и свиста, и я был очень рад, что Аттик организовал для хозяина телохранителей, особенно тогда, когда дело Рабирия начинало стремительно развиваться.
Закон Рулла, дело Рабирия, угроза со стороны Катилины – вы не должны забывать, что Цицерону приходилось заниматься всем этим одновременно, наряду с его обычными обязанностями консула. На мой взгляд, историки часто забывают об этом аспекте политики. Проблемы не стоят в очереди за дверью кабинета государственного деятеля, ожидая своего решения одна за другой, глава за главой, как писатели пытаются убедить нас в своих книгах; вместо этого они появляются все сразу и требуют немедленного решения. Например, Гортензий появился у нас для того, чтобы обсудить тактику защиты Рабирия, всего через несколько часов после того, как выступление Цицерона на ассамблее по поводу закона Рулла было захлопано. И это событие имело свои последствия. Именно потому, что Цицерон был так занят, Гортензий, у которого дел было гораздо меньше, взял дело Рабирия полностью под свой контроль. Усевшись в кабинете Цицерона и, по-видимому, очень довольный собой, он заявил, что дело Рабирия решено.
– Решено? – повторил Цицерон. – Каким образом?
Гортензий улыбнулся и рассказал, что нанял группу писцов, которым поручил собрать информацию о происшедшем, а те откопали интересную информацию о том, что бандит Сцева, раб сенатора Кротона, получил свободу сразу же после убийства Сатурния. Писцы стали копать глубже и выяснили, что, согласно документам об освобождении Сцевы, он был именно тем, кто нанес «смертельный удар», который убил Сатурния, и за этот «патриотический акт» Сенат даровал ему свободу. И Сцева, и Кротон давно умерли, однако Катулл, когда его память слегка «освежили», сообщил, что хорошо помнит этот эпизод. Он дал письменное показание под присягой, что после того, как Сатурний упал без сознания, Сцева спустился на пол здания Сената и добил того ножом.
– А это, – закончил Гортензий, протягивая Цицерону документ, – думаю, что ты со мной согласишься, полностью разрушает обвинение Лабиния. Если нам немного повезет, то мы очень скоро закончим это малоприятное дело. – Гортензий откинулся в кресле и посмотрел вокруг себя с чувством глубокого удовлетворения. – Только не говори мне, что ты со мной не согласен, – добавил он, увидев ухмылку Цицерона.
– Теоретически ты, конечно, прав. Однако я не уверен, что это поможет нам на практике…
– Конечно, поможет! Лабинию не в чем обвинить Рабирия. Даже Цезарю придется с этим согласиться. Ну правда, Цицерон, – сказал адвокат с улыбкой, слегка пошевелив наманикюренным пальцем, – мне кажется, что ты мне завидуешь.
Но Цицерон продолжал сомневаться.
– Посмотрим, – сказал он мне после того, как встреча закончилась. – Но мне кажется, что Гортензий не имеет никакого представления о тех силах, которые выступают против нас. Он все еще считает Цезаря молодым амбициозным сенатором, пытающимся завоевать популярность. Старик еще не задумывался, какая бездна там кроется.
Естественно, что в тот же день, когда Гортензий представил свое свидетельство суду, Цезарь и второй судья, его старший кузен, даже не заслушивая свидетелей, признали Рабирия виновным и приговорили его к смерти через распятие на кресте. Новости распространились по кривым улочкам Рима со скорость пожара, и на следующее утро в кабинет Цицерона зашел уже совсем другой Гортензий.
– Этот человек – монстр! Он совершенная свинья!
– А как на это среагировал наш несчастный клиент?
– Он еще ничего не знает об этом. Из милосердия я решил ничего не говорить ему.
– И что же мы теперь будем делать?
– А у нас нет выхода. Мы подаем апелляцию.
Гортензий передал все документы на апелляцию городскому претору Лентулу Суре, который, в свою очередь, передал дело на рассмотрение ассамблеи жителей Рима, которая состоится на будущей неделе на Марсовом поле. С точки зрения обвинения это было идеальным решением: апелляцию будет рассматривать не суд с подготовленными юристами, но громадная, неуправляемая толпа горожан, мало что понимающая в законах. Для того чтобы они все могли проголосовать по делу Рабирия, все слушания придется свернуть за один день. И, как будто этого было недостаточно, Лабиний, используя свои права трибуна, объявил, что речь защитника не должна длиться дольше получаса. Услышав об этом ограничении, Цицерон заметил:
– Да Гортензий дольше будет прочищать горло, готовясь к речи.
С приближением дня голосования он все чаще ссорился со своим партнером. Гортензий рассматривал все дело как обыкновенное уголовное. Главной целью его речи, объявил он, будет доказать, что действительным убийцей Сатурния был Сцева. Цицерон с этим не соглашался, рассматривая этот суд как политическое действо.
– Это же не суд, – напоминал он Гортензию. – Это толпа. Ты что, действительно надеешься, что в этом шуме и гаме, в присутствии тысяч человек, кто-то будет интересоваться тем, что какой-то несчастный раб нанес смертельный удар много лет назад?
– Какую же линию защиты выберешь ты?
– Думаю, мы с самого начала должны согласиться с тем, что Рабирий убийца, но настаивать на том, что это убийство было одобрено Сенатом.
– Цицерон! Я много раз слышал, что ты хитроумный малый, но это, по-моему, уже слишком! – произнес Гортензий, воздев руки в отчаянии.
– А я боюсь, что ты слишком много времени проводишь на Неаполитанском заливе, беседуя там со своими рыбками. Ты совершенно не знаешь того, что происходит в городе.
Так как они не смогли договориться, было решено, что первым выступит Гортензий, а Цицерон будет говорить за ним. И каждый сможет выбрать свою собственную линию защиты. Я был рад, что Рабирий слишком слаб умом, чтобы понимать, что происходит; в противном случае он впал бы в полное отчаяние – особенно потому, что Рим ждал суда над ним, как какого-то циркового представления. Крест на Марсовом поле был весь завешан плакатами с требованиями правосудия, хлеба и зрелищ. Лабиний раздобыл где-то бюст Сатурния и поставил его на рострах, украсив гирляндой из лавровых листьев. Свою роль сыграло и то, что у Рабирия была репутация злобного скряги, даже его приемный сын был ростовщиком. Цицерон не сомневался, что вердикт будет обвинительным, и решил хотя бы спасти ему жизнь. Для этого он предложил Сенату срочную резолюцию, заменяющую наказание за Perduellio с распятия на кресте на изгнание. Благодаря поддержке Гибриды эта резолюция была со скрипом одобрена, несмотря на яростное сопротивление Цезаря и трибунов. Поздно вечером того же дня Метелл Целер вышел с группой рабов за городские стены и, разобрав крест, сжег его.
Вот так складывалась ситуация утром судного дня. Когда Цицерон в последний раз проговаривал свою речь и одевался к выходу, к нему в кабинет вошел Квинт и умолял его отказаться от защиты. Он и так уже сделал все что мог, доказывал Квинт, и то, что Рабирия признают виновным, нанесет удар по престижу Цицерона. Кроме того, встреча с популярами за городскими стенами была опасна с физической точки зрения. Я видел, что эти доводы заставили Цицерона задуматься. Но я любил его еще и потому, что, несмотря на все свои недостатки, он обладал самой ценной формой храбрости: храбростью думающего человека. Ведь любой дурак, в принципе, может стать героем, если он ни в грош не ставит свою жизнь. А вот оценить все риски, может быть, даже и заколебаться вначале, а затем собраться с силами и отбросить сомнения – вот это, на мой взгляд, и есть самая похвальная доблесть, и именно ее продемонстрировал Цицерон в тот день.
Когда мы появились на Марсовом поле, Лабиний был уже на месте, возвышаясь на платформе вместе со своей декорацией – бюстом Сатурния. Он был амбициозным солдатом, одним из земляков Помпея из Пицениума, и пытался повторять своего кумира во всем – одежде, франтоватой походке, даже прическе, когда его волосы были зачесаны назад, как и у Помпея. Когда трибун увидел, что появился Цицерон со своими ликторами, он засунул в рот пальцы и издал громкий, пронзительный свист, который был подхвачен толпой, насчитывающей около десяти тысяч человек. Это был угрожающий шум, который еще больше усилился, когда на поле появился Гортензий, ведущий за руку Рабирия. Старик был не столько испуган, сколько удивлен количеством людей, которые, толкаясь, пытались пробраться поближе, чтобы посмотреть на него. Меня пихали и толкали, пока я старался не отстать от Цицерона. Я заметил линию легионеров в сверкающих на солнце касках и панцирях. За ними, сидя на местах, зарезервированных для почетных зрителей, находились полководцы Квинт Метелл, завоеватель Крита, и Лициний Лукулл, предшественник Помпея на посту командующего Восточными легионами. Цицерон скорчил гримасу, когда увидел их. В обмен на их поддержку он перед выборами пообещал этим военачальникам триумфы, но пока ничего для этого не сделал.
– Должно быть, действительно наступил кризис, – прошептал мне Цицерон, – если уж Лукулл покинул свой дворец на Неаполитанском заливе и смешался с простой толпой.
Он полез по ступенькам на платформу, сопровождаемый Гортензием и, наконец, Рабирием. Последнему забраться было очень тяжело, и его пришлось втащить на помост за руки. Одежда всех троих, когда они выпрямились, блестела от плевков. Особенно потрясен был Гортензий, так как, по-видимому, не представлял себе, насколько непопулярен был Сенат среди простых жителей этой зимой. Ораторы уселись на свою скамью, а Рабирий разместился между ними. Раздался звук трубы, и на другом берегу Тибра, над Яникулом[20]20
Один из римских холмов, названный в честь бога Януса и легендарного царя Лация.
[Закрыть] взмыл в воздух красный флаг, говоривший о том, что городу ничто не угрожает и судилище может начинаться.
Как председательствующий чиновник, Лабиний выступал и в качестве ведущего собрание, и в качестве обвинителя, что давало ему огромное преимущество. Будучи по натуре своей задирой, он решил говорить первым и сейчас громко оскорблял Рабирия, который все глубже и глубже вжимался в спинку своего кресла. Лабиний даже не удосужился пригласить свидетелей. Они ему были не нужны – голоса толпы уже лежали у него в кармане. Он закончил суровой тирадой о спесивости Сената, алчности той небольшой клики, которая им управляет, и о необходимости сделать из дела Рабирия пример для всех, чтобы в будущем ни один консул даже помыслить не мог, что он может санкционировать убийство гражданина и избежать наказания за это. Толпа заревела в знак согласия.
– И вот тогда я понял, – рассказал мне Цицерон позже, – с абсолютной ясностью, что главной целью этой толпы Цезаря был не Рабирий, а я как консул. И я понял, что должен немедленно перехватить инициативу, иначе мои возможности бороться с Катилиной и ему подобными сойдут на нет.
Следующим выступил Гортензий и сделал все, что было в его силах, но его длинные затейливые пассажи, которыми он был знаменит, относились к другой обстановке и, по правде говоря, к другой эпохе. Ему было больше пятидесяти, он почти уже отошел от дел, давно не практиковался, и это было заметно. Те, кто находился рядом с помостом, стали его передразнивать, и я был достаточно близко, чтобы увидеть панику на его лице, когда он наконец стал понимать, что он – Великий Гортензий, Мастер Прений, Король Судов – теряет внимание аудитории. И чем больше он размахивал руками, бегал по платформе, вертел своей благородной головой, тем более смешным казался. Его доводы были никому не интересны. Я не мог услышать всего, что он говорил, так как шум, издаваемый тысячами людей, топчущихся на поле и беседующих друг с другом в ожидании голосования, был очень громок и заглушал слова Гортензия. Он остановился, покрытый, несмотря на холод, потом, вытер лицо платком и вызвал свидетелей – сначала Катулла, а затем Изаурика. Каждый из них поднялся на платформу и был с уважением выслушан толпой. Но как только Гортензий возобновил свое выступление, люди снова заговорили друг с другом. К этому моменту он мог бы обладать языком Демосфена и находчивостью Платона – это ничего не изменило бы. Цицерон смотрел в толпу прямо перед собой. Неподвижный, с побелевшим лицом, он казался высеченным из мрамора.








