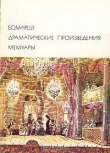Текст книги "Бомарше(Beaumarchais) "
Автор книги: Рене де Кастр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
О, госпожа моя, я оскорбил ваши губы, поскольку коснулся их и не умер.
Женщина, верни мне душу, которую ты у меня отняла, или дай мне другую взамен!»
Даже сделав скидку на то, что Бомарше обожал разыгрывать комедию, все же следует, наверное, признать, что влечение их было взаимным. Амелия Уре де Ламарине, провинциалка, только открывавшая для себя парижское общество, возможно, считала, что самый короткий путь к знакомству со знаменитым мужчиной лежит через его постель. А Пьер Огюстен, которому новые семейные узы, видимо, уже стали казаться путами, с радостью бросился в омут любовного романа.
Эта связь, последняя в жизни нашего героя, сыграет двоякую роль в оставшиеся на его долю годы. В минуту опасности эта немного сумасшедшая любовница пойдет даже на то, что своим телом заплатит за свободу возлюбленного, чуть было не погибшего в водовороте революционных потрясений.
При всем при том излишне темпераментной Амелии Уре де Ламарине, по всей видимости, было мало тех любовных утех, что ей мог дать стареющий Бомарше; ее письма к молодому любовнику не оставляют никаких сомнений на этот счет.
И наконец следует заметить, что если в последние годы жизни связь с пылкой женщиной, находившейся в самом расцвете сил, сократила дни шестидесятилетнего любовника, то и появление г‑жи Уре де Ламарине в его жизни стало для Бомарше началом новой полосы драматических событий – он оказался втянутым в очередной скандальный процесс.
Глава 45ТЯЖБА С КОРНМАНОМ (1787–1789)
Слабость Бомарше к женскому полу не раз доставляла ему массу неприятностей, одна из самых крупных неприятностей подобного рода приключилась с ним в 1787 году, когда он оказался втянутым в судебный процесс, длившийся два года и отрывавший его от других дел, а ведь именно тогда он занимался постановкой оперы «Тарар» и закладывал фундамент роскошного дворца – приюта для своей старости, выбрав для этого место почти напротив башен Бастилии, в том самом квартале Парижа, который ныне называется бульваром Бомарше.
Ничем не объяснимое отступление Бомарше под натиском Мирабо стоило ему потери народной любви, так что появившийся анонимный памфлет «Письмо парижской публики Пьеру Огюстену Карону де Бомарше» снискал огромный успех. В этом пасквиле вновь смаковались некоторые факты жизни автора «Женитьбы Фигаро», причем особый упор делался именно на его перепалке с Мирабо. Автор памфлета утверждал, что Бомарше, «после того как получил сотню ударов палкой и был с позором сброшен в сточную канаву, не нашел ничего лучшего, как спастись бегством и укрыться в своем кабинете».
Эти грязные нападки, свидетельствовавшие о потере Бомарше популярности, вдохновляли его врагов и вселяли надежду в тех, кто желал поквитаться с ним, что теперь им удастся взять реванш.
В такой вот обстановке в феврале 1787 года появился новый памфлет, озаглавленный «Мемуар по вопросу адюльтера, совращения и диффамации, касающийся г‑на Корнмана, его супруги, г‑на Доде де Жоссана, г‑на Пьера Огюстена Карона де Бомарше и г‑на Ленуара, государственного советника и бывшего начальника полиции». Напечатанный без указания имени издателя, этот весьма своеобразный текст представлял собой изобличающий документ, адресованный широкой публике вместо того, чтобы стать предметом судебного разбирательства. Подписанный никому не известным именем Корнман и явно метивший в Бомарше, чтобы замарать его причастностью к делу об адюльтере, этот мемуар, как открылось позже, принадлежал перу одного ловкого, пока еще не снискавшего славы, адвоката, которому было уготовано судьбой сыграть заметную роль в Учредительном собрании.
Звали этого человека Бергас, родом он был из Марселя, а адвокатом эльзасского банкира Корнмана стал с единственной целью – публично одержать победу над Бомарше.
Что же касается той темной истории, о которой шла речь в памфлете, то произошла она в 1781 году. Бомарше как‑то ужинал у своих друзей и должников – принца и принцессы Нассау‑Зиген, и те попросили его заступиться за одну молодую даму, которую муж полгода назад засадил в тюрьму, добившись с помощью уловок королевского ордера на арест.
Сами супруги Нассау‑Зиген уже выступили в защиту несчастной жертвы произвола и теперь хотели, чтобы их талантливый друг присоединился к ним и помог урегулировать это дело.
История молодой особы, заключенной в тюрьму по королевскому ордеру, заинтересовала Бомарше: у него появилась возможность спасти «существо того пола, которому все прощается», и одновременно выступить против беззакония. Ну как тут можно было остаться равнодушным! Однако поднаторевший в судебных разбирательствах, Бомарше, вместо того чтобы очертя голову броситься на помощь узнице, как поступил бы раньше, на сей раз потребовал дополнительной информации и, лишь получив ее, решил принять сторону пострадавшей.
Эта молодая женщина была родом из Швейцарии, в детстве она осталась круглой сиротой, опекуны воспользовались ее одиночеством и неопытностью и в пятнадцать лет выдали замуж за эльзасского банкира Корнмана, которому она принесла 360 тысяч ливров приданого. Молодая супруга родила банкиру двоих детей и носила под сердцем третьего, когда узнала, что финансовые дела ее мужа находятся в полном расстройстве; она решила принять меры, чтобы спасти свое приданое. Корнман пришел в ярость от действий жены и добился королевского ордера на ее заточение в тюрьму по обвинению в супружеской измене. Видимо, адюльтер действительно имел место, поскольку г‑жа Корнман не отрицала своей вины, но настаивала на том, что, несмотря на допущенную ошибку, имеет право защищать свои материальные интересы, а также утверждала, что не заслужила того, чтобы умереть в муках, рожая дитя в столь гнусном месте среди умалишенных и проституток.
Эта трагическая история до глубины души взволновала Бомарше, которому в довершение всего показали письма мужа узницы к ее соблазнителю.
Виновником грехопадения г‑жи Корнман был друг принцессы де Нассау; этот молодой щеголь славился своим умом и развращенным нравом. Звали его Доде де Жоссан. Родословная этого юноши была довольно любопытной: отец его, управляющий соляными складами Страсбурга, женился на внебрачной дочери Адриенны Лекуврер и графа де Кленглена, который занимал пост мэра Страсбурга и был самым сановным любовником знаменитой актрисы до тех пор, пока она не стала официальной любовницей Мориса де Сакса. Вполне вероятно, что Доде де Жоссан является родоначальником династии литераторов, прославивших фамилию Доде. Этот так называемый совратитель г‑жи Корнман был протеже принца де Монбарея, который, будучи военным министром, назначил молодого человека помощником королевского синдика в Страсбурге. Именно из‑за того, что Доде занимал эту важную должность, Корнман часто приглашал его к себе в гости и весьма благосклонно отнесся к тому, что молодой человек вскоре стал любовником его жены, поскольку использовал его близость к принцу де Монбарею в своих корыстных интересах.
Когда Монбарей лишился министерского портфеля, а Доде де Жоссан потерял свое место и влияние, Корнман из Марнефа сразу же превратился в Отелло, упустив из виду, что в своих письмах к любовнику жены столь явно демонстрировал заинтересованность в супружеской измене, что любые его претензии на этот счет становились необоснованными.
Ознакомившись с письмами банкира к Доде де Жоссану, Бомарше помчался к министрам, вход к которым для него в то время был всегда открыт, так как он являлся агентом правительства, и добился отмены королевского ордера на арест г‑жи Корнман. Шеф полиции Ленуар распорядился перевести женщину в частную клинику врача‑акушера и позволил ей встречаться там с ее поверенными в делах для организации защиты ее интересов.
Прошло некоторое время, и Корнман, оказавшийся на грани банкротства, счел за лучшее предпринять попытку примирения с женой, дабы избежать раздела имущества. Несмотря на все отсрочки по платежам, которых ему удалось добиться, банкир вскоре должен был бы признаться в неплатежеспособности. А г‑жа Корнман, памятуя о помощи, которую оказал ей Бомарше несколькими годами ранее, вновь обратилась к нему за советом и поддержкой.
Решив бороться за свои права, Корнман свел знакомство с адвокатом Бергасом, прославившимся не выступлениями во Дворце правосудия, а брошюрами в защиту известного шарлатана Месмера, бывшего в ту пору в моде.
Некоторые историки считают, что Бергас поверил рассказу Корнмана и счел его дело выигрышным. При более пристальном изучении досье становится ясно, что у Бергаса, который отнюдь не был простаком, была другая причина ухватиться за это дело: он увидел возможность помериться силами с Бомарше, находившимся далеко не в лучшей форме, и надеялся, что победа над знаменитым драматургом поможет ему выдвинуться на первые роли в коллегии адвокатов.
По совету Бергаса Корнман решил предать скандальной гласности дело, касавшееся его личной жизни, и открыл такие малопочтенные подробности, по сравнению с которыми лицемерие кажется образцом благопристойности. Чтобы по возможности сильнее потрясти общественное мнение, в круг разоблачений были втянуты не только неверная супруга и ее любовник Доде де Жоссан, но и начальник полиции Ленуар (намекалось, что и он мог быть любовником г‑жи Корнман), а также принц Нассау, вмешавшийся в это дело, а главное, ужасный злодей Бомарше – организатор заговора с целью опорочить обманутого супруга.
Мемуар Бергаса по этому делу хотя и отличался блестящим стилем, но при ближайшем рассмотрении не выдерживал никакой критики по части доказательств: он больше навредил Корнману, чем помог ему, поскольку вынудил этого обманутого мужа признаться, что он долгое время закрывал глаза на супружескую измену и стал возмущаться по этому поводу лишь после того, как жена потребовала раздела имущества. Что касалось обвинения Ленуара в совращении им г‑жи Корнман, то оно вызывало сомнение уже по той причине, что у банкира был зуб на шефа полиции: Корнман сам признавался, что затаил зло на Ленуара после того, как последний, пообещав ему должность в Индии, своего обещания не сдержал. И, наконец, вызывало удивление то, что человек, обвинивший жену в стольких грехах, заявил, что он готов воссоединиться с ней, если она вернет ему свое приданое, и выражал пожелание, чтобы «скорее заблудшая, чем виноватая, она жила окруженная тем уважением, которое еще сможет заслужить». Спрашивается: каким же образом с помощью всей этой демагогии можно было привлечь к судебной ответственности Бомарше, чья единственная вина заключалась в том, что он добился разрешения властей на то, чтобы несчастная женщина произвела на свет ребенка в достойном месте?
Бергас, который в качестве депутата от Лиона в 1789 году должен был показать себя убежденным защитником монархии и даже стать тайным советником Людовика XVI, заканчивал свой мемуар яростной атакой на произвол и заключение в тюрьму без суда и следствия по королевскому ордеру, что заставляет усомниться в его искренности.
Его нападки на Бомарше по своей злобности намного превосходили все то, что писал Мирабо; в одном своем мемуаре Бергас назвал Пьера Огюстена «человеком, чей нечестивый образ жизни свидетельствует с постыдной очевидностью о той степени глубочайшей развращенности, до коей мы докатились», а в другом бросил в адрес Бомарше, с которым, кстати сказать, никогда не встречался лично, ставшую знаменитой реплику: «Несчастный, ты истекаешь вместо пота преступлениями!»
И что же ответил на все эти гнусности Бомарше, когда‑то испепеливший Гёзмана? Перо стареющего Фигаро несколько притупилось, и хотя его ответный мемуар ни по стилю, ни по сути не страдал огрехами, он был лишь жалким подобием прежних творений Бомарше в этом жанре. Защищаясь, он ограничился тем, что Корнмана Бергаса противопоставил реальному Корнману, то есть мужу, который с помощью пера своего адвоката проповедовал святость супружеских уз, а сам сделал любовника жены своим другом, своим доверенным лицом и, главное, защитником своих интересов в министерских кругах. Бомарше первым отметил двуличность Корнмана, и это помогло адвокату Доде де Жоссана одержать победу над банкиром, которому он предложил сделать наконец выбор: «Либо вы самый жуткий клеветник, либо самый подлый муж. Вам нужно определиться».
Поскольку полная безнравственность истца была налицо, Бомарше не составляло никакого труда доказать, что его впутали в это дело об адюльтере безо всяких на то оснований.
И все же, зная Бомарше, можно было бы усомниться в его искренности и задаться вопросом: одна ли любовь к справедливости заставила его в 1781 году взяться за дело, в котором была замешана молодая красавица, имевшая репутацию доступной женщины? Хочу сразу же отвести от него это подозрение. Когда он начал хлопотать об отмене королевского приказа о заключении г‑жи Корнман в тюрьму, он даже не видел ее, а она в своих письмах называла Бомарше не иначе как «мой дорогой папочка» и, видимо, прекрасно осознавала разницу в их возрасте, впрочем, такая разница далеко не всегда смущала автора «Цирюльника». Бомарше, разрывавшийся в тот момент между третьей женой и Амелией Уре де Ламарине, вероятно, не кривил душой, когда писал в мемуарах по делу Корнмана:
«Великий Боже! Что за судьба у меня! Еще ни разу я не сделал доброго дела, которое ни аукнулось бы мне неприятностями, а всеми своими успехами я обязан – стоит ли мне говорить об этом? – лишь глупостям!»
По правде говоря, публике, следившей за этим комичным и одновременно гнусным делом, было совсем неважно, кто в нем прав, а кто виноват, ее интересовало лишь, кто одержит в нем верх: теряющий силы Бомарше или пытающийся блеснуть Бергас. Неравенство их позиций было еще большим, чем можно представить себе два века спустя: огромное преимущество имел тот, кто еще не был известен публике, поскольку не успел нажить ни врагов, ни завистников. Следует признать, что Бергас был серьезным противником: он обладал живым воображением и выражался тем высокопарным слогом, который оказывал на толпу более сильное действие, нежели слишком тонкая ирония. Он досконально знал судебную процедуру со всеми ее хитростями и выбрал для своего клиента тактику, которая в свое время помогла Бомарше, когда бесконечные затягивания и переносы слушаний дела сводили его на нет. С помощью подобной тактики заинтересованная сторона добивалась того, что публика, следившая за процессом, забывала основную причину тяжбы, поскольку та оказывалась погребенной под нагромождениями второстепенных деталей.
После двух лет разбирательств больше уже не существовало дела банкира Корнмана против его супруги, уличенной в измене, а существовало дело высоконравственного адвоката Бергаса против злодея Бомарше, продавшегося министрам и превратившегося, несмотря на его заигрывания с народом, во враждебного этому народу аристократа. Сегодня уже забыли о том, с каким интересом публика следила за этим процессом; в связи с ним было опубликовано более четырехсот брошюр, потому что Бергас в своих мемуарах без разбора сыпал именами известных людей, что провоцировало ответные публикации упомянутых им лиц.
Сам Бомарше написал по делу Корнмана три мемуара, на этот раз ему совсем не нужно было оправдываться, поскольку за ним не было абсолютно никакой вины. Не имея ничего серьезного, что можно было бы сообщить публике, Бомарше пошел по неверному пути, ограничившись разного рода шуточками, которые шокировали общественное мнение, находившееся под впечатлением от обличительных речей Бергаса, выступавшего в роли защитника добродетели от порочных людей. В этой дуэли следовало использовать громкие слова и напыщенные фразы, не уступавшие по своему пафосу выражениям противника. В подобном процессе тот, кто лжет более нагло, увеличивает свои шансы на победу. А Бомарше лишь сыпал шутками сомнительного вкуса, чем ослабил свою позицию и сыграл на руку Бергасу, который беззастенчиво хвастался, что «вознесет человеческое красноречие до таких высот, до коих оно вообще способно подняться», и позволил себе с вызовом обратиться к Бомарше в следующих выражениях:
«Вы говорите, что я писал только неправду, а значит, меня должны бы привлечь к ответственности за клевету: что же, сделав такое предположение (естественно, ложное), следовало бы признать, что г‑н Корнман обманул меня, и тогда у вас появлялось бы право обвинить его в этом и потребовать у меня ответа за его ложь; но я, чьи побуждения были столь чисты, поведение столь искренне, а цель достойна всяческих похвал, все равно был бы недосягаем для ваших ударов… Но, говорите вы, мы преследуем вас не за то, что вы написали эти мемуары в защиту Корнмана. а за то, что вы выставили нас в них в самом одиозном виде. Другими словами, вы хотите, чтобы меня наказали за то, что я есть я, а не кто‑либо другой, и за то, что я писал не так, как это делаете вы, а так, как я».
Как и в процессе с Гёзманом, здесь также пытались судить человека не за совершенное им преступление, а за его личные качества; идея Бергаса заключалась в том, чтобы нападать на Бомарше любыми способами; он считал, что, осыпая противника оскорблениями в зале суда, он обеспечивает себе полную безнаказанность. Так, после того как он в течение двух лет поливал грязью Ленуара, принца Нассау и Бомарше, выступая перед судьями, Бергас позволил себе произнести следующую обличительную речь:
«Пусть они знают, эти порочные люди, что я никогда не перестану преследовать их; пока они не понесут наказания, я не замолкну, и либо меня убьют у их ног, либо они падут у моих. Алтарь правосудия в данный момент является для меня алтарем мести, и на этом самом алтаре, отныне ставшем алтарем смерти, я клянусь, что никогда не будет мира меж нами, что я не отстану от них, я забуду об отдыхе, буду преследовать их, как угрызения совести преследуют виновного в преступлении. И вы, члены этого высокого суда и стражи нравственности и закона, примите мою клятву».
Этот неуместный пафос, способный воспламенить невежественную публику, не нашел понимания в парламенте, том самом парламенте, который жестоко критиковали за его позицию по поводу выборов в Генеральные штаты. Обвинения Бергаса получили достойную оценку, как не заслуживающие никакого доверия. Решением суда, вынесенным 2 апреля 1789 года, то есть в самый канун революции, мемуары Бергаса были приговорены к уничтожению, как ложные, оскорбительные и клеветнические, а сам адвокат приговаривался к возмещению Бомарше ущерба в размере тысячи ливров, при этом ему возбранялось возобновлять свои нападки под страхом примерного наказания; подзащитный Бергаса Корнман должен был заплатить Бомарше такую же сумму, что и сам адвокат, а претензии банкира к жене и Доде де Жоссану были отклонены судом на том основании, что прежде муж выказывал всяческое расположение к любовнику жены, к которому теперь вдруг воспылал гневом.
Принимая во внимание политическую обстановку и начавшиеся в Париже волнения, следует признать, что этот приговор, сегодня выглядящий как обычный акт восстановления справедливости, потребовал от парламента независимости духа и даже определенной смелости. И действительно, общественное мнение, потрясенное яростными атаками Бергаса, было отнюдь не на стороне Бомарше: из‑за этого процесса он утратил почти все, что осталось от его былой популярности. Каждый день, пока тянулась эта тяжба, Бомарше забрасывали анонимными письмами, а на улицу он не мог выйти без оружия и охраны, поскольку не раз подвергался нападениям.
Публика, восторженно встретившая его победу над Гёзманом, хотя в том процессе его позиция была далеко не безупречной, враждебно отнеслась к приговору в его пользу по делу, к которому, по сути, он вообще не был причастен. Друзья Бергаса распустили слух, что Бомарше подкупил парламент; обвинение это было абсолютно беспочвенным, но при каждом удобном случае повторялось Бергасом, который, пережив своего противника более чем на тридцать лет, в период Реставрации пытался нажить себе политический капитал, крича направо и налево, что когда‑то судился с писателем, считавшимся одним из зачинщиков революции.
Эпизод, описанный Луи де Ломени, как раз, наоборот, свидетельствует в пользу неподкупности судей на этом процессе. Итак, пришла очередь прокурора Дамбре, будущего министра юстиции Людовика XVIII, взять слово: в своей обстоятельной речи, которая длилась несколько часов подряд и во время которой он дважды падал в обморок от усталости, прокурор подверг ясному и беспристрастному анализу все обстоятельства дела. Бомарше, которого трудно было заподозрить в излишнем почтении к правосудию, был столь тронут профессионализмом и добросовестностью этого члена суда, что спустя несколько дней он послал ему прекрасную камею с профилем Цицерона. Дамбре отправил подарок обратно, сопроводив его следующей запиской: «В какой бы форме ни был сделан подарок, он все равно остается подарком, а судья не должен их принимать». Бомарше, который действительно был очень признателен Дамбре, пытался вернуть тому камею, уверяя, что это не он ее посылал, но прокурор проявил твердость и так и не взял подарка.
Что касается Бергаса, ставшего знаменитым не только из‑за процесса с Бомарше, но и благодаря своей деятельности в качестве депутата от Лиона, то ему Пьер Огюстен отомстил весьма своеобразно: он использовал анаграмму его имени в своей пьесе «Преступная мать», назвав главного злодея Бежарсом. Такая мелочность стоила автору «Женитьбы» осуждения потомков, а между тем, если Бомарше и заслужил осуждения за многое, что сделал в своей жизни, то за это – менее всего, так что мы вполне можем положиться на мнение Арно, высказанное им в своих «Воспоминаниях шестидесятилетнего человека»:
«На самом деле месть была менее жестокой, чем спровоцировавшее ее оскорбление. Я знал и Бергаса, и Бомарше: их характеры были полной противоположностью; и тот и другой, жадные до славы, вначале снискали ее благодаря мемуарам, опубликованным в связи с судебным процессом, но Бомарше в своих мемуарах защищался, а Бергас в своих нападал. Нет сомнений, что Бергас был честным человеком, но желчным и угрюмым. А Бомарше – полная ему противоположность – был настоящим весельчаком и, что бы о нем ни говорили, очень порядочным человеком; кроме того, по общему мнению, он был одним из самых приятных в общении людей, которых только можно было встретить».
И все же, как бы ни был честен Бергас, ущерб, нанесенный им репутации Бомарше, оказался невосполнимым. Еще до начала слушаний по их делу первые мемуары адвоката сильно навредили его противнику, а победа Бомарше в этом процессе так и не вернула ему утраченной популярности, и не подлежит сомнению, что часть неприятностей, постигших Пьера Огюстена во время революции, явилась прямым следствием клеветнических нападок Бергаса.
И все же, до этого нового падения своей популярности, драматург успел познать и минуты триумфа, поставив оперу, судьба которой в разные периоды складывалась по‑разному и которая была связана с одним из величайших событий первого периода Великой французской революции – Днем федерации, отмечавшимся в первую годовщину взятия Бастилии. Речь идет о либретто к опере, получившей от автора странное название «Тарар».
Глава 46«ТАРАР» (1788–1790)
Опера «Тарар», репетиции которой совпали с началом процесса по делу Корнмана, была задумана Бомарше еще в то время, когда он работал над «Севильским цирюльником».
Итак, сценарий в прозе был уже написан, а половина текста даже зарифмована. Бомарше подумывал о том, чтобы самому сочинить музыку к либретто, ведь музыка вошла в его жизнь гораздо раньше литературы. Свою музыкальную концепцию он изложил еще в 1771 году: «Можно будет начать серьезно применять нашу музыку в театре лишь тогда, когда у нас поймут, что петь на сцене следует лишь для того, чтобы передать разговор». Более чем на столетие он опередил Дебюсси, хотя оперы, поставленные по произведениям Бомарше, еще не предвещали появления речитативов «Пеллеаса».
Идея «Тарара» давно будоражила воображение Бомарше. В предисловии к «Женитьбе Фигаро» он писал: «О, как я сожалею, что не воспользовался этим нравоучительным сюжетом для какой‑нибудь страшной, кровавой трагедии», при этом думал он, наверное, о почти законченном либретто «Тарара» – о сюжете, на который намекал сам Фигаро, когда заявлял: «Я пишу трагедию о нравах сераля».
Внимательно изучая черновики Бомарше, с удивлением обнаруживаешь, что наброски «Тарара» перемежаются в них с набросками «Цирюльника», в частности, это касается первого варианта пролога, который поначалу был написан в прозе в форме философского трактата. А к 1775 году относится следующая запись в черновике «Тарара»: «Я сочинил очень короткие стихи, потому что музыка всегда бывает слишком затянутой. Я спрессовал события, ибо музыка, которая все размывает, заставляет терять много времени. Я постарался сделать свой стиль как можно более простым, поскольку излишне витиеватое музыкальное сопровождение, отнюдь не способствующее поддержанию интереса зрителей к происходящему на сцене, лишь наносит вред своими чрезмерными эффектами. Я назвал эту оперу „Тарар“…»
Самый первый вариант «Тарара» еще не до конца соответствовал канонам трагического произведения, мы находим там шутки, достойные Фигаро, типа реплики евнуха на упрек султана в том, что он ссорится с обитательницами гарема:
«Да, я их не люблю, и это совершенно естественно. Они злят меня целый день, притом что я им ничего не сделал».
А когда султан в гневе грозит евнуху тем, что прикажет отрубить ему голову, то слышит в ответ: «Ну вот только этого еще и не хватало! Рубите, рубите все, что попадет вам под руку, только учтите, рубить‑то у меня, собственно говоря, нечего и жалеть мне не о чем. Хороший слуга, да плохой господин!»
По словам Гюдена, Бомарше убрал из текста множество подобных шуток сомнительного вкуса; на этот счет существуют письменные отзывы и других цензоров, но имена их нам неизвестны. Один из них закончил свою рецензию такими словами: «Эти сто восемь замечаний являются самым верным свидетельством моего восхищения». Сто восемь замечаний для такого короткого либретто! Не многовато ли для выражения восхищения?
Конечно, можно сказать, что славу опере приносит не либретто, а музыка, на которую исполняются стихи. И Бомарше позаботился о музыке. Считая самого себя слишком слабым композитором, чтобы создать достойное сопровождение для своего текста, он решил обратиться к Глюку, чью оперу «Альцеста» просто обожал.
Помимо всего прочего, и это было решающим моментом, Глюк, как и Бомарше, придерживался мнения, что в опере музыка не должна занимать слишком много места. Итак, Пьер Огюстен ему первому предложил свое либретто, но Глюк считал, что драматург несколько перебарщивал в увлечении его теорией, пытаясь задвинуть музыку совсем на задний план, с этим известный композитор согласиться никак не мог. Не открывая истинной причины своего отказа, Глюк предложил Бомарше обратиться с этим предложением к своему ученику Сальери. Имя этого композитора уже было хорошо известно в Париже, а его мастерство было достаточным для того, чтобы Глюк использовал его в качестве своего негра.
Сальери родился в 1750 году в городе Леньяно в семье выходцев из Венеции; был он ладно сложен, невысокого роста, смуглолицый и черноглазый, с горящим взором, и всегда одевался с отменной изысканностью. Он слыл лакомкой и не мог пропустить ни одной кондитерской лавки. Заходя в них, набивал сладостями свои карманы, которые потом быстро опустошал.
Втайне от всех Сальери написал партитуру к опере Глюка «Данаиды», которая была поставлена в 1784 году в версальском театре «Меню‑Плезир» и имела огромный успех. На ее первом спектакле, данном в честь адмирала де Сюффрена, вернувшегося на родину после удачной индийской кампании, Сальери лично дирижировал оркестром. По поводу этого успеха ходила довольно колкая эпиграмма:
Кое‑кто поговаривал, что в Опере
Многочисленная в тот день публика
С жаром хлопала
Сюффрену гораздо больше, чем королеве.
Де Бьевр (директор театра) сказал: «Я это предвидел».
Самая очаровательная из принцесс,
Хотя и стала королевой, несмотря на все свои прелести.
Не получила аплодисментов больше победителя‑Сюффрена.
После этого успеха оперы Глюк написал открытое письмо, в котором оповестил публику, что настоящим автором «Данаидов» был Сальери, а сам он лишь помогал ему советами. Теперь‑то понятно, что это была коммерческая хитрость: позволив поставить свое имя на премьерной афише, Глюк способствовал тому, что сборы от спектакля оказались вдвое выше, чем были бы, если бы на афише стояло имя неизвестного композитора. Мы вполне можем допустить, что подобная уловка пришлась по душе хитрому отцу Фигаро, который познакомился с Сальери именно в Версале.
Сотрудничество Бомарше и Сальери быстро переросло в дружбу; на время работы над оперой композитор поселился в доме у драматурга.
«Сударыня, я все еще вижу вас милым ребенком, все той же красавицей Евгенией, остроумной и грациозной, – писал Сальери в период Первой империи дочери Бомарше, вспоминая о своем пребывании в доме ее отца во время работы над музыкой к „Тарару“. – Ваш знаменитый папа и ваша прелестная мама осыпали меня милостями и любезностями; после полудня мы с вами играли в четыре руки сонаты на фортепьяно. Потом мы ужинали; после ужина я выходил ненадолго почитать газеты в Пале‑Рояле или в какой‑нибудь театр. Я очень рано принимался за работу. С божественным наслаждением я каждый день наблюдал из своей комнаты восход солнца. В десять часов г‑н де Бомарше приходил ко мне, и я исполнял ему то, что написал для нашей великой оперы; он аплодировал, подбадривал меня и по‑отечески наставлял. Все казалось таким спокойным…»
А между тем был самый канун революции, и воспоминания об опере «Тарар», последнем произведении, познавшем успех при старом режиме, неразрывно связаны с политическими потрясениями того времени.
Что же представляла собой эта опера, наделавшая в тот момент столько шума, а сегодня оказавшаяся забытой? Что касается музыки, то суждения на ее счет были крайне суровыми.
«Музыка к „Тарару“, – писал один из критиков того времени, – ничего не добавит к славе ее автора: по общему признанию, она гораздо слабее музыки к „Данаидам“. Сольные партии, которые мы там слышим, самые простые и заурядные, речитатив почти всегда невыразительный и утомительно монотонный, несколько хоровых партий, правда, звучат красиво и мелодично, но этого, к сожалению, не скажешь об ариях и музыке к танцам. Лишь два или три фрагмента, в частности, ария Кальпиджи в третьем акте, единственные действительно приятные вещи из всей музыки к этой опере».