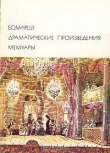Текст книги "Бомарше(Beaumarchais) "
Автор книги: Рене де Кастр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
С незапамятных времен авторы пьес получали за их постановку лишь заранее оговоренную сумму, а поскольку никогда не было гарантии, что пьеса будет иметь успех, директора театров предусмотрительно сводили авторские гонорары к смехотворным суммам. После протеста драматурга и либреттиста Филиппа Кино в 1653 году было принято решение, что отныне автор пьесы, пользующейся успехом у публики, будет получать определенный процент от театральных сборов. В 1697 году вышел королевский указ, предписывавший отчислять автору девятую часть сборов от пятиактной пьесы и двенадцатую часть – от трехактной. При этом процент высчитывался не с общей прибыли от проданных мест, как это практикуется сейчас, а с так называемого «чистого дохода», остававшегося после вычета из суммы сборов постановочных расходов, которые составляли 500 ливров для пятиактной пьесы и 300 ливров – для трехактной. Если чистый доход хотя бы один раз оказывался меньше суммы, затраченной на постановку пьесы, она «попадала под особые условия», то есть автоматически превращалась в собственность труппы, которая приобретала таким образом право исключить пьесу из репертуара, а затем к ней вернуться и с успехом играть на сцене, не имея больше никаких обязательств перед ее автором.
Это положение вещей, и так более чем невыгодное для драматургов, в 1757 году вновь было изменено в пользу «Комеди Франсез»: суммы фиксированных постановочных расходов были увеличены. Отныне, если хотя бы единожды сбор от пьесы оказывался меньше 1200 ливров зимой и 800 ливров летом, автор лишался всяких прав на нее; случалось, что драматурги, в частности Лонвей де ла Соссей, в результате уловок директоров театров оказывались их должниками.
Мало этого, теперь из суммы чистого дохода стали вычитать стоимость абонементов. Таким образом, драматургу причитался процент лишь от суммы прибыли от билетов, проданных непосредственно перед спектаклем, причем эта сумма, из которой вычитались постановочные расходы и в которую не входила стоимость абонементов, сокращалась еще на четверть за счет отчислений в пользу бедных. С помощью этой системы было проще простого в день невысоких сборов занизить прибыль до такого уровня, чтобы в буквальном смысле конфисковать пьесу в пользу театра.
Сила актеров заключалась в их единстве и сплоченности и в том, что при защите своих интересов они опирались на поддержку четырех государственных мужей – кураторов театров, готовых выполнить любые их требования ради того, чтобы пользоваться благосклонностью самых соблазнительных актрис.
В борьбе с подобной организацией, основанной на взаимной поруке, нищие, вечно ссорившиеся друг с другом драматурги не имели никаких шансов на победу. Если кто‑то из них пытался протестовать, его пьесы больше не принимали ни в одном театре. Многие авторы, в ущерб своей репутации, вынуждены были отдавать свои произведения в Итальянский театр, где условия были не столь суровы.
Каждый раз, когда Бомарше брался за какое‑либо дело, оно заканчивалось громким скандалом. Прекрасно зная нравы актеров «Комеди Франсез» и не имея иллюзий насчет практикуемых ими методов, он опасался, что они подстроят падение сборов от одного из спектаклей «Цирюльника» ниже официально установленного уровня, чтобы отобрать у него пьесу. Он не стал скрывать своих опасений от герцога де Ришелье, одного из четырех кураторов «Комеди Франсез». Ришелье, бывший в курсе многочисленных конфликтов, в которые он благоразумно предпочитал не вмешиваться, подумал, что Бомарше, снискавший нелюбовь писательской братии, но весьма популярный в театральной среде, возможно, является тем самым человеком, которому удастся найти взаимоприемлемое решение наболевшей проблемы; с этой целью он дал ему письменное разрешение проверить бухгалтерские книги «Комеди Франсез».
Пайщики театра не придали никакого значения письму маршала, заявив, что у самого Ришелье не больше прав, чем у Бомарше, на проверку их бухгалтерии.
Будучи в то время занятым другими проблемами, такими, как поставки военного снаряжения в Америку и участие в судебных процессах, касавшихся его лично, Бомарше, который не имел ни малейшего желания ссориться с актерами «Комеди Франсез» и терять благосклонность мадемуазель Долиньи, исполнительницы роли Розины, в какой‑то момент решил отказаться от этой борьбы. Узнав об этом его собратья по перу, в частности Седен, стали умолять его встать на защиту униженных драматургов. Эти просьбы подстегнули обожавшего любую борьбу Бомарше. Поскольку приближалось уже тридцать второе представление его «Севильского цирюльника» на сцене «Комеди Франсез», он потребовал, чтобы театр полностью рассчитался с ним, представив подробный отчет.
Пайщики «Комеди Франсез» делегировали к автору пьесы актера Дезесса с тем, чтобы тот передал ему 4506 ливров в качестве причитающегося ему процента от сборов. Поскольку никаких подтверждений правильности расчетов Дезесса не представил, драматург отказался принять у него деньги и вновь потребовал подробного финансового отчета. В ответ на это ему сообщили лишь, на какую сумму были проданы перед спектаклями билеты, и сказали, что подсчитать стоимость абонементов, часть из которых была пожизненной, не представляется возможным.
На яростные протесты Бомарше пайщики «Комеди Франсез» ответили готовностью создать комиссию, которая совместно с адвокатами разберется в этом деле, но, чтобы показать, что они не собираются сдаваться, временно исключили «Цирюльника» из репертуара.
«Идея созвать на настоящий консилиум адвокатов и доверенных лиц для того лишь, чтобы выяснить, следует или нет посылать мне подробный и должным образом подписанный отчет о причитающихся мне суммах за авторские права на мою пьесу, кажется мне весьма странной», – признался Бомарше, уязвленный тем, что его требование получить «выписку из бухгалтерских книг» было встречено столь враждебно.
Объявленный консилиум так и не собрался. Бомарше, узнав об этом, с еще большим энтузиазмом принялся настаивать на выполнении своих требований. Но постановку «Цирюльника» не возобновили. Пайщики «Комеди Франсез» обратились за помощью к герцогу де Дюра, еще одному официальному куратору театров, и попросили его вступить в переговоры с Бомарше.
Литератор и член Французской академии герцог де Дюра признал справедливость требований драматурга и предложил вместо существующей произвольной системы деления прибыли ввести новую, основанную на договоре, в котором будут должным образом зафиксированы права обеих сторон. Дюра посоветовал Бомарше обсудить условия договора с несколькими драматургами, но Бомарше заявил, что, поскольку все авторы, пьесы которых ставились в «Комеди Франсез», равны в правах, то и собрать нужно их всех.
Герцог с этим согласился, и 27 июня 1777 года Бомарше разослал всем своим коллегам‑драматургам приглашения к себе на обед, во время которого предполагалось обсудить условия соглашения, предложенного герцогом де Дюра.
Литература занимала в жизни Бомарше далеко не главное место, поэтому он даже не подозревал о раздорах, царивших в кругу профессиональных писателей. Ему казалось, что дело быстро пойдет на лад уже хотя бы потому, что он попросил председательствовать на этом собрании трех драматургов, являвшихся членами Французской академии.
Двое из них – старик Сорен, автор «Спартака», чья слава осталась в прошлом, и Мармонтель, находившийся на пике популярности, – с воодушевлением откликнулись на приглашение. Зато недавно ставший академиком Лагарп заупрямился: этот молодой человек отличался таким склочным характером, что коллеги прозвали его «Гарпией», умение прощать обиды никогда не входило в список его добродетелей. Он отказался от приглашения на обед, но сообщил, что готов принять участие в обсуждении договора при условии, что двое из его коллег, Совиньи и Дора, не будут присутствовать на этом собрании. Бомарше, который желал видеть у себя всех драматургов, попросил Лагарпа забыть на время о вражде, дабы «не делить метлу на отдельные прутья». Однако Лагарп не внял этому мудрому совету и заявил, что «он не может считать двух названных им авторов честными писателями». Лишь позднее, осознав, что на карту поставлены его собственные интересы, Лагарп поступился ради них своими принципами.
Шарль Колле, один из самых модных драматургов своего времени, автор комедии «Выезд на охоту Генриха IV», которая до сих пор не сходит с театральных подмостков, не раз выяснял отношения с пайщиками «Комеди Франсез», поэтому Бомарше надеялся обрести в нем своего самого надежного союзника, но и в этом его постигло разочарование. Состарившийся и желавший покоя Колле не захотел ни во что вмешиваться; он прислал свой ответ уже после того, как собрание состоялось, сославшись на то, что поздно получил приглашение, поскольку жил в деревне и собирался оставаться там до самой осени. Но даже вернувшись в Париж, он всячески устранялся от участия в решении этой проблемы, подкрепляя свою позицию то цитатой из Корнеля: «Герой видит мошенника и в душе смеется над ним», то более скромно – из Пирона: «Через презрение я обрел покой».
Дидро, отец мещанской драмы, также ответил на посланное ему приглашение отказом:
«Итак, сударь, вы оказались во главе „мятежа“ драматургов против актеров. Вы знаете, какова ваша цель и как вы будете ее добиваться; и у вас есть комитет, синдики, собрания и решения. Я никогда не участвовал в подобных мероприятиях и не считаю для себя возможным делать это впредь. Я провожу свою жизнь в деревне, вдали от всех городских дел, позабыв о них почти так же, как городские жители позабыли обо мне. Позвольте мне ограничиться пожеланиями успеха вашему предприятию. Пока вы будете сражаться, я буду возносить молитвы на медонской горе. И пусть благодаря вам литераторы, посвятившие себя театру, обретут независимость! Но, откровенно говоря, я опасаюсь, что справиться с театральной труппой будет посложнее, чем с парламентом. Смех не будет иметь здесь той же силы. И все равно, ваша попытка не станет от этого менее справедливой или менее благородной. Приветствую и обнимаю вас.
Севр, 5 августа 1777 года.
Дидро».
Наряду с этими фигурами первой величины на приглашение Бомарше не откликнулся и кое‑кто из менее значительных авторов, среди них был редактор «Газетт де Франс» Бре, которого мало занимала проблема авторских прав, а также милейший Пуансине де Сиври, оказавшийся в тот момент за долги в Фор‑Левеке, правда, этот последний в любом случае вряд ли бы появился у Бомарше, так как очень дорожил благосклонным отношением к нему актрис.
Среди тех, кто поддержал намерения Бомарше, был глубокомысленный пессимист Шамфор:
«Можно с полным основанием рассчитывать на то, что ваш ум, ваша компетентность и ваша энергия найдут способ искоренить те основные злоупотребления, кои в своем единении должны неотвратимо погубить драматическое искусство во Франции. Вы окажете неоценимую услугу нации и впишете, в который раз уже, свое имя в летопись замечательной эпохи, покрыв его славой, к которой вы, наверное, привыкли. Театральная пьеса, которая будет обязана своим рождением проведенной вами реформе, возможно, переживет тот или иной судебный орган, как „Филоктет“ Софокла пережил суд Ареопага и Амфиктионии.
Я желаю, сударь, чтобы Генеральные штаты драматического искусства, кои должны собраться завтра в вашем доме, не повторили судьбу других Генеральных штатов, которые лишь видели все наши проблемы, но не смогли решить ни одну из них. Но как бы там ни было, я твердо убежден, что ежели вам не удастся добиться успеха, то можно смело оставить всякую надежду на преобразования. Что касается меня лично, то мне, в любом случае, предоставляется счастливая возможность поближе познакомиться с человеком, чьи достоинства общепризнанны, с которым превратности светской жизни не позволяли мне видеться так часто, как мне того хотелось бы.
Честь имею оставаться… и т. д. и т. п.
Шамфор,
Секретарь его высочества принца де Конде.
Шантильи, среда, 2 июля (1777)».
На следующий день после получения Бомарше столь лестного письма, «Генеральные штаты драматического искусства» провели свое первое заседание inter pocula в его доме. Бомарше удалось совершить настоящее чудо, собрав за своим столом за бокалом шампанского двадцать три драматурга, писавших для «Комеди Франсез».
После обеда приступили к выборам комитета из четырех членов, которым предстояло защищать интересы сообщества и разработать новую систему расчетов с театром, основные принципы которой были одобрены герцогом де Дюра.
В комитет были избраны инициатор этого предприятия, Бомарше, академики – Сорен и Мармонтель, а также потенциальный академик и признанный авторитет Седен.
Комитет подготовил декларацию о независимости драматических авторов от «Комеди Франсез».
Нет никаких сомнений в том, что мятежные писатели находились под сильным впечатлением от борьбы американских колонистов за свои права, их собственная борьба имела те же цели. Как показало будущее, победить англичан было гораздо проще, чем пайщиков «Комеди Франсез». Последние немедленно сплотились и, призвав на помощь команду из четырех или пяти адвокатов во главе со знаменитым Жербье, подали на своих оппонентов в суд.
Драматурги же с трудом находили друг с другом общий язык, поэтому их союз, вдохновляемый Бомарше, не имел ни достаточной силы, ни достаточной сплоченности, чтобы выиграть процесс.
В то время как собратья Бомарше по перу готовы были использовать его способности в своих интересах, сам Пьер Огюстен не мог рассчитывать на чью бы то ни было помощь в своей борьбе. В глаза коллеги уверяли его, что целиком и полностью доверяют ему, а за его спиной некоторые из них распускали слухи, что он ловко пользуется своим положением и при первом же удобном случае предаст их, если сочтет, что ему выгоднее встать на сторону актеров.
Седен, будучи по натуре глубоко порядочным человеком, рассказал Бомарше об этих кознях, и тот вынужден был признать, что из всех встреченных им на жизненном пути врагов, а было их немало, самыми жестокими были так называемые друзья‑литераторы.
Тем не менее он не бросил этого дела и после трех лет судебных разбирательств добился компромиссного решения, которое, впрочем, не в полной мере удовлетворило его. Но он был не из тех, кто отказывается от борьбы, он исподволь продолжал ее и спустя много лет довел до победного конца.
Глава 34СЕДИНА В БОРОДУ, БЕС В РЕБРО (1777–1778)
Кипучая деятельность Бомарше, происходившая на виду у широкой публики, не мешала ему переживать бурю за бурей в личной жизни. Как справедливо заметил Сент‑Бёв в своем исследовании, посвященном Бомарше, душой этого талантливого писателя владели два бога: Плутос, наделяющий людей богатством, и известный под именем Приапа бог плодородия и плодовитости.
Первые биографы Бомарше стыдливо обходили молчанием эту важнейшую сторону его жизни, а между тем невозможно по‑настоящему оценить этого человека, не зная, что до конца своих дней он был одержим любовной лихорадкой, никогда не дававшей ему покоя. Два его первых брака еще удерживали его в рамках супружеской верности, но оба они длились совсем недолго, зато известность, пришедшая к нему в зрелые годы, открыла перед Бомарше массу возможностей, которые он никогда не упускал.
Когда на следующий день после тяжкого испытания, выпавшего на долю Бомарше, нежнейшая Тереза де Виллермавлаз пришла к нему, чтобы принести в дар свою девственность, казалось, самым разумным было бы сразу же жениться на этой влюбленной в него женщине, проявившей столько мужества и добродетели. Но Бомарше не оценил по достоинству ее качеств, для него это был лишь очередной эпизод в длинном списке его побед; правда, он старался не афишировать их связь, найдя для Терезы, которую называл г‑жой де Виллер, должность секретаря в его компании, занимавшейся поставками в Америку. Этот статус позволял молодой женщине официально жить в доме Бомарше. Она оказалась не только великолепным секретарем, обладающим редкостной деловой хваткой, но и прекрасной хозяйкой.
Так почему он сразу же не дал свое имя этой очаровательной барышне, которая, родив ему 5 января 1777 года дочь, названную Евгенией, обеспечила продолжение его рода? Почему Терезе пришлось ждать долгих девять лет, прежде чем стать законной супругой Пьера Огюстена?
Это длительное ожидание, свидетельствующее о скромности и самоотверженности г‑жи де Виллермавлаз, отнюдь не делало чести Бомарше. Порыв юной красавицы, ставшей любовницей знаменитого человека, конечно же, заслуживал ответной благодарности, но Бомарше самым бессовестным образом изменял той, кто пожертвовала ради него своей репутацией.
Одолеваемый, несмотря на зрелый возраст, постоянным любовным томлением, Пьер Огюстен попался в сети известной авантюристки г‑жи де Годвиль. Он познакомился с ней в Лондоне в один из своих наездов туда, а позже она сама разыскала его в Париже.
Это произошло в конце 1776‑го или в начале 1777 года. Беременность Терезы, видимо, досаждала Бомарше в эти суматошные дни, когда он одновременно занимался решением международных проблем и добивался своей реабилитации. За несколько дней до окончательной реабилитации Бомарше пригласили в Тампль к его другу принцу де Конти, который был серьезно болен.
«Мне уже не выкарабкаться, – сказал умирающий, – мой организм истощен войнами, вином и сластолюбием.
– Что касается войны, – ответил Бомарше, – то принц Евгений участвовал в двадцать одной военной кампании и умер в возрасте семидесяти восьми лет. Что касается вина, то маркиз де Бранкас выпивал по шесть бутылок шампанского в день и умер в восемьдесят лет.
– Да, но последнее… – проговорил принц.
– А ваша мать?.. – спросил Бомарше (принцесса умерла в семьдесят девять лет).
– Ты прав, – ответил Конти, – у меня еще есть шанс встать на ноги».
Для выздоровления принца этого шутливого диалога оказалось недостаточно. Тот, кого Людовик XV прочил в 1749 году на польский трон, знаменитый представитель младшей ветви рода Конде и вдохновитель «Секрета короля», всю свою жизнь занимал непримиримую позицию по отношению к церкви, будучи даже не деистом, а настоящим атеистом. На пороге смерти люди отбрасывают свою гордыню и склоняют голову перед Всевышним, ведь совсем скоро им придется держать перед ним ответ за все содеянное. Примером тому служит Людовик XV: умирая от оспы, он отправил в изгнание г‑жу Дюбарри, покаялся в грехах и попросил у всех прощения за свое неправедное поведение. То ли больший гордец, то ли больший скептик, чем сам король, Конти, несмотря на то что смерть уже стучалась в двери его спальни, продолжал упорствовать в своем нежелании принять из рук церкви последнее причастие.
Вероятнее всего, Бомарше был удивлен тем, что семья умирающего именно на него возложила миссию уговорить Конти допустить к себе священника. По словам Гюдена, Бомарше «умел не только весело рассказывать фривольные анекдоты, но и, когда надо, с полной серьезностью решать важные проблемы». Итак, он согласился взять на себя эту миссию, столь мало подходившую ему, но Бог рассудил по‑своему! «Я слишком поздно приступил к выполнению данного мне скорбного поручения, – писал он Верженну. – Принц де Конти умер за час до моего прихода. Я не могу выразить свое горе, оно безмерно».
В этот период Бомарше переживал один из самых разнузданных любовных романов в своей жизни. Г‑жа де Годвиль, урожденная Левассор де ла Туш, была высокой и стройной красавицей, остроумной и не лишенной литературного дара. Скорее всего, она зарабатывала на жизнь, используя свои женские прелести, а кроме того, была замешана в целом ряде темных историй; поначалу она вращалась в кругу Тевено де Моранда, но потом стала любовницей одного полицейского агента, который и привез ее в Париж в конце 1776 года.
Некоторое представление о том, как развивалась ее любовная связь с Бомарше, наиболее активная фаза которой длилась примерно полгода – с марта по сентябрь 1777 года, можно составить по потрясающим своей откровенностью письмам Пьера Огюстена; чрезмерная их фривольность вынуждает нас тщательно отбирать цитаты оттуда.
Первое из сохранившихся писем относится к 24 февраля 1777 года, а вот что он писал г‑же де Годвиль 23 марта, то есть спустя всего несколько дней после рождения Евгении, когда все внимание Бомарше должно было бы принадлежать Терезе де Виллер:
«Итак, вы из тех женщин, при ком у мужчин лопается пояс! Отлично! И если вы еще и из тех, кто с радостью распускают собственный пояс, на что я позволил себе надеяться, то возможность свободно пообщаться с вами представляется более чем заманчивой; и я, который не отказался еще от наслаждения, что дарят движения тела, буду очень рад вступить с вами в самые близкие отношения, и да здравствует хореография!»
Далее тон письма становился еще более непристойным: «Значит, вы дали обет затворничества и целомудрия? И что вы хотите, чтобы сталось со мной из‑за этих ваших обетов? Ведь мои обеты – свобода и похоть, и в своих трудах на этом поприще я превзошел самого себя. Я не собираюсь сжигать ваше письмо, и если вы выцарапаете мне глаза, я буду вынужден действовать на ощупь. Что ж! Осязать – это тоже видеть!»
Осада, видимо, продлилась совсем недолго:
«Мой кабинет полон народа. Все думают, что я бросаю начатое дело ради другого, более срочного. Ах, если бы они только знали, чем я занимаюсь в этот момент!
К ужину у меня гости, но сразу после него, как бы невежливо это ни выглядело, я закрываюсь у себя в кабинете. И далее, мысленно представив тебя рядом, я запираюсь с тобой в комнате, я с тобой наедине, я увлекаю тебя на кровать, обнимаю, целую, сжимаю в объятиях и, естественно… тебя. Я ясно выразился? Ну так, да здравствует любовь!»
После этих приступов любовной лихорадки, которые новая пассия пыталась использовать с наибольшей выгодой для себя, Бомарше начал испытывать угрызения совести из‑за того, что изменил Терезе; он решил пойти на попятную, и г‑жа де Годвиль получила следующее послание:
«Двадцать лет тому назад я был милым молодым человеком, иначе говоря, самодовольным юнцом. И если тогда я делал женщин несчастными, при том, что каждая хотела только счастья, то лишь потому, что мне казалось, что в этом огромном саду, коим именуют наш мир, каждый цветок имеет право на внимание ценителя. Увы! Это счастливое время любовных побед уже давно позади! Сейчас я больше нуждаюсь в хозяйке дома, нежели возлюбленной, и женщина, которая ходит по моему дому в белом фартуке и решает все проблемы с прислугой и прачкой, имеет право на мою признательность. В моем чувстве к ней нет ни страсти, ни опьянения, есть всего лишь нежная привязанность, и даже самая строгая мораль не может не одобрить это чувство… Мужчина, сделавший молодую женщину, скромную и порядочную, матерью своего ребенка, не сделав ее до того своей женой, очень виноват перед ней и многим ей обязан… В моем возрасте и с моими принципами подобные обязательства гораздо крепче держат, чем самая страстная любовь… Так что оставьте для меня лишь мимолетные радости, и я обещаю, что домогаться их буду только тогда, когда, обуреваемый страстью к вам, просто не смогу больше без них обходиться, то есть когда для меня это будет вопрос жизни и смерти».
Г‑жу де Годвиль. уже успевшую привязаться к Бомарше и извлекавшую немалую выгоду из их связи, не устраивала та роль, которую пытайся навязать ей Бомарше; чтобы удержать своего любовника, она пригрозила ему тем, что уедет навсегда.
«Почему вы хотите превратить связь, которая доставляет удовольствие, в мучительный роман? – вопрошал Бомарше в письме от 14 апреля 1777 года. – Воистину вы просто дитя. Фу! Как это некрасиво, плакать, когда можно смеяться, целуясь, или целоваться, смеясь! Разве легкий поцелуй или нежное прикосновение не стоят во сто крат больше мучительных пут любви, повергающей в отчаяние? Я не хочу прикипать к вам сердцем, потому что не могу и не должен этого делать, но вы могли бы внести некоторое приятное разнообразие в монотонное течение жизни, ставшей слишком тяжкой для такого веселого человека, как я. Вы такая же, как все пылкие женщины, которые ни от чего не получают удовольствия, если не владеют этим полностью».
Двумя днями позже он вновь писал своей любовнице, рассуждая о любви и дружбе:
«Люди разного пола не могут быть друзьями… Если мужчина будет честен сам с собой на этот счет, то в своем дружеском отношении к женщине он сразу же почувствует привкус любви, и я не знаю ничего более сперматочивого и возбуждающего желание, чем это. Отсюда я делаю вывод, что мужчина может с чистой совестью обращаться на „ты“ к своему другу женского пола, поскольку этого друга он при любом удобном случае е… Я не стал писать это слово открытым текстом, поскольку знаю, какую осторожность мне следует соблюдать у себя в кабинете…»
Чем дальше, тем труднее цитировать эти письма, изобилующие скабрезностями вперемежку с угрызениями совести:
«Ты, из‑за которой я перестал быть честным человеком и которая терпит это лишь из снисходительности, каковую мы проявляем к тем ошибкам, что совершаются по нашей вине, какое доверие можешь ты испытывать к тому, кто обманывает другую, чтобы не обманывать тебя? Уж такова судьба, что одной из двух приходится быть обманутой. Бедняжка, которую беспокойство и страх заставляют проявлять настойчивость и одновременно нагоняют на нее робость, когда она заговаривает со мной и не получает нежного и искреннего ответа на вопрос, что у меня на сердце и люблю ли я ее по‑прежнему, эта бедняжка сказала мне: „Друг мой, ты не умеешь лгать, а поскольку ничего мне не отвечаешь, значит, ты виноват передо мной“. И ты хочешь, любимая и жестокая женщина, чтобы я всегда был в разладе с самим собой и краснел перед той, кто верит моему слову! Как я несчастен! И все это из‑за тебя».
Г‑же де Годвиль совсем не понравились эти нравоучения, тем более что она прекрасно знала, что Бомарше не прекращал интимных отношений с Терезой, отдавая предпочтение любовнице лишь тогда, когда, по его словам, «у жены распускалась роза». Она решила разбить этот союз и подумала, что вернее всего может добиться этого, родив Пьеру Огюстену ребенка. Тот поначалу пришел в восторг от этой идеи, но быстро спохватился:
«Я слишком люблю мать, чтобы заставлять ее рожать, это мое последнее слово. Материнство – суровое испытание, с этим нельзя шутить и нельзя играть судьбой маленького человечка, который не просит нас производить его на свет, чтобы сделать несчастным».
Г‑жа де Годвиль пришла в ярость от того, что ей не удалось добиться своего, и устроила Бомарше несколько бурных сцен, а потом попыталась привязать его к себе, всячески балуя и делая маленькие подарки: зажигалка, магическое кольцо и свой миниатюрный портрет, про который он говорил, что «на нем она так же хороша, как в минуты блаженства, хотя сама она считала себя дурнушкой». Свое письмо, в котором он благодарил ее за подарок, он закончил словами: «Знаешь ли ты эти прекрасные стихи? Думаю, знаешь, но это неважно. Они так явно соотносятся с тем, о чем я тебе говорю, что я не могу удержаться и не повторить их тебе:
Однажды, излив ту божественную жидкость,
Что является источником наших наслаждений
и дарит нам жизнь,
Ирис, сочащаяся этой чудесной влагой,
Выглядела так прелестно.
Что Амур воскликнул: „Скорее нарисуйте ее такой
Для моего храма в Пафосе“.
(2 июля 1777 года)».
Их любовная связь достигла апогея:
«Вчера гневное письмо, сегодня нежнейший гимн любви… Ты вся во власти изменчивых чувств, которые не дают тебе покоя, мне не следует искать логику в твоем поведении, а нужно принимать тебя такой, какой посылает мне тебя небо: злюкой или самим очарованием, в зависимости от момента».
Но тут вмешалась нежнейшая Тереза, она защищала свое счастье и хотела вернуть отца Евгении. Бомарше жаловался г‑же де Годвиль:
«Сердце готово выскочить у меня из груди, когда я пишу тебе это письмо. Кое‑кто, кому я не позволяю входить в мой кабинет, когда работаю, но кто частенько находит предлог, чтобы войти ко мне, застал меня за чтением твоего письма. Я бросил его под стол. „У тебя упало письмо!“ Ничего не отвечая, я наклонился и сунул письмо в тетрадь с деловыми записями, после чего я встал и заходил по комнате, чтобы скрыть краску, бросившуюся мне в лицо. Такое впечатление, что сам дьявол наводит ее на след, и мне редко удается прочесть твои письма так, чтобы мне не помешали. Но что делать? Показать свою ярость – значит разбудить подозрения, которые могут лишь навредить мне, навредить нам».
Подобная осторожность была совсем не по вкусу любовнице. Она хотела единовластно владеть чувствами Бомарше, а кроме того, претендовала на его кошелек; ей вдруг срочно понадобилось 200 или 300 луидоров, то есть, по иронии судьбы, почти столько же, сколько когда‑то требовала от Бомарше советница Гёзман. Эти финансовые разборки пришлись на июль 1777 года и охладили пыл влюбленных. Затем чувства вновь взяли верх, поскольку г‑жа Годвиль и на этот раз сочла более разумным умерить свои требования. А вскоре она получила от Бомарше такое послание:
«Ты еще не знаешь, что можно написать такое письмо, в котором нежная любовница, обращаясь к своему возлюбленному, с каждой строчкой все больше обнажается. Говоря ему: „Я люблю тебя“ в первой строчке, во второй она вынимает шпильку, а в третьей развязывает ленту; в десятой она распускает шнуровку и, чувствуя нетерпение возлюбленного, желающего увидеть ее всю, в начале второй страницы сбрасывает с себя сорочку. Ты привыкла заниматься любовью только в постели. Но иногда этим весьма приятно заняться на листе бумаги. И если плотские утехи двух любовников не знают того восторга, который, заставляя сметать все препятствия и преодолевать пространство и время, влечет их друг к другу, поскольку жить без этого они уже не могут, то утехи эти ничто. Подумай сама или позволь мне тебе все объяснить, и ты меня не сможешь удержать. Твой триумф – это наслаждение. Разжигать огонь с помощью чернил и бумаги – это твое предназначение, дурочка!»
В течение августа письма Бомарше просто источали сладострастие, для передачи коего он использовал самые что ни на есть откровенные выражения:
«Вчерашнее письмо, сердце мое, было, с позволения сказать, весьма фривольным, и хотя я после трехдневной диеты был не совсем в форме, но все равно почувствовал, как кое‑что зашевелилось у меня под столом. „Что же это такое?“ – спросил я себя. Немного чернил на листе бумаги, разве это моя возлюбленная? Нет, но я вижу ее сквозь строчки ее письма в весьма непристойной позе, перебирающей своими ловкими пальчиками так грациозно и нежно, что от этого готов лопнуть пояс одного голландца. Я сейчас расскажу тебе некую историю и должен признаться (не знаю, к стыду своему или к чести), что она не совсем безобидна. Итак, ты напомнила мне одну мою любовницу, порой бывавшую капризной и надменной, но, как и я, обожавшую наслаждение, если не сказать большего. Иногда после ссоры, когда она видела, что я готов в ярости покинуть ее, она бросала мне: „Ну и отлично, убирайся, мне совсем и не нужен любовник, я сама прекрасно со всем справлюсь“ и, продолжая ворчать на меня, она откидывалась на кровати, выставив мне напоказ свои волнующие бедра, и начинала на глазах у меня ласкать своим пальчиком самое прелестное местечко на свете… „Убирайся, – говорила она, – убирайся же!“ Этого я уже выдержать не мог и бросался в ее объятия, а когда потом обессиленный и счастливый лежал на ней, эта хитрюга нежно целовала меня в лоб и приговаривала: „Уж я‑то знала, что смогу вас образумить“. Она была права, она действительно знала, что вид получающей наслаждение женщины действует на меня неотразимо.