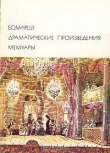Текст книги "Бомарше(Beaumarchais) "
Автор книги: Рене де Кастр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Он был так хорош.
Что ради него тигрицы
Превращались в овечек.
Мадемуазель Менар, уставшая от грубых выходок герцога де Шона, колотившего ее наравне со своей обезьяной, сразу же пала в объятия Бомарше. Поначалу герцог как будто бы весьма спокойно отнесся к этому и даже посочувствовал другу, что тот попался в такую ловушку. При этом сам он продолжал время от времени навещать мадемуазель Менар, поскольку имел от нее малолетнюю дочь. Герцог охладел к своей бывшей любовнице, презирал ее и частенько бил, но не мог смириться с тем, что молодая женщина даже не скрывала, что была гораздо счастливее в объятиях бывшего часовщика, чем в объятиях герцога и пэра. Он начал устраивать ей такие ужасные сцены, что ради обретения спокойствия мадемуазель Менар уговорила Бомарше оставить ее. Поскольку актриса не оправдала его надежд на постановку с ее помощью «Цирюльника» на сцене Театра итальянской комедии, Пьер Огюстен спал с ней исключительно ради чувственного удовольствия, ни о какой любви между ними и речи не было. Так что он легко расстался с любовницей, но это не успокоило герцога де Шона, который продолжал третировать мадемуазель Менар. Та укрылась от него в монастыре, но спустя некоторое время, решив, что гроза миновала, вернулась домой и стала созывать к себе друзей.
И тут Бомарше выкинул один из тех фокусов, на которые был большой мастак: он счел необходимым сообщить герцогу де Шону о полученном от Менар приглашении и о том, что собирается его принять. В своем письме он напомнил герцогу о старом долге и не преминул подчеркнуть, что вместо благодарности за предоставленный кредит Шон отплатил ему грубыми насмешками над его низким происхождением, когда узнал, что актриса отдала предпочтение ему, Бомарше. Концовка письма оказалась и вовсе неожиданной – Бомарше предложил герцогу разделить функции: он, Бомарше, вновь становится любовником Менар и берет на себя часть расходов по ее содержанию, а другую часть возмещает герцог; подобная организация их взаимоотношений, по его мысли, должна была всех сделать счастливыми.
Герцог де Шон оставил без ответа это предложение о мирном сосуществовании в рамках любовного треугольника. Бомарше счел молчание знаком согласия и вновь стал встречаться с мадемуазель Менар. Дело казалось улаженным, но вдруг у Шона случился один из тех приступов ярости, из‑за которых он имел такую скверную репутацию.
Однажды он явился к актрисе, чтобы навестить свою маленькую дочку, и застал в спальне Менар Гюдена де ла Бренельри. Мадемуазель, лежа в постели, жаловалась Гюдену на грубые выходки герцога де Шона, а тот, входя в комнату, услышал ее последние слова и увидел залитое слезами лицо бывшей возлюбленной. Глотая слезы, она попыталась объяснить Шону:
«Я плачу и умоляю г‑на Гюдена, чтобы он уговорил г‑на де Бомарше выступить с опровержением тех нелепых россказней, что ходят о нем».
«Что за необходимость защищать такого негодяя, как Бомарше?» – сказал в ответ герцог.
«Он очень порядочный человек», – вновь залившись слезами, пролепетала женщина.
«Вы любите его! – воскликнул герцог. – Вы унижаете меня этим, и я объявляю вам, что буду драться с ним на дуэли».
Мадемуазель Менар выпрыгнула из постели в чем была, чтобы удержать разъяренного герцога, но с этаким Геркулесом вряд ли кто‑нибудь смог бы сладить. Перепуганный Гюден немедля отправился на улицу Конде, и по дороге, на перекрестке Бюси, ему посчастливилось повстречать экипаж Бомарше. Он прокричал другу в окошко кареты:
«Вас ищет герцог, чтобы вызвать на дуэль!»
«Он сможет убить лишь собственных блох», – ответил Бомарше и продолжил свой путь в Лувр на очередное заседание суда Луврского егермейства. Гюден пошел домой. На пересечении набережной Конти с Новым мостом кто‑то вдруг схватил его за фалды сюртука. Это был герцог де Шон, он сгреб Гюдена в охапку, затолкал в свой фиакр и приказал, плюхнувшись рядом: «Кучер, на улицу Конде!»
По дороге Шон метал громы и молнии. Он твердил только о том, что убьет Бомарше, и требовал у Гюдена, чтобы тот сказал, где находится его друг. Пытаясь добиться ответа и исчерпав все аргументы, Шон вцепился Гюдену в волосы, и вдруг все они остались у него в руках, поскольку тот носил парик. Возня в фиакре заставила кучера остановить лошадей; любопытные, привлеченные шумом, собрались вокруг и со смехом наблюдали за происходящим. Не обращая внимания на зрителей, Шон схватил Гюдена за горло и начал душить. Весь исцарапанный, Гюден вырвался наконец из рук Шона, схватил свой парик и выскочил из фиакра. Понимая, что наживет себе в лице герцога де Шона врага, Гюден все же отправился в ближайший полицейский участок и сообщил о происшествии. А разъяренный герцог поехал на улицу Конде, где слуги, знавшие его как завсегдатая этого дома, сообщили ему, куда отправился их хозяин. Шон приказал везти себя в Лувр, где Бомарше в длинной мантии величественно вершил суд над браконьерами. С этого момента предоставим слово самому Бомарше:
«Я уже открыл заседание суда, когда в крайне возбужденном состоянии, какое только можно изобразить, в зал вбежал герцог де Шон и громко заявил, что ему срочно нужно сообщить мне одну весьма важную вещь, поэтому он хочет, чтобы я сейчас же последовал за ним.
„Я не могу этого сделать, господин герцог, долг службы обязывает меня достойным образом завершить начатое заседание“.
Я предложил ему присесть, но он продолжал настаивать; все были изумлены его видом и тоном… Я прервал на минуту заседание и вышел с ним в соседний кабинет. Там он заявил мне в самой грубой форме, пересыпая свою речь площадной бранью, что прямо сейчас убьет меня и вырвет мое сердце, ибо жаждет напиться моей крови.
„Ах, господин герцог, если дело только в этом, то позвольте мне сперва закончить заседание, а уж потом мы предадимся забавам“.
Я хотел вернуться в зал, но он остановил меня криком, пригрозив, что при всех вырвет мне глаза, если я тотчас же не последую за ним.
„Господин герцог, вы погубите себя, если отважитесь на столь безрассудный поступок“, – сказал я ему в ответ».
Бомарше спокойно закончил заседание, несколько затянув его в надежде на то, что ярость герцога поутихнет. Но напрасно. Когда он снял мантию и облачился в обычное платье, герцог де Шон все еще находился в Лувре. Пьер Огюстен подошел к нему и опередил поток его брани вопросом о том, чем же он смог обидеть бывшего друга, если они не виделись вот уже несколько месяцев.
«„Никаких объяснений, – ответил он, – немедленно едем драться, не то я устрою скандал прямо здесь“.
„Но вы разрешите мне, по крайней мере, съездить домой, – спросил я, – взять мою шпагу? В моем экипаже лежит только плохонькая траурная шпага. Надеюсь, вы не будете требовать, чтобы я защищался ею?“
„Мы сейчас заедем к графу де Тюрпену, – ответил он, – и он одолжит вам свою, к тому же я собираюсь просить его быть моим секундантом“.
Затем он первым вскочил в мою карету, я сел в нее следом за ним, а его экипаж поехал за нами. Он оказал мне честь, заявив, что на сей раз мне не удастся улизнуть от него, и, по своему обыкновению, сдабривая речь цветистыми эпитетами. Мои хладнокровные ответы только еще больше раздразнили и разозлили его. Он начал грозить мне кулаком в моем же экипаже. Я заметил, что если он собирается драться со мной на дуэли, то публичная ссора помешает ему осуществить это желание, и что я не для того еду за шпагой, чтобы сейчас драться на кулаках, словно какой‑то биндюжник. Мы подъехали к дому графа де Тюрпена, который в эту минуту как раз вышел на улицу. Увидев нас, он поднялся на подножку моего экипажа:
„Господин герцог в обиде на меня, – сказал я ему, – хотя я и не знаю, за что. Он хочет, чтобы я перерезал ему глотку на дуэли, и я, сударь, льщу себя надеждой, что вы, по крайней мере, соблаговолите стать свидетелем того, как будет проходить наша схватка“.
Г‑н де Тюрпен ответил, что до четырех часов дня он занят, видимо, надеялся, что к тому времени мир будет восстановлен.
Г‑н де Шон, – продолжает рассказ Бомарше, – потребовал, чтобы я поехал к нему и пробыл там до четырех часов».
Пьер Огюстен отказался и велел своему кучеру везти его на улицу Конде. Всю дорогу Шон выкрикивал оскорбления, а когда экипаж остановился у дома Бомарше, завопил: «Если вы выйдете из кареты, я заколю вас прямо у ваших дверей!»
Пьер Огюстен ответил ему самым любезным тоном: «Полноте, господин герцог, когда человек хочет драться всерьез, он не болтает так много попусту. Зайдите в дом и отобедайте у меня, и если мне не удастся образумить вас до четырех часов и вы все еще не откажетесь от намерения поставить меня перед альтернативой драться или потерять свое лицо, то пусть рассудит нас судьба».
Наконец экипаж прибыл на улицу Конде, и они вошли в дом. Там Бомарше передали письмо, которое принес почтальон; к великому изумлению челяди, герцог бросился на их хозяина и вырвал письмо у него из рук. Завязалась словесная перепалка. Чтобы выиграть время, Бомарше заявил, что его шпаги нет сейчас в доме, но Шон ничего не желал слушать и все более распалялся. Вдруг он выхватил траурную шпагу, висевшую на боку у Бомарше, и ринулся в атаку. Защищаясь, Пьер Огюстен сгреб своего противника в охапку, но тот свободной рукой в кровь расцарапал ему лицо. Бомарше призвал на помощь слуг:
«Обезоружьте этого безумца!»
Повар схватил полено и намеревался огреть герцога по голове, но Бомарше остановил его криком:
«Разоружите его, но не причиняйте ему вреда, иначе потом он будет говорить, что в моем доме его пытались убить».
У герцога отобрали шпагу, однако он вновь кинулся на Бомарше и вырвал у него огромный клок волос. Обезумев от страшной боли, тот со всего размаху заехал противнику кулаком в лицо.
«Негодяй! Ты поднял руку на герцога и пэра Франции!» – крикнул Шон. В создавшейся ситуации это прозвучало довольно комично.
Шон схватил Бомарше за горло, порвал на противнике камзол и рубашку. Они осыпали друг друга ударами; сцепившись в драке, Шон и Бомарше оказались на лестнице и кубарем скатились вниз, увлекая за собой пытавшуюся разнять их челядь. В этот момент на первом этаже открылась входная дверь, и в дом вошел Гюден де ла Бренельри. Он попробовал помочь другу высвободиться, но это удвоило ярость герцога де Шона. Тот со шпагой в руке бросился на Бомарше с намерением пронзить его. Слуги преградили ему путь и сильно при этом пострадали: одного из лакеев герцог ранил в голову, кучеру порезал нос, а повару проткнул руку. Этот последний вырвался и бросился на кухню за ножом. Бомарше, в свою очередь, вооружился каминными щипцами. И в этот момент трагедия вдруг обернулась комедией. Герцог де Шон заметил, что в столовой накрыт обед. Как ни в чем не бывало, он уселся за стол, налил себе полную тарелку супа, съел все котлеты и выпил полный графин лимонада. Это пиршество в одиночку было прервано приходом полицейского пристава, некого комиссара Шеню, за которым послал Гюден. Комиссар отметил царивший в доме беспорядок, выслушал объяснения хозяина и, придя в уныние от всей этой истории, вошел в столовую, где утоливший голод Шон горевал из‑за того, что ему не удалось прикончить Бомарше, и, пытаясь заглушить ярость, колотил себя кулаками по лицу и драл на себе волосы.
Такова была эта необычная сцена, которую Пьер Огюстен блестяще описал и которую тем же вечером передал изустно своим друзьям, когда, перевязав раны, пришел в гости к г‑ну Лопесу, где должен был читать «Севильского цирюльника». Пересказ событий этого сумасшедшего дня способствовал еще большему успеху Бомарше. Трудно усомниться в правдивости его рассказа, как и рассказа Гюдена де ла Бренельри, передавшего эти события в более мягкой форме; в целом оба эти повествования подкрепляются отчетом комиссара Шеню, который несколько сгладил в нем острые углы, дабы избежать осложнений с «герцогом и пэром», а также письменными показаниями самого Шона, представленными им суду маршалов Франции, расследовавшему это дело. В своем довольно пристрастном изложении событий Шон сетовал на то, что Бомарше одурачил его, отбив у него возлюбленную; он не стал распространяться о своем буйстве, но не скрыл того, что явился к Бомарше, дабы вызвать его на дуэль, хотя это преступление каралось по закону куда строже, чем обычная драка. Чтобы избежать обвинений в том, что герцог и пэр вел себя как биндюжник, Шон выставил своего противника зачинщиком ссоры, что в ходе следствия было опровергнуто свидетелями. Однако показания Шона сыграли роковую роль в дальнейшей судьбе Бомарше; чтобы окончательно сразить своего противника, герцог сделал следующее заявление:
«Я никогда не привлекался к суду и не имел дела с полицией ни в Париже, ни в каком‑либо другом месте как забияка, шулер или нарушитель общественного спокойствия, а вот г‑н де Бомарше не может похвастаться такой же непорочной репутацией, поскольку, не говоря уже о его общепризнанной наглости и самых невероятных слухах, распространяемых на его счет, в настоящий момент он находится под следствием по обвинению в подделке документа».
Это был жестокий и несправедливый удар, ведь из тех судебных процессов, в которые был втянут Бомарше, в тяжбе с Обертенами, обвинявшими его в вымогательстве подписи и затеявшими это дело с четырнадцатилетним опозданием, приговор еще не был вынесен, а в тяжбе с Лаблашем факт подделки соглашения с Пари‑Дюверне не был подтвержден, так как истцу было отказано в иске, после чего его заочно приговорили к выплате долга; так что, поскольку дело находилось на апелляции, было просто бесчестно предвосхищать решение суда, которое, вероятнее всего, должно было оказаться в пользу Бомарше. Кроме того, не герцогу де Шону, еще не закончившему позорный процесс из‑за денег с собственной матерью, пристало учить других добродетели. И все же стрела, пущенная герцогом, сыграла в процессе с Лаблашем роль отравленной, поскольку повлияла на мнение судей и послужила поводом для одного из самых громких скандалов, что когда‑либо происходили; можно даже сказать, что стрела эта нанесла смертельную рану парламенту Мопу.
На следующее после потасовки утро папаша Карон вручил сыну шпагу времен своей молодости со словами: «У вас у всех сейчас никудышное оружие; вот тебе надежная шпага, изготовленная в то время, когда дуэли случались гораздо чаще, чем сегодня; возьми ее и, если этот негодяй герцог вновь приблизится к тебе, убей его как бешеного пса».
Прекрасная речь, достойная потомка гугенотов, готового жизнь отдать за веру, и человека, убежденного в том, что все люди равны и что никакие титулы не могут восполнить недостаток благородства души! Еще немного, и эта позиция станет господствующей.
Мнение герцога на сей счет не совпадало с мнением старика Карона, для него на первом месте стояло понятие сословной принадлежности; этот потомок де Люинов счел себя вправе говорить во всеуслышание во всех людных местах, что, поскольку его соперник не принадлежит к дворянскому сословию, то он накажет его как простолюдина. Эти заявления были совершенно абсурдны, так как должность королевского секретаря, которую занимал Бомарше, свидетельствовала о принадлежности к дворянскому сословию. Именно поэтому их дело и было передано в суд маршалов, в чьей юрисдикции было разбирать конфликты между дворянами, а начал разбирательство этот суд с того, что поставил по гвардейцу в доме у каждого из соперников.
Граф де Сен‑Флорантен, ставший в 1770 году герцогом де Лаврильером и занимавший пост министра королевского двора, приказал Бомарше удалиться на некоторое время в деревню. Тот отказался выполнить этот приказ, мотивируя тем, что таким образом он даст повод думать, что испугался угроз герцога де Шона. Тогда министр потребовал, чтобы Бомарше оставался под домашним арестом до тех пор, пока об этом деле не будет доложено королю.
В последующие дни суд маршалов заслушивал по отдельности каждую из сторон. Бомарше легко смог доказать, что его единственная вина состояла в том, что мадемуазель Менар предпочла его в постели герцогу де Шону, что, разумеется, не являлось нарушением закона, особенно в XVIII веке, когда женские капризы ставились превыше всего.
Герцога де Шона, которому не удалось опровергнуть обвинения в свой адрес, 19 февраля 1773 года заключили в Венсенский замок согласно «летр де каше». Пьеру Огюстену суд маршалов объявил, что домашний арест с него снят и ему возвращается полная свобода.
Из осторожности и любви делать все как следует Бомарше, прежде чем возобновить обычную жизнь, отправился к герцогу де Лаврильеру, чтобы заручиться его согласием на снятие домашнего ареста. Но министра не оказалось дома, и Бомарше, оставив ему записку, поехал к Сартину. Начальник полиции заверил своего посетителя, что тот совершенно свободен.
Однако у герцога де Лаврильера было совсем иное мнение на сей счет. Этот потомок рода Фелипо в течение пятидесяти двух лет занимал министерские посты – министра без портфеля, министра по делам протестантов и, наконец, министра королевского двора. Более чем полувековая карьера этого человека была отмечена лишь недостойной и мелочной суетой: притеснения и преследования гугенотов стали прекрасной подготовкой к той задаче, которую он выполнял потом всю оставшуюся жизнь. Задачей этой было извещать коллег о том, что они впали в немилость: вначале был Машо, потом Шуазель, скоро наступит черед д’Эгийона, Мопу и Терре и, наконец, перед тем как самому предстать перед Богом, он принесет эту весть Тюрго. Таков далеко не полный список великих царедворцев, которых Лаврильер отправил в отставку, тогда как его собственная посредственность позволяла ему держаться на плаву. Но этот человек ограниченного ума обладал удивительной способностью сразу же видеть людей, в чем‑либо его превосходящих, и это их превосходство заставляло его страдать до глубины души.
Выдающиеся люди редко занимают высокие должности, поскольку самый короткий и самый верный путь к ним – это раболепие. Бомарше, свободолюбивый и независимый, хоть и имел пороки, но никогда не принадлежал к гнусной породе пресмыкателей. Лаврильер давно понял это и с негодованием наблюдал за тем, как принцессы осыпали милостями сына часовщика, бренчавшего на арфе и опустившегося до сочинительства пьес. И вот теперь, устроив драку с герцогом и пэром, этот наглец посмел оспаривать законность ареста, наложенного на него им, герцогом де Лаврильером, именем короля.В своей записке Бомарше уведомил министра, что суд маршалов именем королявернул ему свободу. Г‑н де Лаврильер ответит ему тоже именем короля.Разве это слыхано, чтобы герцог и пэр сидел под арестом в Венсенском замке, а его противник свободно разгуливал по столице и со смехом рассказывал всем о своем приключении?
Во имя поддержания установленного порядка и чтобы подчеркнуть свою власть, которую люди недалекие любят при каждом удобном случае демонстрировать тем, кто превосходит их умом, герцог де Лаврильер подписал 24 февраля 1773 года «летр де каше» о заключении Бомарше в тюрьму Фор‑Левек, чтобы тот смог поразмыслить там на досуге о том, как рискованно быть слишком умным. Лаврильер думал, что таким образом погубил репутацию Бомарше, на самом же деле, он открыл перед ним не ворота тюрьмы, а дорогу к славе.
Глава 20УЗНИК ФОР‑ЛЕВЕКА (1773)
Утром 24 февраля 1773 года офицер мушкетеров явился в дом номер 26 по улице Конде: он дал хозяину четверть часа на сборы и прощание с семьей, после этого, несмотря на протесты, двое сержантов препроводили его в фиакр:
«Из глубины фиакра я увидел, что для меня опускают мост тюремного замка, у входа в который я оставил надежду и свободу», – скажет позже Фигаро в своем знаменитом монологе.
По правде говоря, тюрьма Фор‑Левек, расположенная на улице Сен‑Жермен‑л'Оксеруа, пользовалась вполне приличной репутацией, туда заключали не опасных преступников, а учинивших какой‑либо скандал актеров или несостоятельных должников. Новому постояльцу отвели лучшую комнату замка, ту самую, в которой за восемь лет до него мадемуазель Клерон расплачивалась за свой отказ играть в комедии.
Чем еще было заняться в этом комфортабельном застенке, кроме как писать письма. Первое послание, адресованное Гюдену, было выдержано в весьма ироничном тоне:
«Благодаря незапечатанному письму, именуемому письмом с печатью (летр де каше), за подписью Людовика, а ниже – Фелипо, завизированному Сартином, исполненному Бюшо и касающемуся Бомарше, я, друг мой, проживаю теперь в Фор‑Левеке в комнате без обоев стоимостью 2160 ливров, и меня заверили, что, помимо самого необходимого, у меня ни в чем не будет нужды. Обязан ли я своим заключением семейству герцога, которого спас от уголовного процесса? Или министру, чьи приказы я неизменно выполнял и даже предвосхищал? Или же герцогам и пэрам, с которыми мне совершенно нечего делить? Этого я не знаю. Но священное имя короля столь прекрасно, что никогда не вредно употребить его лишний раз и кстати. Именно так во всяком хорошо организованном государстве расправляются по воле власти с теми, кому нечего предъявить по суду. Что поделаешь? Повсюду, где есть люди, происходят омерзительные вещи, и быть правым – это большая ошибка и преступление в глазах власти, которая всегда готова наказывать, но никогда – судить».
Через некоторое время эту мысль повторит другой знаменитый писатель, также ставший жертвой «летр де каше». Это Мирабо, взбудораживший общественное мнение своим «Эссе о деспотизме» и брошюрой «Королевские указы о заточении в тюрьму без суда и следствия и государственные тюрьмы». И здесь стоит обратить внимание на эту уже наметившуюся связь между двумя судьбами, столь характерными для той бурной эпохи, эпохи перехода от абсолютизма к революции. Подобно Мирабо, Бомарше умел подобрать сильные слова, находившие отклик в угнетенных душах; вскоре он осознал серьезность положения, в котором оказался, и в письме к своему покровителю принцу де Конти сменил ироничный тон на более суровый:
«Король может полновластно распоряжаться свободой своих подданных, но честь их ему неподвластна. Власть, которая лишает нас возможности добиваться правосудия, не может отнять у нас еще и право надеяться на него».
Тюремное заключение действительно серьезно ослабило позиции Бомарше в судебном процессе с графом де Лаблашем, начатом по апелляционной жалобе последнего; Лаблаш приложил массу усилий для того, чтобы рассмотрение поданной им жалобы было назначено на возможно более ранний срок, дабы он мог воспользоваться ситуацией, обеспечивавшей его физическое и моральное превосходство над противником.
И все же узнику удалось найти покровителей. Мадемуазель Менар бросилась в ноги Сартину с просьбой взять под защиту Бомарше. Тот пообещал поддержку, но слов актрисе показалось мало; на следующий день она написала начальнику полиции письмо, в котором настаивала на своей просьбе и умоляла помочь ей найти убежище в монастыре, где она могла бы укрыться от бесчинств герцога де Шона, если последний будет освобожден из тюрьмы. Через день она возобновила свои просьбы, Сартин пошел навстречу ее желаниям и с помощью аббата Дюге, славившегося своим благочестием, устроил так, что актрису пообещали принять в одном из монастырей. Добиться этого оказалось нелегко, поскольку и сам аббат, и монахини боялись мести герцога де Шона; к сожалению, мадемуазель Менар не оценила этих усилий: поскольку чувство страха было сильнее любви к Богу, она с трудом переносила добровольное заточение и в конце концов убедила себя в том, что стены Венсенского замка надежно защищают ее от бывшего покровителя; спустя всего неделю после прибытия в монастырь она вернулась к мирской жизни.
Больше из эгоизма, чем из ревности, Бомарше запротестовал против этого шага и через Сартина передал письмо своей любовнице: настоятельно рекомендуя ей вернуться в монастырь и оставаться там, он думал не столько о ее безопасности, сколько об экономии собственных средств, так как было ясно, что рассчитывать на финансовую поддержку герцога де Шона больше не приходится. Сам же Бомарше находился в слишком затруднительном положении, чтобы проявлять щедрость по отношению к той, кто стала виновницей его несчастий. Эти соображения, продиктованные мещанской расчетливостью, ловко маскировались в письме патетическими увещеваниями:
«Говорят, вы плачете! О чем же вы плачете? О том, что стали причиной моего несчастья и несчастья господина де Шона? Но на самом деле вы стали лишь предлогом… Послушайте меня, дорогой друг, возвращайтесь в обитель, где, как мне рассказали, все нежно вас любят. Пусть ваше пребывание в монастыре станет доказательством того, что мы больше не состоим в интимных отношениях, это даст мне право утверждать, что я всего лишь ваш друг, покровитель, брат и советчик».
Мадемуазель Менар не вняла этим доводам, а сочла за лучшее, оставаясь на свободе, навещать Сартина и умолять об освобождении Бомарше. Уверяют, что ей удалось добиться расположения Сартина благодаря своим женским прелестям, к которым тот не смог остаться равнодушным. Но начальник полиции не обладал полномочиями, позволявшими ему аннулировать приказ министра, о чем он и уведомил Бомарше, а тот, не дожидаясь помощи с этой стороны, уже бомбардировал герцога де Лаврильера письмами, в которых заявлял, что с ним несправедливо обошлись, что он ни в чем не виноват и хочет знать причину своего заточения в тюрьму. Эти бунтарские послания лишь усиливали раздражение министра. Сартин посоветовал узнику изменить тон его писем, на что получил блистательный ответ:
«Единственным удовольствием, которое остается тем, кого преследуют, является сознание того, что это преследование не заслужено».
Графу Лаблашу удалось‑таки добиться того, чтобы судебное заседание по рассмотрению его апелляции было перенесено на более ранний срок: слушания назначили на первые числа апреля 1773 года. Бомарше необходимо было общаться со своими адвокатами, и он попросил Сартина выхлопотать для него разрешение у герцога де Лаврильера выходить ежедневно на несколько часов из тюрьмы для консультаций с юристами и для организации своей защиты. Лаврильер, до крайности возмущенный поведением Бомарше, ответил: «Этот человек слишком дерзок, пусть просит прокурора, чтобы тот занялся его делом».
Бомарше вновь взялся за перо, чтобы написать Сартину: «Теперь мне совершенно ясно, что кое‑кто хочет, чтобы я проиграл процесс вне зависимости от того, есть у меня шансы на победу или нет, но, признаюсь, я не ожидал от герцога де Лаврильера столь смехотворного заявления, что мне следует попросить прокурора заняться моим делом, ведь он не хуже меня знает, что прокурорам подобное запрещено. Ах, батюшки, неужто нельзя погубить невинного, не выставляя его на посмешище? Итак, сударь, меня жестоко оскорбили и отказали мне в правосудии, поскольку мой противник знатный вельможа!» Подводя итог, Бомарше писал, что видит единственную возможность защитить себя в том, чтобы предоставить доказательства того, что он не кривил душой, когда говорил, что не виноват в скандале с герцогом де Шоном.
20 марта 1773 года, через девять дней после этого письма, он опять написал Сартину и просил того передать благодарность мадемуазель Менар, которая без устали ходатайствовала о его освобождении; в этом же письме он умолял начальника полиции вновь обратиться к Лаврильеру за разрешением для него покидать ежедневно на несколько часов тюрьму с тем, чтобы подготовиться к судебному заседанию по поводу тяжбы с Лаблашем. Лаврильер ответил, что не допустит этого до тех пор, пока Бомарше не прекратит ему дерзить; он хотел, чтобы узник, прежде чем требовать справедливости, попросил у него прощения.
До судебного заседания оставалось всего две недели, поэтому нужно было торопиться. Бомарше проглотил обиду и 21 марта 1773 года, смирив гордость, отправил министру следующее письмо:
«Монсеньор!
Ужасная история с герцогом де Шоном явилась для меня началом целой череды несчастий, главным из которых стала потеря вашей благосклонности ко мне; если, несмотря на чистоту моих намерений, раздирающая меня боль помутила мой рассудок и подтолкнула к поступкам, кои вызвали ваше недовольство, я отрекаюсь от них у ваших ног, монсеньор, и молю вас великодушно простить меня. Если вы считаете, что я заслуживаю более длительного заключения, то позвольте мне лишь в течение нескольких дней покидать тюрьму, чтобы ввести судей во Дворце правосудия в курс дела, чрезвычайно важного для моего материального положения и для моей чести, а после вынесения приговора по нему я с благодарностью приму любое наказание, какое вы на меня наложите. Все мое семейство присоединяется к моей просьбе. Все вокруг превозносят вашу снисходительность, монсеньор, и ваше доброе сердце. Неужто мне суждено стать тем единственным человеком, который напрасно взывал к вашему милосердию? Одно ваше слово может наполнить радостью сердца множества честных людей, чья благодарность не уступит тому глубокому уважению, с коим все мы, а я в особенности, монсеньор, остаемся вашими…
Карон де Бомарше».
Это письмо, должно быть, с большим скрипом вышло из‑под пера его автора, но время поджимало, и необходимость диктовала свои законы. Герцог де Лаврильер, потешивший свое мелочное самолюбие, отдал на следующий день, 22 марта, распоряжение Сартину выпускать узника из тюрьмы в сопровождении конвоира, но с обязательным условием, что для принятия пищи и сна тот будет возвращаться в Фор‑Левек.
Герцог де Шон также принялся бомбардировать Лаврильера письмами и добился того, что и ему позволили покидать время от времени тюремные стены в сопровождении полицейского, но с категорическим условием не встречаться с мадемуазель Менар. Образумившийся в заключении Шон пообещал Сартину выполнить все требования и обязался не возобновлять ссоры с Бомарше, тоже, правда, поставив условие, что тот выдержит приличествующий срок до того, как вновь начнет открыто сожительствовать с актрисой. Эта оговорка была совершенно излишней, поскольку у Бомарше к тому времени появились более важные заботы, нежели забавы в постели с бывшей любовницей. Кстати, узнав о том, что герцог де Шон возобновил финансовую помощь женщине, бросившей его, Бомарше по достоинству оценил этот шаг. Вот что он написал о своем противнике: «Из всех людей, когда‑либо причинивших мне неприятности либо желавших мне зла, герцог де Шон был наименее зловредным, поскольку действовал в порыве страсти. Я же вовсе не испытывал к нему неприязни, даже напротив, он был одним из тех, кого я очень любил, и все, что между нами произошло, не смогло истребить мои добрые чувства к нему». Позже, когда оба давно позабыли мадемуазель Менар, ставшую любовницей богатого купца, они как‑то решили вместе пообедать, после чего возобновили свои дружеские отношения.