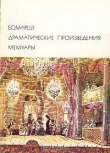Текст книги "Бомарше(Beaumarchais) "
Автор книги: Рене де Кастр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
Описывая пребывание Бомарше в Фор‑Левеке и предваряя рассказ о трагических последствиях этого тюремного заключения, хочется упомянуть об одной трогательной истории, связанной с этим эпизодом в жизни нашего героя.
Как мы помним, г‑н Ленорман д’Этьоль, овдовевший после смерти маркизы де Помпадур, вновь женился. У него родился сын, названный Констаном, ко времени описываемых событий ему уже было шесть с половиной лет. Мальчик обожал Бомарше. Когда того посадили в тюрьму, он написал ему такое письмо:
«Нейи, 2 марта 1773 года.
Сударь,
посылаю вам мой кошелек, потому что в тюрьме человек всегда несчастен. Я очень огорчен, что вы в тюрьме. Каждое утро и каждый вечер я читаю за вас молитву Богородице. Имею честь, сударь, быть вашим нижайшим и покорнейшим слугой.
Констан».
Взволнованный до глубины души Бомарше сразу же написал в ответ два письма, одно г‑же Ленорман д’Этьоль, которой он поведал, насколько тронула его забота ее сына, а второе – Констану:
«Фор‑Левек, март 1773 года.
Мой дорогой Констан,
благодарю вас за ваше письмо и кошелек, который вы к нему приложили; я по справедливости поделил присланное между собратьями‑узниками: вашему другу Бомарше я оставил лучшую часть, я имею в виду молитвы Богородице, в коих я, без всякого сомнения, очень нуждаюсь, а страждущим беднякам я отдал все деньги, что были в вашем кошельке. Таким образом, желая доставить радость одному человеку, вы заслужили благодарность многих; таковыми обычно и бывают плоды добрых дел, подобных вашему.
До свидания, мой дорогой друг Констан.
Бомарше».
Милейший тон этого письма никак не вяжется с теми гадостями, которые распространял о Бомарше граф ле Лаблаш, называвший его в своих записках судьям не иначе как законченным чудовищем и опасным типом, от коего необходимо избавить общество.
Но эти трогательные детали не должны заслонить от нас драматические последствия тюремного заключения Бомарше, который приложил огромные усилия, чтобы организовать свою защиту и повидаться с судьей, назначенным докладчиком по его делу в парламенте. Этот судья по фамилии Гёзман еще не раз появится на страницах нашего повествования, и мы подробно расскажем о бесплодных попытках Бомарше встретиться с ним в последние дни марта 1773 года.
Выслушав доклад советника Гёзмана и приняв во внимание ссору Бомарше с герцогом де Шоном и его заточение в Фор‑Левек, а также тот факт, что Обертены вновь затеяли против него тяжбу по поводу вымогательства подписи и махинаций с наследством, судьи вынесли приговор, который шел вразрез с решением суда первой инстанции, приговор, крайне неблагоприятный для Бомарше, практически разорявший его.
Через несколько лет этот приговор, из‑за которого было израсходовано целое море чернил, будет отменен парламентом Экс‑ан‑Прованса как содержащий ряд правовых несуразиц.
И правда, объявляя недействительным соглашение между Пари‑Дюверне и Бомарше, судьи не предприняли необходимых действий, чтобы установить, вследствие чего возник этот документ: злого умысла, хитрости, насилия или ошибки. Бомарше оказывался виновным в подлоге просто по умолчанию, ни в каких документах это обвинение не фигурировало: адвокаты графа де Лаблаша сочли это слишком рискованным.
Намерение судей, присоединившихся к мнению докладчика, не вызывало никаких сомнений, а сам Гёзман заявил следующее:
«Парламент не рассматривал как таковые обязательства г‑на Пари‑Дюверне, содержащиеся в документе, а, говоря коротко, признал, что текст, расположенный над подписью г‑на Дюверне, был сфабрикован без какого‑либо его участия; так как г‑н Карон не отрицает, что текст этот целиком и полностью написан его рукой, то отсюда следует, что и было признано парламентом, что он и является автором поддельного соглашения».
Это мнение и приговор судей, которые не разбирали факты, а судили человека, преследуемого злым роком и втянутого в тяжбу с могущественным и богатым вельможей, порочило имя Бомарше в глазах общества. К его моральным потерям добавлялись потери материальные.
В связи с тем, что оспариваемое соглашение было объявлено поддельным, нельзя было удовлетворить требования г‑на де Лаблаша, основанные на этом документе, о выплате ему суммы в 139 тысяч ливров, той самой суммы, которая, по уверению Бомарше, уже была возвращена им Пари‑Дюверне. Тогда судьи нашли обходной путь, чтобы услужить Лаблашу: он не имел расписок на всю сумму в 139 тысяч ливров, но в дядюшкиных бумагах обнаружил расписку на 56 тысяч ливров, которую Дюверне по небрежности забыл вернуть своему компаньону. Это долговое обязательство было признано действительным, причем сумма долга была пересчитана с учетом набежавших за многие годы процентов. К этому еще следует прибавить судебные издержки, целиком отнесенные на счет Бомарше. Итак, затевая процесс, он надеялся вернуть свои 15 тысяч ливров, а в результате сам оказался обязанным выплатить более 100 тысяч, этой разницы было достаточно, чтобы из состояния благоденствия ввергнуть его в состояние нищеты.
Поскольку речь шла о суде апелляционном, судьи распорядились немедленно привести приговор в исполнение, что позволило Лаблашу добиться наложения ареста на имущество Бомарше. Многие другие кредиторы Пьера Огюстена, истинные и мнимые, не замедлили воспользоваться этим и также начали требовать свою долю; таким образом, общая сумма предъявленных Бомарше претензий, видимо, и составила те самые 50 тысяч экю, упомянутых им в мемуарах, направленных против Гёзмана.
В результате дом Бомарше на улице Конде был опечатан, а папаша Карон и Жюли изгнаны из него. Узнав о несчастье, постигшем его близких, Бомарше, в чьи обязанности входила забота об отце и сестре, а также содержание племянников, впал в глубочайшую депрессию, о которой мы можем судить по одному из его писем Сартину, отправленному 9 апреля 1773 года, то есть через три дня после вынесения ему приговора парламентом Мопу:
«Мужество изменяет мне. До меня дошли слухи, что все от меня отступились, мой кредит подорван, мои дела рушатся; мое семейство, коему я отец и опора, в отчаянии. Сударь, всю свою жизнь я творил добро, не кичась этим, и неизменно меня рвали на части злобные враги. Если бы вы были знакомы с моим семейством, то увидели бы, что, будучи хорошим сыном, хорошим мужем и полезным гражданином, я всегда пользовался благодарной любовью своих близких, тогда как извне меня постоянно поливали бессовестной клеветой. Неужто месть, которая преследует меня за эту несчастную историю с Шоном, не имеет предела? Уже доказано, что заключение в тюрьму обошлось мне в 100 тысяч франков. Суть, форма – все в этом несправедливом приговоре вызывает содрогание, и мне не удастся поправить ситуацию, пока меня будут держать в этой ужасной тюрьме. У меня достаточно сил, чтобы пережить собственные невзгоды, но я не могу выносить слез моего почтенного семидесятипятилетнего отца, который умирает от горя, видя, в каком унизительном положении я оказался; у меня нет сил выносить страдания моих племянниц, испытывающих ужас перед надвигающейся нуждой, причиной коей стали мое заключение и возникший из‑за него хаос в моих делах. Даже сама деятельная моя натура оборачивается сейчас против меня, мое положение убивает меня, я борюсь с тяжелым недугом, первые признаки коего уже проявляются в бессоннице и отвращении к пище. Смрадный воздух моей камеры разрушает мое подорванное здоровье.
Бомарше».
Не пройдет и года, и впавший в отчаяние человек, написавший это душераздирающее письмо, превратится в самую популярную личность в Европе; он отомстит парламенту Мопу за несправедливый приговор, и месть его будет страшной: после разоблачений Бомарше сей институт прекратит свое существование.
Но борьба, приведшая к удивительному повороту судьбы, не могла начаться немедленно. Еще в течение целого месяца герцог де Лаврильер заставлял упрашивать себя, и лишь 8 марта 1773 года перед Бомарше раскрылись ворота Фор‑Левека и он вступил на путь всемирной славы.
Глава 21СОВЕТНИК ГЁЗМАН ДЕ ТЮРН И ЕГО СУПРУГА (1773)
Находясь в заключении, Бомарше обращался за поддержкой ко многим лицам в надежде исправить свое положение; он просил о помощи г‑жу Дюбарри, обещая взамен любые услуги, какие ей только потребуются, маркизу де ла Круа, обосновавшуюся к тому времени в Париже, и, памятуя о тех милостях, коими осыпали его когда‑то дочери Людовика XV, послал слезное письмо их первой фрейлине, графине де Перигор.
«Едва успели огласить приговор, как на мое имущество в городе и деревне был наложен арест: судебные исполнители, гвардейцы, понятые, карабинеры завладевают моими домами, разворовывают мои запасы; принадлежащие мне здания натуральным образом захватываются, чуть ли не огонь гуляет по моим владениям. Чтобы заставить меня заплатить тридцать тысяч ливров по роковому приговору суда, в результате коего я потерял сто пятьдесят тысяч из‑за недостойной игры судебных исполнителей, именуемой „согласованным судебным преследованием“, на все мои доходы, мебель и дома был наложен арест. Правосудие, наложив свою суровую руку на мое имущество, оцениваемое более чем в триста тысяч экю, заставляет меня ежедневно терпеть ущерб в триста, четыреста, а то и в пятьсот ливров. Такое впечатление, что желание увидеть меня разоренным является единственным чувством, которое движет моим противником. Это чувство так далеко завело его, что возникает опасение, что его пыл нанесет ущерб не только моим интересам, но и его собственным. Каждый день его видели во Дворце правосудия повсюду следующим за судебными исполнителями, словно репей, вцепившийся в собачий хвост, распекающим их и подстрекающим к грабежу; даже его друзья говорили о нем, что он сам становился адвокатом, прокурором и понятым, чтобы доставить мне как можно больше неприятностей.
Оскорбленный, лишенный свободы, потерявший пятьдесят тысяч экю, заключенный в тюрьму, оклеветанный, разоренный, не имеющий больше никаких доходов, без денег, без кредита, знающий, что семья моя находится в отчаянии, что имущество мое подвергается разграблению, не имеющий в тюрьме иной опоры, кроме своих страданий и нищеты, я всего за два месяца из самого блаженного состояния, в коем только может находиться человек, низвергся на самое дно, где одно лишь горе; меня обуревали стыд и жалость к себе».
Несмотря на некоторые преувеличения, это письмо в целом верно отражало действительное положение дел, и вполне возможно, что принцессы, еще не забывшие своего учителя музыки, замолвили за него словечко перед герцогом де Лаврильером, и таким образом, обращение Бомарше к его покровительницам ускорило его освобождение.
Для узника, едва вышедшего из тюрьмы, обреченного довольствоваться случайной крышей над головой, лишенного семейного очага и не имевшего ни гроша в кармане, вновь обретенная свобода не сразу стала залогом многообещающего будущего. Но Бомарше наслаждался этой свободой и, высоко держа голову, не боялся появляться в театрах, кафе, местах общественных гуляний и в тех салонах, где его по‑прежнему принимали; он нашел лекарство для успокоения нервов: остроумно и с блеском пересказывал подробности своих злоключений.
За несколько дней до вынесения приговора Бомарше попытался встретиться с советником, назначенным докладчиком по его делу. Особые обстоятельства, при которых состоялась эта встреча, по мнению проигравшего процесс Бомарше, были достойны того, чтобы сделать их достоянием гласности.
Советник Гётзман де Тюрн, назначенный докладчиком, был ставленником канцлера Мопу. Он родился на берегах Рейна и происходил из мелкопоместных дворян. Много лет он заседал в местном парламенте Эльзаса, но в 1765 году продал свою должность и перебрался в Париж, где собирался сделать карьеру на литературном поприще. По этому случаю он даже изменил свою немецкую фамилию, непривычно звучащую для французского уха, и уже под именем Гёзман, под которым он остался в истории, опубликовал в 1768 году «Трактат по уголовному праву ленных владений». Это произведение было благосклонно принято публикой, поскольку его автор слыл хорошим юристом. К тому времени Гёзман вторично вступил в брак. Он взял в жены женщину гораздо моложе себя, красивую, но амбициозную и жадную до денег. Она быстро поняла, что средств, которые получает ее муж за свои книги, недостаточно для того, чтобы жить в Париже в свое удовольствие.
Эта вторая женитьба не лучшим образом сказалась на репутации советника, и его нравственные принципы уже вызывали большие сомнения, когда, в погоне за деньгами, он согласился за предложенные ему 20 тысяч ливров в год войти в новый парламент, созданный Мопу в начале 1771 года. По мысли канцлера, главным достоинством нового органа должно было стать прекращение практики «подношений» – неофициальных, но традиционных вознаграждений, которые тяжущиеся стороны передавали советникам и судьям, чтобы расположить их к себе.
Эта забота о безупречной репутации чиновников не находила понимания у второй г‑жи Гёзман, однажды она даже имела неосторожность высказаться по этому поводу в присутствии свидетелей: «Совершенно невозможно достойно жить на те деньги, что нам платят, но мы умеем так ощипать курицу, что она даже не успевает пикнуть».
Слова эти были произнесены в лавке книготорговца Леже, особы более чем занятной и не столь непорядочной, как можно было бы предположить по его поступкам. Это имя будет часто всплывать в последние двадцать пять лет монархического правления во Франции. Леже займется изданием и продажей запрещенных в стране книг, среди которых, в частности, будет нашумевшая «Тайная история Берлинского двора», преданная сожжению в начале 1789 года. Автором этого произведения был самый знаменитый клиент Леже – граф де Мирабо. В то время он состоял в любовной связи с г‑жой Леже, вертевшей мужем, как ей вздумается; впоследствии эта дама вышла замуж за Дульсе де Понтекулана, члена Конвента, который в период Реставрации получил звание пэра Франции. Г‑жа Гёзман частенько наведывалась в лавку Леже, главным образом для того, чтобы проверить счета мужа и выпросить у книготорговца немного денег в счет причитавшейся им доли за книги, так как постоянно была на мели.
Видимо, Лаблаш не случайно добился назначения докладчиком именно Гёзмана, и все говорит о том, что благосклонное отношение советника обошлось ему в немалую сумму.
Бомарше не был знаком с Гёзманом и не знал, как к нему подступиться; наудачу он поехал к нему домой, но принят не был. Он трижды повторил свою попытку, но без результата. Уже перед самым возвращением на ночь в камеру в Фор‑Левеке Бомарше заглянул к своей сестре Лепин, «чтобы посоветоваться с ней и немного прийти в себя». У Фаншон Лепин он застал ее постояльца Бертрана д’Эроля, провансальца, который занимался торговлей анчоусами в Марселе и ростовщичеством в Париже, где имел собственную лавку. Выслушав жалобы Бомарше, он неожиданно выступил в роли спасителя: сам д’Эроль не был знаком с Гёзманом, но знал, что один из его друзей, книготорговец Леже, поддерживал отношения с супругой судьи. Бертран д'Эроль взялся быть посредником в этом деле и вскоре принес ответ: Бомарше будет принят Гёзманом, если согласится заплатить супруге советника 200 луидоров. Для Бомарше теперь это была огромная сумма. Обращаться в банк он опасался – перемещение денег по распоряжению человека, находящегося в тюрьме, могло вызвать подозрения. Начали с просьбы о снижении суммы: Бомарше готов был заплатить сто луидоров, Фаншон считала, что достаточно и пятидесяти. Г‑жа Гёзман отказалась торговаться и потребовала первые сто луидоров немедленно. Деньги ссудил Бомарше его друг принц де Конти.
В результате Бомарше был принят советником Гёзманом в его апартаментах на набережной Сен‑Поль. Хозяин дома оказался бородачом с кабаньей головой, он заметно косил, одно его плечо было сильно выдвинуто вперед, а рот подергивался от тика, кривившего губы в неприятной улыбке. Без особой приязни он выслушал посетителя и высказал несколько замечаний о его деле, показавших, что он весьма поверхностно знаком с досье, но не собирается менять своего мнения; на этом аудиенция и закончилась.
Обеспокоенный таким развитием событий, Бомарше решил письменно изложить свою позицию и через Бертрана д’Эроля и Леже отправил советнику мемуар; эмиссары были приняты г‑жой Гёзман, которая попросила передать Бомарше, что ее супруг не даст ему новой аудиенции, если не будут уплачены оставшиеся сто луидоров. Дело происходило в субботу вечером, а слушания были назначены на утро понедельника. В воскресенье, когда все банки закрыты, трудно было раздобыть необходимую сумму, поэтому вместо денег советнице предложили взять часы, украшенные бриллиантами, стоили они как раз сто луидоров. Г‑жа Гёзман согласилась на замену, но выдвинула дополнительное условие: Бомарше должен добавить еще пятнадцать луидоров для секретаря советника. Это новое требование показалось Бомарше довольно странным, поскольку секретарю уже было заплачено десять луидоров, причем пришлось долго уговаривать его взять эти деньги. Так как время поджимало, Пьер Огюстен согласился и на это условие; он явился к Гёзманам в сопровождении Бертрана д’Эроля и Леже; часы и пятнадцать луидоров были переданы супруге советника. Приближаясь к дому Гёзманов, Бомарше заметил в окне мелькнувшую за занавеской тень хозяина, но когда он попросил проводить его к советнику, г‑жа Гёзман ответила, что мужа сейчас нет дома, и пообещала, что тот примет Бомарше в понедельник утром, а если встреча не состоится, то она вернет часы и сто луидоров, но пятнадцать луидоров так и останутся у секретаря.
«Все кончено! Процесс я проиграл», – сказал Бомарше своим спутникам.
Его друг г‑н де ла Шатеньре, конюший королевы, навестил Гёзмана и нашел того сильно предубежденным против Бомарше, все же ему удалось убедить советника дать просителю еще одну аудиенцию. В понедельник утром Шатеньре лично проводил Бомарше на набережную Сен‑Поль. Привратница отказалась впустить посетителей, но за два экю согласилась отнести хозяину записку на трех страницах, которую Бомарше в спешке тут же в привратницкой и составил. Позже, при изучении журнала регистрации посетителей, было обнаружено, что граф де Лаблаш провел у Гёзманов часть воскресного дня.
Как нам уже известно, на следующий день Бомарше узнал, что проиграл процесс. Г‑жа Гёзман, как и обещала, вернула ему часы и сто луидоров, но оставила те пятнадцать луидоров, что, по ее словам, предназначались секретарю.
Когда Бомарше покидал стены Фор‑Левека, ему предъявили счет за пребывание в тюрьме. Чтобы оплатить его, он опустошил весь свой кошелек, но ему все равно не хватило двенадцати луидоров. Его сестра Лепин ссудила ему недостающую сумму, а Пьер Огюстен вдруг подумал, что для возвращения этого долга сестре ему весьма бы пригодились те самые пятнадцать луидоров, что присвоила себе г‑жа Гёзман. Он решил востребовать эту сумму и рискнул написать г‑же советнице следующее письмо:
«Не имея чести, сударыня, быть вам представленным, я не посмел бы вас тревожить, если б после того, как я проиграл процесс, а вы соблаговолили вернуть мне два свертка луидоров и часы с репетицией, украшенные бриллиантами, мне также передали бы от вас и те пятнадцать луидоров, кои наш общий друг, ведший с вами переговоры, оставил вам в качестве надбавки.
Ваш супруг, сударыня, столь чудовищно представил меня в своем докладе, что было бы несправедливо присовокуплять к тем огромным потерям, в которые обошелся мне этот доклад, еще и потерю пятнадцати луидоров, удивительным образом затерявшихся в ваших руках. Если за несправедливость нужно платить, то уж во всяком случае не человеку, который так жестоко пострадал от нее»[7].
Для человека, только что получившего обвинительный приговор, это был смелый шаг, поскольку он мог стать поводом для подачи жалобы о попытке подкупа должностного лица. Г‑жа Гёзман, видимо, сказавшая мужу не всю правду, решила прикинуться дурочкой: она пригласила к себе Леже и, сделав вид, будто думает, что у нее опять требуют все те же часы и сто луидоров, начала громко кричать, что она уже все вернула, и пригрозила книготорговцу погубить его, призвав на помощь своего покровителя герцога д’Эгийона. Перепуганный Леже бросился к г‑же Лепин и закатил ей сцену, а та в ответ подтвердила, что г‑жа Гёзман вернула все, кроме пятнадцати луидоров. Когда Леже вновь явился к советнице за этими деньгами, та его не приняла. Дело могло бы на том и закончиться; ведь это был пусть досадный, но пустяк, не представлявший никакой важности; супруге советника следовало бы вернуть эти пятнадцать луидоров, но она их, видимо, уже потратила и не хотела, чтобы правда стала известна мужу. Но тот все же узнал об этой истории, поскольку Бомарше всюду ее рассказывал, и всегда находились желающие ее послушать хотя бы потому, что она компрометировала одного из членов того самого парламента Мопу, который все ненавидели.
27 мая 1773 года советник Гёзман обедал у одного высокопоставленного чиновника, который посоветовал ему выяснить у жены подробности этого дела, поскольку слухи о нем бросали тень на весь судейский корпус. Неизвестно, как происходило объяснение между супругами. Скорее всего, часы и сто луидоров были получены советницей с согласия мужа, а вот пятнадцать луидоров она присвоила втайне от него.
Будучи опытным юристом, Гёзман сразу же оценил всю серьезность положения, но хитрости ему было не занимать, и он был готов на все, чтобы выйти сухим из воды. Он немедленно послал за Леже и продиктовал ему письмо, в котором тот признавался, что принес г‑же Гёзман подарки от Бомарше, но та «с достоинством и возмущением» отказалась их принять. Как только Леже поставил свою подпись под этим лжесвидетельством, г‑жа Гёзман выхватила у него из‑под руки бумагу, приказала подать карету, затолкала в нее книготорговца и повезла его к Сартину. По дороге Леже наивно сказал советнице:
«Как хорошо, что ваш муж ничего не сказал об этих пятнадцати луидорах. Я не смог бы подтвердить, что вернул их, ведь они все еще находятся у вас».
«Не вздумайте даже заикаться об этих пятнадцати луидорах, болван. Поскольку было оговорено, что я не должна их возвращать, можно утверждать, что я и не получала их».
Г‑жу Гёзман и Леже проводили к Сартину. Введенный в курс дела начальник полиции мудро заметил:
«На вашем месте, сударыня, я бы оставил все как есть. Зловредные слухи, не имея под собой почвы, затихнут сами собой».
Вместо того, чтобы внять совету Сартина, г‑жа Гёзман продолжала настаивать на своем и выказала готовность подать жалобу на Бомарше, якобы пытавшегося подкупить ее; она надеялась, что за жалобой немедленно последует выдача «летр де каше» и Бомарше вновь будет препровожден в тюрьму за клевету. Надежда эта оказалась тщетной. Тогда советник Гёзман сам отправился к Сартину; не добившись от него желаемого, он явился к герцогу де Лаврильеру и осмелился заявить тому, что Бомарше вначале пытался его подкупить, а теперь клевещет на него. Поскольку и здесь его ходатайство не нашло удовлетворения, Гёзман направил начальнику полиции следующее письмо:
«Я умоляю вас наказать виновного, поскольку оскорбление, нанесенное моей жене, метит в меня, для меня это совершенно очевидно. Прошу вас уведомить меня завтра о принятом решении и рассчитывать на мою вечную преданность».
Предупрежденный о предпринятых против него действиях, Бомарше также написал Сартину:
«Если г‑н Гёзман считает, что у него есть повод жаловаться на меня, пусть подаст на меня в суд. Я надеюсь, что г‑н министр сохранит нейтралитет по отношению к нам обоим. Я не собираюсь ни на кого нападать, но предупреждаю, что буду открыто защищаться против любых обвинений».
Это было довольно рискованное заявление, но Бомарше, уже почувствовавший, что общественное мнение склоняется на его сторону, начал поднимать голову; он взвесил все «за» и «против»: вновь бросив его в тюрьму, парламент тем самым продемонстрировал страх перед ним. Его нынешнее дело нельзя было решить полицейскими методами. Если советник Гёзман захочет добиться от него удовлетворения, то ему придется подать на Бомарше в суд. Правительство продолжало упорствовать и не выдавало ордера на арест Пьера Огюстена. Усмотрев в этом своего рода поддержку, Бомарше с новой силой принялся поносить советника и его супругу. Скандал разгорался, а пятнадцать луидоров, присвоенных г‑жой Гёзман, стали самой популярной темой для разговоров.
Советник, осознав шаткость своего положения, решил подтасовать ранее состряпанные факты. Он вновь призвал к себе Леже, чтобы получить от него еще одно письменное заявление, из которого следовало, что никакого эпизода с пятнадцатью луидорами не было, а было лишь факт «отказа от подарков».
Гёзман попросил Леже написать на обороте первого заявления следующий текст:
«Я заявляю, что возвратил часы и драгоценности. И если Бомарше осмелится утверждать, что из свертков с монетами было что‑то изъято для секретарей или еще кого‑то, я заявлю, что он лгун и клеветник.
Подпись: Леже».
Леже, хоть и занимался книгоиздательством, был не в ладах с орфографией. В слове «подпись» он сделал ошибку, которая позже позволила доказать, что это заявление было составлено под диктовку. В спешке Гёзман не стал перечитывать написанное на обороте. В результате документ, с помощью которого он рассчитывал скомпрометировать Бомарше, скомпрометировал его самого.
Чтобы еще больше укрепить свои позиции, попавший в затруднительное положение советник обратился за помощью к другу Леже журналисту Бакюлару д’Арно, бывшему любовнику г‑жи Дени, племянницы Вольтера. Этот субъект в то время с кем‑то судился и нуждался в поддержке судейского чиновника. Он согласился, в целях «борьбы с ложью и ради победы над ней», написать, что Леже будто бы рассказал ему о том, что г‑жа Гёзман с возмущением отказалась от предложенного ей подарка.
Скорее всего, советник и ограничился бы столь сомнительными свидетельствами в свою защиту и попросил индульгенцию у своих коллег, но парламент, оскорбленный распространяемыми слухами, отрядил к Гёзману двух своих членов, которые передали ему требование палаты подать официальную жалобу. Гёзман вынужден был подчиниться, но заранее возложил на парламент всю ответственность за последствия этого шага.
21 июня 1773 года генеральный прокурор возбудил дело по факту жалобы о подкупе судьи, а советник Доэ де Комбо, назначенный докладчиком по этому делу, начал предварительное расследование.
Дело приобретало серьезный оборот: из гражданского оно перешло в разряд уголовных, и в случае проигрыша Бомарше мог оказаться на каторге.
Глава 22ПЯТНАДЦАТЬ ЛУИДОРОВ ПРОТИВ ЛЮДОВИКА XV (1773–1774)
Бомарше без колебаний включился в игру, которая могла стоить ему свободы и даже жизни, поскольку видел в этом единственную возможность восстановить свою честь и вернуть состояние.
Отсидев в тюрьме и выйдя на свободу, он решил в одиночку вести борьбу с парламентом, созданным двумя годами ранее по воле короля, который надеялся, что честь каждого члена суда будет гарантировать честность всего нового судейского корпуса. Из‑за неравенства сил, неравенство шансов на победу было столь очевидным, что ни один здравомыслящий адвокат не рискнул выступить в защиту Бомарше; он сражался один, опираясь лишь на всевозрастающую поддержку общественного мнения.
По правде говоря, королевское правительство не желало этого процесса и даже пыталось замять его, использовав в качестве неофициального посредника журналиста Марена, того самого Марена, который был цензором первых пьес Бомарше и который дал разрешение, с некоторыми оговорками, на репетиции «Севильского цирюльника». Марен занимал пост редактора «Газетт де Франс», и в 1770 году Вольтер, с одобрением относившийся к его деятельности, выдвинул его кандидатуру во Французскую академию. Будучи человеком весьма заурядного ума, занимающим более высокую должность, чем он того заслуживал, Марен завидовал талантливому Бомарше и сразу же переметнулся в стан его врагов, как только предпринятая им попытка примирения провалилась.
Вообще говоря, примирение было невыгодно Бомарше, ведь если бы оно состоялось, то не принесло бы ему никакой пользы: он так и остался бы осужденным, лишенным состояния, с клеймом обвинения в подделке документа. А борьба давала ему надежду на перемены в судьбе. Так что его позиция нам понятна:
«Г‑н Гёзман причинил мне столько зла, сколько было в его силах, – сказал он Марену. – Я не боюсь его угроз, но пусть он оставит меня в покое».
А г‑ну де Николаи, бывшему драгунскому полковнику, назначенному Людовиком XV первым председателем парламента Мопу, он осмелился заявить:
«Пусть мои враги нападут на меня, если у них хватит смелости! И тогда я заговорю».
Судьям бы прислушаться к этому предупреждению, но они, несмотря ни на что, больше доверяли одному из своих коллег, чем Бомарше. Во время Великой французской революции вскрылось, что два советника, привлеченных к расследованию, некто Жен и Но де Сен‑Марк, получили дополнительное вознаграждение за попытку спасти репутацию Гёзмана. Это было зафиксировано в Красной книге пенсий. Тем временем угрозы Бомарше, сообщавшего каждому, кто желал его слушать, что лжесвидетельства, выдвинутые против него, обернутся против их автора, взволновали книготорговца Леже. Он обратился за советом к известному адвокату мэтру Жербье и во всем тому признался. Жербье был противником парламента Мопу и честнейшим человеком, он посоветовал своему клиенту открыть всю правду. Леже бросился к Гёзману: советник пришел в ужас от поступка книготорговца и пригрозил, что привлечет его к судебной ответственности, если тот откажется от своих прежних показаний.
Леже поделился своими проблемами с женой, эта женщина обладала железным характером, который и позволил ей спустя пятнадцать лет после описываемых событий вырвать Мирабо из объятий г‑жи де Нера. Мадам Леже без колебаний бросилась на защиту мужа и потребовала очной ставки с г‑жой Гёзман в канцелярии суда, чтобы предать гласности то, что сказала ей советница: «Я жалею только о том, что не оставила у себя также часы и сто луидоров; сегодня от этого никому не было бы ни лучше, ни хуже». А когда Леже запротестовал против ложной присяги, которую его заставляли принести, г‑жа Гёзман цинично заявила:
«Мы смело будем все отрицать, а назавтра закажем мессу в церкви Святого Духа, и все будет в порядке».
В канцелярию суда вместо жены вызвали самого Леже, и тот, как и наставляла его дражайшая половина, выложил всю правду. Его рассказ был засвидетельствован Бертраном д’Эролем. Леже тотчас же взяли под стражу, а Бомарше и Бертран превратились в обвиняемых. Г‑жа Гёзман была объявлена свидетельницей по этому делу, но супруг ее, дабы не допустить показаний жены в суде, добился королевского указа о ее заточении в монастырь.