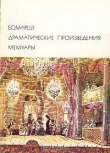Текст книги "Бомарше(Beaumarchais) "
Автор книги: Рене де Кастр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
«Ссоры, в которых вся вина лежит лишь на одной стороне, никогда не длятся долго», – справедливо заметил Ларошфуко. Зная, что представляли собой Лаблаш и Бомарше, можно оценить всю глубину этого изречения. Из‑за ничтожных пятнадцати тысяч ливров ненависть обоих достигла такого накала, что в один прекрасный день Бомарше, пусть и на короткое время, оказался обесчещенным и разоренным.
После полугода переговоров через посредников и несчетного числа писем, оставленных без ответа, всего через несколько дней после смерти второй жены Бомарше получил наконец следующее послание:
«Париж, г‑ну де Бомарше.
…Несмотря на то что я отнюдь не считаю себя обязанным подчиняться вашему давлению и знакомиться с имеющимся у вас долговым обязательством, к чему вы уже давно вынуждаете меня, сегодня вечером я нанесу визит вашему нотариусу, чтобы ознакомиться с содержанием этого документа; ежели вы думаете, что к моему стремлению избежать скучных и утомительных объяснений примешивается страх встречи с вами, на то ваша воля, я не собираюсь разубеждать вас в этом, как и в том, что касается разъяснений, которые я могу получить от вас и на которые вы напрасно рассчитываете; не желающему ничего получить проще простого ничего не требовать. Я, сударь, имею достаточное представление о том, как действуют в подобных случаях, и вполне могу обойтись без ваших поучений. Остаюсь вашим покорным и преданным слугой.
Лаблаш».
В тот же вечер они встретились у нотариуса Бомарше, мэтра Момме. Граф де Лаблаш бросил полный презрения взгляд на предъявленный ему Пьером Огюстеном экземпляр его соглашения с Пари‑Дюверне и проронил:
«Эта подпись не моего дядюшки, я считаю, что этот документ фальшивка».
Далее последовали угрозы, а затем граф де Лаблаш покинул дом нотариуса. Стало ясно, что мирным путем им не договориться, значит, придется обращаться в суд. Мы вполне можем допустить, что Бомарше, еще находившийся под впечатлением от тяжбы по поводу Шинонского леса, не имел никакого желания ввязываться в новый судебный процесс. Он предложил подвергнуть экспертизе подпись Пари‑Дюверне и обратился к его бывшим поверенным в делах. Те подтвердили подлинность подписи. Новая встреча заинтересованных сторон, состоявшаяся в присутствии их нотариусов – мэтра Момме и мэтра Ледюка, – закончилась с тем же результатом, что и первая. Лаблаш продолжал настаивать на том, что документ фальшивый, а Бомарше пробормотал себе под нос:
«Этот человек сумасшедший! Он хочет погубить меня, но нужно, чтобы погубил его я».
Лаблаш призвал на помощь своего адвоката – мэтра Кайяра, Бомарше отправился за советом к своему – мэтру Мальбету. Тот стал убеждать его отказаться от этих 15 тысяч ливров: ради столь незначительной суммы не стоило затевать дорогостоящий и скандальный судебный процесс. Бомарше считал, что его отказ от своих требований будет расценен как признание им своей вины. Кроме того, он узнал от Пари де Мейзьё, что Лаблаш, принявший решение судиться, сказал о нем:
«Если он когда‑нибудь и получит свои 15 000 ливров, то случится это лет через десять, а за это время я успею погубить его репутацию».
Несмотря на риск, нужно было принимать вызов. Трудно сохранить душевное равновесие, когда узнаешь, на какую низость может пойти адвокат, чтобы опорочить своего противника. Весьма показательны в этом смысле мемуары мэтра Кайяра: предъявить Бомарше обвинение в изготовлении и использовании поддельного документа значило обвинить его в уголовном преступлении, а это, в случае провала, было чревато крупными неприятностями. Лаблаш и Кайяр решили из осторожности ограничиться требованием аннулировать соглашение Бомарше с Пари‑Дюверне на том основании, что сам по себе этот документ являлся свидетельством обмана и мошенничества. Таким образом Бомарше мог быть объявлен обманщиком без прямого обвинения в подделке документа. Дело было состряпано столь ловко, что друзья Пьера Огюстена сразу же почувствовали грозившую ему опасность:
«Бомарше либо получит деньги, либо петлю на шею», – сказал принц де Конти, ставший одним из его самых горячих сторонников.
«Но если я выиграю этот процесс, то не придется ли моему противнику столь же добросердечнорасплатиться своей жизнью?» – парировал Бомарше.
Софи Арну, известная своим острым языком, подытожила:
«Если Бомарше повесят, его веревка непременно лопнет!»
Этот судебный процесс привлек внимание общественности. Будучи членом королевского суда, Бомарше имел право на committimus,то есть власть обычных судебных инстанций на него не распространялась, а сам он мог подать жалобу на Лаблаша в особую инстанцию – Рекетмейстерскую палату, заседавшую в Лувре в зале, соседнем с тем, где вершил суд он сам. Так вот, жалобу он подал и перешел в контрнаступление, потребовав в судебном порядке возвращения ему долга Пари‑Дюверне.
Следствие затянулось на долгие месяцы и, как бывает в подобных случаях, стало поводом для сплетен и клеветы. В наши дни эта клевета, как правило, циркулирует в узком кругу поверенных в делах и адвокатов заинтересованных сторон и не попадает в прессу. В современную Бомарше эпоху мемуары тяжущихся порой печатались в тысячах экземпляров и становились достоянием широкой публики, посвящая ее во все перипетии дела.
Приемы мэтра Кайяра отличались редкостной непорядочностью. Начал он с того, что обвинил Бомарше в использовании старого бланка с подписью Пари‑Дюверне и объявил их соглашение фальшивкой. После того, как это подозрение было отвергнуто, адвокат попытался опротестовать текст самого соглашения: он утверждал, что фигурировавшие в нем 139 тысяч ливров, которые, согласно записям, были возвращены Пьером Огюстеном его компаньону, на самом деле остались невыплаченными; таким образом, выходило, что не Лаблаш должен Бомарше 15 тысяч, а Бомарше Лаблашу 139 тысяч. Возврат такой суммы вконец бы разорил истца. С помощью подобного рода измышлений мэтр Кайяр в своем мемуаре представил Бомарше человеком, погрязшем в пороке, выставленным из дома отцом за воровство и распутное поведение, изгнанным из Испании за то, что вымогал деньги у высокопоставленного чиновника и грозился лишить его жизни, а также виновным в смерти двух жен, погубленных им исключительно ради получения после них наследства. Каторга, кандалы, виселица, колесование – все это было слишком мягким наказанием для подобного злодея.
Шлейф клеветы может тянуться за человеком сколь угодно долго, провоцируя все новые неприятности, именно поэтому ее используют так охотно. В случае с Бомарше первым следствием такой клеветы стало наступление на него Обертенов; они припомнили ему, что он вынудил тещу подписать выгодный для него документ, и потребовали пересмотра дела и возмещения убытков; в результате было начато дополнительное расследование, очень осложнившее положение Бомарше.
Тогда Пьер Огюстен вспомнил о своих высоких покровителях при королевском дворе: он обратился к дочерям Людовика XV с просьбой поддержать своего бывшего учителя музыки и выступить гарантами его честности. 12 февраля 1772 года он получил из Версаля следующее письмо:
«Я рассказала, сударь, о вашем письме принцессе Виктории, которая заверила меня, что она никогда и никому не говорила ни единого слова, способного опорочить вашу репутацию, поскольку ей ничего подобного о вас не известно. Она поручила мне сообщить это вам. Принцесса даже добавила. что она осведомлена о вашем процессе, но что ее высказывания по вашему поводу ни при каких обстоятельствах и, в частности, на этом процессе не могут быть использованы вам во вред, так что вы можете быть спокойны на сей счет.
Я рада, что этот повод… и т. д. и т. п.
Графиня де Перигор».
Это письмо опровергало измышления де Лаблаша о том, что Бомарше был отлучен от двора по инициативе принцесс за неблаговидное поведение. Письма графини было вполне достаточно, чтобы убедить судей в порядочности Бомарше, но Пьеру Огюстену показалось недостаточным просто показать его им, он решил сполна насладиться своей победой и включил письмо в текст своего мемуара, рассчитанного на широкую публику. В нем он писал, что, поскольку граф де Лаблаш пытался оспорить столь дорогое для него покровительство, которое ему всегда оказывали их высочества,он получил разрешение опубликовать опровержение. И далее он пересказывал содержание письма графини де Перигор, предварив его собственным комментарием, что было весьма опрометчиво и безрассудно, поскольку в этом комментарии он самонадеянно приписал графине то, что она вовсе и не имела в виду.
Будучи богатым и влиятельным вельможей, Лаблаш был при дворе своим человеком. Он направился прямо к принцессам и пожаловался им на Бомарше, имевшего дерзость заявить, что они заинтересованы в его победе в этом процессе. Разумеется, так далеко Бомарше не заходил, но содержание письма графини он действительно исказил. Разгневанные принцессы под давлением Лаблаша написали следующее опровержение:
«Мы заявляем, что г‑н Карон де Бомарше и его процесс нас нисколько не интересуют и что мы не дозволяли ему включать в его мемуар, который он напечатал и публично распространил, уверения в нашем покровительстве.
Мария Аделаида, Виктория Луиза, София Филиппина, Елизавета Жюстина.
Версаль, 15 февраля 1772 года».
Лаблаш сразу же приказал распечатать эту записку в тридцати экземплярах и разослал ее судьям Рекетмейстерской палаты, чтобы лишить Бомарше их благосклонности, которой он до того момента пользовался.
Но судьи уже были знакомы с письмом графини де Перигор и приняли решение в пользу Бомарше, правда, вовсе не потому, что были полностью уверены в его искренности, а просто потому, что он был одним из них. Удовлетворение требований графа де Лаблаша было равносильно признанию того, что один из их коллег способен на подделку подписи или документа, а это могло бросить тень на весь судейский корпус. Но чтобы не обидеть Лаблаша, они использовали уловку, характерную для судейской науки: они отказали в иске графу де Лаблашу, признав соглашение между Бомарше и Пари‑Дюверне действительным, но при этом не дали санкции на его исполнение. Чтобы получить эту санкцию, необходимо было вновь обращаться в суд, и судьи надеялись, что Бомарше, уже скомпрометировавший себя в глазах принцесс и не осмелившийся даже опубликовать письмо графини де Перигор, не решится на это. Если бы события развивались по такому сценарию, то этот процесс закончился бы для Бомарше примерно так же, как процесс по Шинонскому лесу. У Понтия Пилата всегда было много достойных последователей.
Но Бомарше, полный решимости добиться своего и считавший, что суд дал ему на то законное основание, не сложил оружия и подал очередной иск с целью немедленно получить долг по его соглашению с Пари‑Дюверне.
Адвокаты графа де Лаблаша вновь прибегли к хитрости: они не явились на судебное заседание, что позволило суду вынести приговор не в их пользу, после чего они сразу же подали апелляцию, приостановив тем самым приведение приговора в исполнение.
Надо заметить, что они выбрали довольно своеобразный момент для своих игр с судебной системой, поскольку решение по их делу должен был принимать недавно сформированный орган, которому необходимо было зарекомендовать себя в глазах общественности с самой лучшей стороны. Дело в том, что годом ранее, 20 января 1771 года, Людовик XV распустил старые парламенты и отстранил от должности всех судей, которые отказались подписывать его эдикт; таким образом король избавился от неугодных ему людей, вернув им те деньги, что они когда‑то заплатили за свои должности. Вместо прежних судов, имевших право налагать вето на королевские указы и препятствовавших разгулу тирании, стареющий король, у которого общение с юной фавориткой возродило боевой дух, учредил новый орган – пресловутый парламент Мопу, где судьи были назначенными (в отличие от тех, кто купил себе должности) и теоретически должны были бескорыстно вершить справедливый суд. Так вот дело Лаблаша и Бомарше должно было стать проверкой беспристрастности парламента Мопу, ведь судьям нужно было сделать выбор между богатым и влиятельным вельможей и человеком, по случаю приобретшим дворянское звание и более известным своими памфлетами, нежели древностью рода, чьи дела казались еще более сомнительными из‑за того, что принцессы публично отреклись от него, что потоки клеветы грозили смыть его с лица земли, а семья первой жены обвиняла его во всех смертных грехах. Да и сам граф де Лаблаш не собирался складывать оружие: он заявлял, что готов, ежели понадобится, биться десять лет, лишь бы Бомарше никогда не получил своих 15 тысяч ливров, а если они все‑таки достанутся ему, то пусть все уйдут на покрытие судебных расходов.
А чем же занимался Бомарше, пытаясь забыть свое горе, пока бушевала эта буря, которая марала его репутацию, истощала его кошелек, подрывала его кредитоспособность и отравляла каждое мгновение его жизни? Так вот, зная, что любое дело во Франции заканчивается песнями, он сочинял музыку и либретто для комической оперы, действие которой разворачивалось в Испании, и главным героем которой был цирюльник по имени Фигаро.
Глава 18ГЕНЕЗИС «СЕВИЛЬСКОГО ЦИРЮЛЬНИКА» (1771–1772)
Судебный процесс сродни военным действиям и театральному представлению одновременно, а во время спектакля, как и во время боя, самыми долгими обычно оказываются антракты или перерывы, и нельзя позволить скуке заполнить их.
Первый судебный процесс против графа де Лаблаша поначалу казался весьма незначительным делом, затеянным ради того, чтобы вернуть 15 тысяч ливров, долг, от которого, возможно, разумнее было бы отказаться ради спокойствия обеих сторон. Коварные уловки мэтра Кайяра вскоре придали этому процессу совсем иную окраску: Бомарше оказался под подозрением в подделке документа, что заставило его перейти к активной защите. Эта защита, растянувшаяся на два года, хотя и отнимала у него массу сил и энергии, но не требовала много времени. У Пьера Огюстена его оставалось более чем достаточно, и его чем‑то нужно было заполнять.
Находясь под следствием, Бомарше не имел никакой возможности возобновить финансовую деятельность, поэтому было совершенно естественным, что он обратился к литературе, а точнее – к драматургии. В данном случае он выступал не только в роли человека, жаждущего славы, но и в роли писателя, оказавшегося на мели и надеявшегося поправить свое финансовое положение с помощью доходов, которые ему могли принести его авторские права. Это подтверждает письмо, отправленное им 22 декабря 1771 года актеру‑пайщику «Театр Франсе» Добервалю:
«Прошу вас, сударь, передать всем актерам „Комеди Франсез“ мою искреннюю благодарность за то, что они хотят время от времени включать в свой репертуар „Евгению“, мою старшую дочь, и особую благодарность тем, кто занят в этой пьесе, за рвение, с коим они стараются представить в самом выгодном свете роли, которые они взялись исполнять. Нет ни одного слабого произведения, которое талантливые исполнители не смогли бы сыграть так, чтобы оно понравилось публике. По этому поводу хочу заметить, что множество людей убеждено в том, что, если бы господа актеры „Комеди Франсез“ попробовали поставить „Двух друзей“, пьесу, которая ни в одном театре Европы не имела и тени успеха „Евгении“, то, коль скоро досадное впечатление, в какой‑то момент погубившее интерес к ней, уже давно рассеялось, эта пьеса могла бы занять в общественном мнении то же место, кое „Комеди Франсез“ заранее отвел бы ей в своем. Такая поддержка была бы совсем не лишней для человека, который отдал этой пьесе все свое свободное время, но чей весьма посредственный талант оказался почти погребенным под грузом противоречий самого разного толка».
Ах, как же дороги были ему его «Два друга», и как в глубине души он верил в свой незаурядный литературный талант! Но, рассыпая комплименты актерам «Комеди Франсез», он уже думал о новом театральном эксперименте, он собирался заставить всех их петь и, выступая одновременно в роли композитора и драматурга, уже начал работать в этом направлении при помощи Жюли и дружеской поддержки Гюдена.
Когда речь заходит о театре Бомарше, на ум первым делом приходят две вещи: смешная шутка и Испания. Между тем влияние испанской театральной традиции на драматургическую концепцию Бомарше было весьма незначительным. Путешествуя по Испании, он писал 24 декабря 1764 года из Мадрида герцогу де Лавальеру:
«Испанский театр по меньшей мере лет на двести отстал от нашего и в смысле благопристойности, и в смысле игры актеров: им больше к лицу играть в пьесах Арди и его современников. Зато музыку их можно поставить на второе место, сразу после прекрасной итальянской, мы им в этом уступаем. В ней есть и подлинная страсть, и веселые интермедии, которыми перемежаются скучные действия их пошлых пьес и которые очень часто вознаграждают нас за скуку, этими пьесами навеваемую. Они называют их tonadilles или saynetes. Танцевать здесь совершенно не умеют, я имею в виду балет, потому что не могу назвать этим словом смешные и зачастую даже непристойные телодвижения в гренадских или мавританских танцах, которые так нравятся народу».
Итак, ясно, что испанский театр казался Бомарше таким же устаревшим, как и французская классическая трагедия: он говорил, что муки совести греков или римлян волновали его гораздо меньше, чем сердечные терзания или материальные затруднения его современников. А что касается испанских танцев, то для Бомарше все они стояли на одном уровне с танцем живота, обычно исполнявшимся одалисками и рабынями с Востока и из Северной Африки.
Больше всего в мадридских театральных представлениях ему понравилось то, что, хотя они и не имели непосредственного отношения к опере, в них было много музыки. Он взял это на вооружение и решил попробовать себя в музыкальной комедии и комической опере. Критики так часто повторяли, что ему не стоит браться за трагедии, а нужно сочинять комедии, что он не мог не прислушаться к их мнению: первые опыты с парадами показали ему истинное его предназначение, в этих коротеньких пьесках он уже сполна раскрыл свой талант комедиографа. Итак, Бомарше решил испытать себя на новом поприще, создав произведение, в котором актеры, как в испанском театре, должны были в основном петь. Но это было единственным, что Пьер Огюстен позаимствовал у испанцев для своей пьесы, из которой вырос тот самый «Севильский цирюльник», что продолжает восхищать нас и два века спустя после своего рождения. И если действие этой пьесы, такой французской по духу, происходит в Севилье, то лишь потому, что автор хотел таким образом избежать придирок цензуры к тем вольностям, что он позволил себе в этом произведении. Бомарше помнил, что «Евгения» смогла пробиться на сцену только после того, как он перенес действие пьесы из Франции в Англию; выбирая Испанию, он как бы опережал события, принимая заранее необходимые меры предосторожности.
Литературоведы провели все мыслимые исследования по выявлению источников «Севильского цирюльника», и ни разу они не приводили их в Испанию, зато постоянно – к французским парадам. Похоже, что сюжет этой пьесы был почерпнут из произведений некого французского судейского чиновника по имени Тома Симеон Гёлетт (1683–1766), с которым Бомарше, вероятно, был знаком лично. Автор бесчисленного множества пьесок и парадов, а также романа о Средневековье под названием «История маленького Жана де Сентре», в котором критики разглядели прототип Керубино, Гёлетт стал зачинателем театра легкого жанра, окончательно оформившегося в произведениях Бомарше.
Сюжет популярной в свое время пьесы Гёлетта «Модное лекарство», которую он поставил на сцене любительского театра в Шуази, был весьма схож с фабулой «Севильского цирюльника». Этот, можно сказать, классический сюжет, использованный и в «Школе жен», и в «Школе мужей», в основе которого лежали злоключения влюбленного старика, оставленного в дураках молодым соперником, был обновлен с помощью приемов итальянской и испанской комедии, имевших в своем арсенале переодевания, пародии и куплеты. В то время как Арнольф был просто тупицей, Кассандр – одураченный старик у Гёлетта – обладал некоторой долей того оскорбленного достоинства, что спасало Бартоло от превращения в полное посмешище. В «Модном лекарстве» в лице Жиля мы уже видим прототип двуличного и лживого Базиля, мастера клеветы. Но слугой, в будущем превратившимся в Фигаро, пока еще оставался итальянец Арлекин. Один из парадов, поставленных в свое время в Этьоле, был, на наш взгляд, одновременно и кратким изложением «Модного лекарства» и наброском «Севильского цирюльника».
Обманутый старик уже звался в нем Бартоло и очень походил на Гратьяно Балоардо, ставшего с середины XVI века героем комедии дель арте. Арлекин пока сохранил свое имя, но по профессии теперь был цирюльником. Красавец Леандр превратился в графа, приблизившись тем самым к благородному Альмавиве. Изабелла, или Цирцабелла итальянских парадов, поменяла свое слишком броское имя на имя Полина, и этот выбор легко объясним, ведь именно так звали мадемуазель Ле Бретон. В настоящем «Цирюльнике» Полина превратится в Розину.
Среди бумаг Бомарше Лентилак обнаружил несколько фрагментов, оставшихся от первых вариантов «Севильского цирюльника», и тщательное изучение этих уникальных документов подтвердило предположения. От первоначального «Севильского цирюльника», называвшегося тогда просто «Тщетная предосторожность», до нас дошли несколько куплетов:
Словно настоящий монах
Из монастыря Сент‑Антуан,
Ничего не имея за душой.
Будем радоваться жизни;
Потихоньку
Ранним‑ранним утром
К моей Розине (вначале – Полине)
Частенько будем приходить.
Час встречи близок,
И да поможет мне мой колокольчик,
Если хозяин
Нежится в своей супружеской постели,
Динь, динь, динь, динь,
Устраиваю я перезвон,
Словно домовой,
До самого утра.
Несчастный,
Который верит в дьявола,
Бледнеет от страха.
Выскакивает из постели,
А шум все возрастает,
Он начинает метаться
И, наконец, оставляет
Розину ее монаху.
Бакалавр, по очереди рядившийся то сатаной, то монахом, то пилигримом, а то являвшийся призраком, стал предвестником появления на сцене Линдора, Фигаро и Альмавивы.
На «Севильском цирюльнике» сказалось влияние многих авторов. Мы находим в нем отголоски творений Мольера и «Хромого дьявола» Лесажа, которого Бомарше досконально знал и цитировал почти бессознательно. А название «Тщетная предосторожность» было списано с новеллы Скаррона, откуда Мольер позаимствовал свою «Школу жен».
Бомарше предложил свою комическую оперу Итальянскому театру, но там отказались ее ставить, поскольку, по слухам, актер, певший на этой сцене главные партии, в юности был цирюльником и не любил, когда что‑либо напоминало ему об этой поре его жизни. Но официальной причиной отказа стало то, что, по мнению художественного совета театра, либретто оперы слишком напоминало комедию Седена и Монсиньи «Всего не предусмотришь», которая уже десять лет с успехом шла на подмостках.
Как бы то ни было, Театр итальянской комедии невольно оказал Бомарше неоценимую услугу. Подтверждением тому служат дошедшие до нас отрывки из либретто «Севильского цирюльника» в его бытность комической оперой. Несмотря на некоторую живость куплетов, уровень произведения в целом, видимо, не значительно превосходил уровень парадов, ставившихся в Этьоле, и стишков, с ходу сочинявшихся Пьером Огюстеном для многочисленных семейных праздников. Что касается музыки Бомарше, то она не выдерживает никакого сравнения с музыкой Паизиелло и тем более с музыкой Россини, написанных на либретто «Цирюльника» соответственно в 1780 и 1816 годах.
Если не считать тяжбы с Лаблашем, то период, в который сочинялась, переписывалась и дорабатывалась эта пьеса, был относительно спокойным в бурной жизни Бомарше. Разбирательство в Рекетмейстерской палате, судя по всему, не слишком донимало автора «Севильского цирюльника», и связанные с ним волнения не повлияли ни на его творческие способности, ни на его желание довести свое произведение до совершенства.
Существует множество рукописей первоначального варианта «Севильского цирюльника», постепенно превращавшегося в пьесу, по ним можно судить о том, как от текста к тексту росло мастерство автора.
Два года, 1771 и 1772, в течение которых Пьер Огюстен не только трудился над «Цирюльником», но и из пристрастия к трагедии делал наброски фрагментов оперы «Тарар», окончательно оформившейся лишь в 1787 году, он жил со своей семьей в особняке на улице Конде. После того как брат вторично овдовел, хозяйство взяла в свои руки Жюли; папаша Карон, несмотря на свои семьдесят лет, продолжал предаваться забавам, более свойственным зеленым юнцам, а маленький Огюстен учился произносить первые слова.
Пришли новости из Испании: возможно, они тоже наложили отпечаток на декорации «Цирюльника». Зять Бомарше архитектор Гильбер умер от алкоголизма, и эту смерть никто не стал оплакивать. Вдова его вторично вышла замуж за одного из своих испанских друзей, некого г‑на Сальседо, который очень скоро исчез из ее жизни, оставив без гроша. Г‑жа Сальседо вернулась в Париж и привезла с собой сына и дочь – детей Гильбера, носивших почему‑то фамилию Сальседо. Видимо, отчим успел их усыновить. Со свойственным ему великодушием Бомарше взял на содержание сестру и племянников; девочку он вскоре определил в пансион при женском монастыре Святого креста в Руа, в Пикардии. Не исключено, что бывшая невеста Клавихо – покинутая им Лизетта была в той же компании, но к этому моменту след ее в истории затерялся, что кажется нам несколько странным.
«Я хотел бы, чтобы все, кто меня окружает, были счастливы», – любил повторять Бомарше, и частично это желание воплощалось в жизнь. Жано де Мирон по его рекомендации получил должность секретаря у принца де Конти, а его жена, по словам Жюли, делала все, чтобы «ее катающийся как сыр в масле, изнеженный, зацелованный, находившийся у нее под пятой (но не рогатый) муженек был доволен жизнью». В этом описании без труда узнается стиль «Цирюльника», к созданию которого Жюли бесспорно приложила руку.
Семейство Лепин, обосновавшееся в старой часовой лавке Каронов на улице Сен‑Дени, процветало; зять Бомарше прославил свое имя и пользовался заслуженным авторитетом в цехе часовщиков.
Этот период относительного затишья – тучи, правда, уже начали сгущаться на горизонте – был омрачен печальным событием: 17 октября 1772 года умер маленький Огюстен. Бомарше горько оплакивал сына, то единственное, что оставалось у него от короткого брака с Женевьевой Уотблед – вдовой Левек. Но ему не свойственно было долго горевать, и он вполне мог повторить вслед за Монтескье, когда‑то сказавшим: «Учение было для меня первейшим лекарством от жизненных невзгод; не было ни одного огорчения, которое не рассеялось бы после часа чтения». Литературное творчество, рожденные им мечты о славе, а также удовольствие, которое, по всей видимости, получал этот любитель наслаждений, когда писал пьесы, заставляли его забыть все неприятности и залечивали любые раны, нанесенные судьбой.
Сударыни, если наши шутки
Нанесли урон вашей стыдливости,
Не будьте слишком строги
И простите нам этот грех.
Дамы с удовольствием откликались на этот легкомысленный призыв; если их стыдливость и была задета, они никак этого не показывали. Из многочисленных амурных похождений Бомарше нам известны только несколько. В частности мы знаем, что крошка Долиньи, исполнительница роли Евгении, а позже Розины, не осталась равнодушной к чарам их создателя.
В 1773 году одно из его любовных приключений получило огласку. Примерно за год до этого Бомарше стал любовником актрисы Театра итальянской комедии мадемуазель Менар. Эта связь, скрепленная скорее чувственностью, нежели глубоким чувством, видимо, была продиктована также и практическими интересами: с помощью любовницы Бомарше рассчитывал протолкнуть на сцену этого театра своего «Севильского цирюльника» в виде комической оперы. По иронии судьбы эта любовная связь, наоборот, стала причиной того, что постановка «Цирюльника» была отложена на долгие годы.
Начало же было обнадеживающим: считая свою комедию вполне готовой к выходу на сцену, Бомарше принес ее в «Комеди Франсез», где увидели свет его первые творения.
3 января 1773 года автора уведомили о том, что пьеса принята к постановке, что репетиции начнутся в ближайшее время, а премьера назначена на масленицу. Комиссия по цензуре поручила дать заключение о тексте пьесы журналисту Марену; этот человек, призванный сыграть значительную роль в жизни Бомарше, был также цензором «Евгении», и его замечания имели вполне объективный характер. Потребовав сделать кое‑какие исправления, 13 февраля 1773 года Марен дал добро на постановку «Севильского цирюльника».
Увы! Всего за два дня до этого судьба Бомарше сделала крутой поворот, и Пьер Огюстен, отнюдь не по своей воле, оказался в критической ситуации: на карту было поставлено его доброе имя.
Глава 19ССОРА С ГЕРЦОГОМ ДЕ ШОНОМ (1773)
Среди знакомых, которых Бомарше завел в кругу высшей аристократии, герцог и пэр де Шон занимал особое место. Весьма занятной личностью был этот представитель младшей ветви дома де Люинов, ведшего свой род от брата коннетабля Людовика XIII. Сын герцога де Шона, ученого и члена Академии наук, и девицы Бонье де Моссон, дочери знаменитого казначея Лангедока, он унаследовал от матери вместе с внушающим уважение количеством миллионов способность постоянно создавать вокруг себя хаос и неразбериху.
Наделенный гигантским ростом, недюжинной силой и столь бешеным характером, что в припадке гнева он почти терял рассудок, герцог де Шон, несмотря на врожденный ум и явную склонность к наукам, имел самую скверную репутацию. Он прославился своими дуэлями по любому, даже самому ничтожному поводу и судебным процессом с собственной матерью, который затеял из‑за денег. Высланный в двадцать четыре часа за неблаговидное поведение из Франции, Шон много путешествовал: из Египта, где он прожил длительное время, герцог привез на родину множество диковинных предметов, имеющих отношение к естественной истории, и несчастную обезьяну, которую он каждый день бил. Этот эксцентричный вельможа проникся к Бомарше безграничной симпатией и оказал ему высшую милость, на какую только был способен по отношению к человеку низкого происхождения: он занял у него денег. Дело в том, что, хотя Шон и должен был унаследовать солидное состояние, тяжба с матерью очень осложняла его финансовое положение.
В порыве дружбы герцог даже представил Бомарше своей любовнице – актрисе Театра итальянской комедии, что было весьма кстати для автора комической оперы. Отзывы о мадемуазель Менар были самыми разными. Лагарп, например, считал ее обычной куртизанкой, но думается, это было преувеличением. Начинала она как цветочница, имела соблазнительную фигуру и, судя по портрету кисти Грёза, очень миловидное личико. Желая пробиться в жизни, мадемуазель Менар сочетала торговлю цветами с занятиями грамматикой, совершенствовала свою речь и прислушивалась к мнению поэтов и музыкантов по поводу своих артистических способностей. Благодаря многочисленным покровителям в 1770 году она была принята в труппу Театра итальянской комедии, на сцене которой дебютировала в роли Луизы в пьесе Монсиньи «Дезертир». Молодая актриса понравилась публике, хотя критики называли ее игру спорной, голос слабым, а внешность вульгарной. Мадемуазель Менар, которая по натуре отнюдь не была недотрогой, совершила большую ошибку, отвергнув ухаживания главы Управления зрелищ, а им был не кто иной, как герцог де Ришелье. Оправданием юной девице служило то, что этому любителю клубнички давно перевалило за семьдесят. Кроме того, герцог де Шон уже почтил актрису своим вниманием, и она не собиралась упускать такого покровителя. Став его любовницей, она убедилась, насколько герцог ревнив: он вынудил ее покинуть сцену и ограничил круг общения, хотя все же позволял видеться кое с кем из писателей, например, с Мармонтелем, Седеном, Рюльером и Шамфором, а однажды сам привел к ней Бомарше. Тот умел быть неотразимым, а вдовство уже начало тяготить его. Как писала в шутку его сестра Жюли: