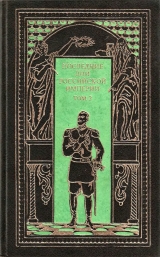
Текст книги "Последние дни Российской империи. Том 2"
Автор книги: Петр Краснов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
Эти полтора месяца были для Алёши горением на медленном огне. Ежедневные встречи, милые недомолвки, ласки взглядом, пожатием руки, маленьким подарком, то цветов, то конфет, то книги, то длинные задушевные разговоры, но разговоры далёкие, чуждые любви. То она расскажет про свои шалости с Алексеем, которого они, все сёстры, боготворили, или про то, как в недавнюю поездку Анастасия Николаевна забралась в вагоне на сетку для багажа, укуталась пледом, взяла пузырёк с водою и капала из него на голову старому генерал-адьютанту, сопровождавшему их, к великому смущению её, Ольги и Марии, то он станет рассказывать ей про казаков, про жизнь в станице, про Новочеркасск. Казаки в его описании выходили сказочными героями, чудо-богатырями. Его рассказы были пропитаны любовью, которою горело его сердце.
– Как я рада, что они такие, – говорила Татьяна Николаевна, – а то говорят, что они плохо сражаются и много грабят.
Потом Алёша рассказывал про свой полк, про новое синее с серебром знамя, про свою лошадь. Она обожала лошадей. Она любила читать книги, где было написано про лошадей, и, если истории были печальные, она плакала и сердилась на автора. В те дни, когда она не могла быть в лазарете, она посылала ему через сестру Валентину маленькую записку с милым приветом. На широком листе плотной английской бумаги разгонисто, ещё детским почерком, было написано несколько ничего не значащих слов, а внизу стояла подпись: «сестра Татьяна».
Иногда ему удавалось выпросить у неё позволение поцеловать её руку. Она давала её, смеясь, но сейчас же отдёргивала. Он несколько раз напоминал ей про чудный день 23 сентября. Она спросила: «Да, что было?» Он покраснел и, запинаясь, сказал:
– Я был так счастлив тогда. Я думал, что умру от счастья. Вы поцеловали меня тогда.
– Ах, да. – Лицо Татьяны Николаевны стало серьёзным. – Мне было тогда так жалко вас, – сказала она.
– Я поклялся в тот день, что умру за вас.
Татьяна Николаевна подумала, что на войне офицеры должны умирать, без этого не будет победы. Она серьёзно посмотрела на Алёшу. Ей стало жалко его. «Но, это его долг, – подумала она, – и для него это счастье – умереть за Родину».
– Старайтесь не думать об этом, – сказала она.
– А помните, как вы поцеловали меня? – спросил он.
Она не помнила. Но она почувствовала, что огорчит его, если скажет прямо, что не помнит, и она сказала:
– Да, я помню. Вы хороший, Карпов. Я хочу, чтобы вы всегда были хорошим. Любите меня. Мне сладко и хорошо сознавать, что такие люди, как вы, любят меня. Но не думайте о глупостях! Поцелуй – это глупости! Этого не надо. Но помните о 23 сентября. Всегда помните. Может быть, вам станет когда-нибудь очень трудно, вы вспомните о том, что я люблю вас, что я молюсь за вас, и вам станет легко.
Каждую субботу он ходил ко всенощной, а воскресенье – к обедне в Фёдоровский собор. Построенный в строгом стиле древних русских церквей, этот маленький собор производил глубокое впечатление. Тихо горели огоньки в разноцветных лампадках, придворный хор пел мягко и красиво. На правом крылосе стояла Императрица с дочерьми. Карпову сладко было обмениваться взглядами с Татьяной Николаевной и её сёстрами, чувствовать, что он узнан, что его увидели, что он как бы свой. Священник, отец Александр Васильевич, служил проникновенно. Хор мягко трепетал сдержанными звуками, и тихие напевы реяли под расписными сводами. Служки в тёмно-малиновых стрелецких кафтанах, в цветных сапогах, тихо ходили по церкви. Неподвижными рядами стояли казаки конвоя и солдаты Сводно-гвардейского полка. Когда наступал момент петь «Отче наш» – пели все прихожане. Алёша сильным чистым баритоном покрывал тихое гудение казачьих и солдатских голосов и вёл их за собою. Императрица и великие княжны стояли на коленях, но Алёша чувствовал, что его слышат и его слушают, и голос его звенел, полный уже не сдерживаемой страстной мольбы.
Алёша любил чисто. Ни одна греховная мысль не прорезала его мозг. Она была для него не только его любимая, но и Царская дочь, великая княжна, и это усиливало остроту чувства и доводило любовь до экстаза.
Он сознавал, что это сумасшествие – так полюбить Татьяну Николаевну. Он сознавал, что он никого уже больше не полюбит и что жизнь его загублена, потому что полной взаимности он не получит никогда. Он обрёк себя на смерть. В другое время он застрелился бы в один из приступов неудовлетворённой страсти – теперь он знал, что сумеет достойно умереть, и спокойно готовился к этому. То, что он сделал под Железницей, уже не казалось ему геройством. Он сделает теперь большее, он сделает такое, что или умрёт, или явится к ней с орденом Святого Георгия, явится истинным героем, достойным её любви. Но если нельзя иначе – он сумеет и умереть бесстрашно.
Время шло, и незаметно подкрался жуткий час разлуки. Алёша ехал на один день повидаться с матерью, а потом – на фронт, в свой полк.
– Карпов, – сказала сестра Валентина Алёше, когда, отправив санитара с маленьким узелком на станцию, он собирался уходить и надевал свою шинель, – сестра Татьяна желает вас видеть, пройдите в приёмную. Сердце дрогнуло у Карпова, у него потемнело в глазах. Он бросил шинель на койку и пошёл за сестрой Валентиной.
– Вот он, наш беглец. Все на фронт, на фронт – и не долечился как следует, – сказала сестра Валентина, отворяя дверь и проталкивая Карпова в приёмную. Дверь закрылась за ним.
В приёмной, кроме Татьяны Николаевны, не было никого. Низкое осеннее солнце бросало косые лучи на паркет. За окном недвижные стояли заиндевелые деревья сада, лишь кое-где сохранившие жёлтые, красные и коричневые листья. По замерзшему шоссе стучали копыта лошадей.
– Я хотела попрощаться с вами, – сказала дрогнувшим голосом Татьяна Николаевна, – мама велела передать вам её благословение. Сама она не может принять вас. Она посылает вам этот крестик и Евангелие.
Серые глаза Татьяны Николаевны стали серьёзными. Она перекрестила Алёшу и надела ему крестик. Её руки и лицо были совсем рядом. Его сердце забилось так сильно, что ему казалось, он слышит его стук.
Она положила ему руки на плечи и сказала:
– Прощайте, дорогой. Да хранит вас Бог. – Она протянула ему руку.
И тот поцелуй, которым он прикоснулся к маленькой руке, был поцелуем страсти. Горячие губы обожгли её, и Татьяна Николаевна тихо освободила свою руку из его руки и посмотрела на него почти с испугом.
– Не забывайте меня, – сказала она и сняла со своего пальчика нарочно приготовленное колечко с алым камнем.
– Прочтите, – сказала она.
На внутренней стороне кольца было вырезано «сестра Татьяна 23 сентября 1915 года».
– Дайте я надену.
Она надела ему кольцо и протянула руку для поцелуя. Он снова прильнул к её руке, и она почувствовала, что горячие слёзы капают на неё.
– Ну будет, будет, – сказала она, тихонько целуя его полные слёз глаза. – Ну, будьте мужчиной.
Она крепко пожала руку Алёше.
– Прощайте, – сказала она и вышла.
Алёша, шатаясь, подошёл к стулу у окна и сел. Слёзы текли ручьями по лицу, и зубы стучали. Только теперь он понял, что никогда, никогда не увидит он этого лица и не услышит любимого голоса. Краткое, как золотой майский дождь, пролилось с неба милое Алёшино счастье, и впереди ждал его последний венец – смерть.
XIII
В гвардейском запасном пехотном полку вывели людей на ученье. В казарме, где были помещены команды пополнения, не хватало места. Койки были сдвинуты вплотную наподобие нар, все коридоры и учебные и гимнастические залы были заняты людьми, а потому на занятие вывели на Морскую улицу, на торцовую мостовую. Старый кадровый унтер-офицер с Георгиевским крестом и два молодых прапорщика ускоренных выпусков были приставлены для обучения взвода. Солдаты были одеты в шинели и кто в сапоги, кто в австрийские штиблеты, все в серых искусственного барашка папахах. Была оттепель, моросил мелкий, как сквозь сито, пронизывающий петербургский дождь и на торцу было скользко, как на ледяном катке. Солдаты с унылыми лицами маршировали, скользили и падали. Ружей на всех не хватало, и те два ружья, которые были на взвод, были зажаты в прицельные станки и стояли под подъездами. Возле них упражнялись по очереди в прицеливании. Прохожие мешали солдатам, солдаты мешали прохожим. Одни прохожие умилялись тому, что все улицы загромождены обучающимися солдатами, и видели в этом залог победы, другие, напротив, возмущались.
– И чего держат экую уйму солдат в Петрограде. На фронт их надо посылать, да там и учить в поле, чтобы они и окапываться умели, и перебежки настоящие делать, а это отдание чести, да левой, правой забыть пора, – говорили прохожие.
Оба прапорщика, забившись под ворота высокого дома, курили папиросы и разговаривали, предоставив обучение унтер-офицеру. Над всем батальоном был поставлен кадровый старый офицер, присланный из полка, с позиций, но он на занятия не ходил. Он и сам хорошенько не знал, прислан ли он на очередной отдых или командовать запасным батальоном.
Второй час занимались отданием чести с остановкой во фронт. Взводный Михайлов пропускал мимо себя людей взвода. Он требовал, чтобы против него делали остановку и здоровался от имени разных начальствующих лиц.
– Отвечай, Рубцов, как корпусному командиру: «Здорово, братец!»
– Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!
– Не-е… Форцу настоящего в ответе не вижу. Корпусный, он любит, чтобы на «ство» было настоящее ударение. Ты начало проглоти или скажи скороговоркой, а потом и ударь на «ство» отчётливо, по-варшавски. Ну ещё раз – здорово, молодец!
Прапорщики переглянулись, и младший, Кноп, бывший студентом юридического факультета, посмотрел на часы с браслеткой и сказал старшему Харченко:
– Не пора ли кончать, довольно ерундой заниматься.
– Пожалуй, можно кончить, – отвечал Харченко.
Харченко был гимназист, совсем мальчик. Он с трудом одолел семь классов гимназии, а потом кинулся на курсы прапорщиков, чтобы не идти на войну рядовым. У него был детский неустоявшийся характер. Здесь, в полку, он командовал ротой в двести пятьдесят человек, но постоянно находился под чьим-нибудь влиянием и кого-нибудь боялся. Он боялся и благоговел перед младшим себя прапорщиком Кнопом, потому что тот был студентом и демонстративно носил университетский значок, он побаивался серьёзного и угрюмого унтер-офицера Михайлова с его Георгиевским крестом, боялся разбитного рядового Коржикова, не признававшего никакой дисциплины, но больше всего боялся своего батальонного командира, молодого изящного штабс-капитана Савельева, в прекрасно сшитом суконном френче, усеянном значками, с Владимиром с мечами, раненного в плечо, заходившего иногда в роту и всегда все критиковавшего.
– Михайлов, – крикнул Харченко, – кончайте занятия.
Михайлов собрал взвод, назначил людей отнести станки и винтовки и вызвал Коржикова запевать и идти с песнями домой.
Солдаты запели песню. Песня была новая. Она звучала придуманно и не было в ней русского широкого размаха ни в словах, ни в напеве. Плаксиво-грустно говорилось о покинутой семье, прощались с домом, шли не разить врага и побеждать его, шли умирать. Шаг под неё выходил размеренный, медленный и короткий. От этой песни с души рвало, по выражению Михайлова, но переменить её он не мог. Её пели везде. Её придумали и принесли вот эти самые прапорщики, которых не любил и не уважал Михайлов. «Побежишь после такой песни, – выговаривал он как-то Коржикову, – разве это солдатская песня? Ни Царя, ни отечества в ней нету. Ноги не слышно. Песня должна быть такая, чтобы тебя за душу хватала и вперёд бросала, а то что, слёзы одне, да «прощай, прощай!..». Ты бы спел про «песни русские, живые молодецкие, золотые удалые, не немецкие».
– Я таких песен, господин взводный, не знаю. Пойте тогда сами, – говорил Коржиков, принимая почтительную позу перед Михайловым и нагло глядя ему в глаза.
«Пойте сами», – вот в этом-то и загвоздка была, что и Михайлов, и его помощники, кадровые солдаты, были не певуны и насчёт слов знали мало. Толкнулись к прапорщикам, но и те в этом деле ничего не понимали.
– Ну, погодите вы, – идя за взводом, с тоскою думал Михайлов, – погодите вы, ужо я вас на позиции!
Но при мысли о позиции тоска ещё сильнее сжимала его сердце. «А кто выучит там, – думал он с горечью. – Ротного, капитана Себрякова, ещё в начале войны убили; старшего субалтерна поручика Синеокова, ух, душевный парень был, – пятью пулями в завислинском походе уложило, только после пятой и упал, а то все шёл впереди роты; младшего субалтерна подпоручика Фонштейна в первом же бою, как приехал из училища, убили. Да и кто из старых господ офицеров остался – никого в полку нет. Все новое, молодое, неумелое. Подойти к солдату не умеют. Это разве модель, чтобы солдат волосы, как девка, чёлкой запускал? А Коржиков носит. Прапорщик Кноп ему разрешил. И кто такой Кноп? Не то немец, не то жид. Может, и правда жид, а что скубент, так и не скрывает этого. Господи, Твоя воля – полтора часа поучились и уже размокли под воротами стоючи. И кто их направит! Фельдфебеля Сидора Петровича убили, обоих сверхсрочных тяжёлым снарядом пришибло, – продолжал тяжкие думы Михайлов, – разве теперь это гвардейский полк? Срам один! Солдаты в обмотках – всё одно как австриец рваный!.. А мы-то пели: «Русский Царь живёт богато, войско водит в сапогах, ваша ж рать есть оборванцы, ходит вовсе без чувяк»… Гвардия! – Михайлов презрительно плюнул, – одно имя осталось! Какая гвардия, когда ни Себрякова, ни Синеокова, ни Фонштейна, ни Сидора Петровича, никого из старых солдат нет?! Эти разве гвардия?!»
– Иди в ногу, чёртов пёс! – крикнул Михайлов в бессильной злобе и толкнул заднего солдата так, что тот пошатнулся.
– Михайлов, – голосом классного наставника окликнул его Кноп с тротуара, – попрошу вас не драться. Оставьте ваши полицейские привычки.
Михайлов те два года, что был в запасе, служил в петроградской полиции, и прежние господа одобряли это, говорили ему, что хорошо, что он не оставил службы и не распустился, а тут – на поди!..
По приходе в казарму Харченко и Кноп пришли в канцелярию и вызвали Михайлова к себе на совет. Оба никак не могли научиться говорить Михайлову ты. На Харченко действовала внушительная фигура унтер-офицера и его крест, Кноп говорил вы отчасти по убеждению, что нельзя никому говорить ты, отчасти из презрения к Михайлову, как бывшему городовому. Михайлова же это холодное вы оскорбляло.
– Михайлов, – начал Харченко, – мне совсем не нравится, как вы ведёте занятия во дворе. Скажите по совести, разве это вы видали на войне?
Михайлов молчал, тупо глядя на юное, без усов и бороды, лицо прапорщика и заставляя себя видеть в нём офицера и прямого начальника, а не гимназиста, делающего скандал на улице.
– Нет, вы скажите, Михайлов, – вмешался, визгливо обрываясь на высоких нотах, Кноп, – вы скажите: отдание чести с остановкой во фронт, а? Это в область преданий должно отойти. Это николаевщина! Или ваши манеры при обращении к солдату. Теперь, Михайлов, солдат образованный, в нашем взводе шесть человек с высшим образованием, а вы ругаетесь.
– Оставьте, Борис Матвеевич, – сказал Харченко. – Вы мне скажите, Михайлов, что вы делали на войне?
– Стреляли… Кололи, били прикладом, окапывались.
– Значит, что нужно солдату, чтобы уметь воевать? – мягко спросил Харченко.
– Первее всего солдат должон понимать дисциплину, – мрачно сказал Михайлов.
– Ну, это хорошо. Не это главное, а по отношению к неприятелю, что должен делать солдат?
– Потому как без дисциплины войско становится, как орда, занимается грабежом, бежит от врага, – продолжал говорить Михайлов.
– Все это ладно, но вот вы сказали, что надобно, чтобы окапываться, стрелять, колоть штыком, – вкрадчиво сказал Кноп, – вот этому и надо учить.
– Так точно, – ещё мрачнее проговорил Михайлов.
– Ну вот, ну вот… Сами понимаете. Вот и учить этому окапыванию, стрельбе, колоть, ну, словом, военному искусству, а не шагистике, – торжественно сказал Кноп.
– Ваше благородие, – с мольбою в голосе, обращаясь к Харченко, сказал Михайлов, – ну как же я учить буду окапываться на торцовой мостовой и без лопат, ну как же стрелять или колоть, ежели одна винтовка на весь взвод… Я хочу, чтобы дисциплину, а они даже остричь солдата по форме не дозволяют. Ваше благородие, что же это! Ведь на войну готовим!
Харченко был смущён и молчал.
– Хорошо, хорошо, Михайлов, – сказал он, – я поговорю об этом с командиром батальона.
Он уже и не рад был, что затеял этот разговор, но его подбил на это Кноп.
– Чем теперь заниматься прикажете? – спросил Михайлов.
– А что там по расписанию?
– Гимнастика на снарядах и сокольская.
– Ну вот и займитесь.
– Так что, ваше благородие, снаряды поставить негде.
– Ну, как же, Михайлов… Ну тогда…
– Может быть, дозволите заняться словесностью, уставы подтвердить.
– Ну хорошо… Да…
В двери канцелярии просунулся молодой человек, красивый, бритый, с причёской на пробор и большим клоком волос, выпущенным на лоб, в солдатской собственной хорошо сшитой в сборку суконной рубахе и шароварах, шитых у хорошего портного, и нагло посмотрел на прапорщиков.
– Коржиков, что вам? – спросил Харченко.
– Дозвольте поговорить, – сказал молодой человек.
– Хорошо. Так ступайте, Михайлов. Значит, займитесь словесностью. Пожалуйста, Коржиков.
XIV
После убийства полковника Карпова Коржиков перебежал к австрийцам. За те ценные показания о расположении и настроении русских войск, которые он сделал в австрийском штабе, ему удалось получить свободу и он пробрался в Швейцарию, в Зоммервальд. Он думал, что он там никого не застанет, но, к его удивлению, Коржиков, Бродман и все члены семёрки были на местах. В доме Любовина был организован их боевой штаб. Только что окончилась конференция интернационалистов в Циммервальде, и на ней была принята формула, предложенная Лениным:
«С точки зрения рабочего класса и трудовых масс всех народов России, наименьшим злом было бы поражение царской монархии и её войск».
По поводу этой формулы среди эмигрантов шли разговоры. Её считали слишком резкой. Для членов семёрки не было тайной, что Ленин получил крупные деньги от германского правительства, и это многих отшатнуло от него. Отошёл от него и Фёдор Фёдорович. Но Ленин назвал их «социал-предателями» и замкнулся в работе с тесной кучкой преданных ему людей, исключительно евреев.
Бродман был в этой группе. Он вызвал Коржикова к себе, долго беседовал с ним, ездил с докладом о нём в центральный комитет и затем с глазу на глаз передал Виктору следующее:
– В Швеции германским правительством организована специальная контора для пропаганды в войсках, воюющих с германской коалицией. Мы должны использовать эту контору в своих целях, в целях мировой революции. Вы должны отправиться туда, а оттуда в Россию, где стараться поднять социальное движение, организовывать забастовки, революционные вспышки, подготовлять сепаратизм составных частей государства, устроить гражданскую войну и агитировать в пользу разоружения и прекращения кровавой войны. Такова общая директива германского правительства. Она вполне совпадает с задачами нашей партии. Вы назначаетесь руководителем семёрки, которая будет работать в Петрограде. Войдите в связь с членами Государственной Думы: Петровским, Бадаевым, Муратовым, Самойловым и Шаговым… Бродман нервно засмеялся.
– Вы видите, – все русские. Вам бояться нечего.
– Да хотя бы и не русские, – сказал Коржиков. – Мне это всё одно. У меня этого нет.
– Вам помогут поступить в войска под вашим именем. Ваша задача развратить и изнежить солдат так, чтобы они боялись идти на фронт. Ну, не бойтесь, товарищ, вам все помогут. Развращайте в лазаретах, кинематографах, театрах. У нас теперь на это большие средства, и само общество за нас. Все готово! Говорите, пишите, толкуйте одно: на войне единственный страдалец и герой – солдат. Поднимите солдата на высоту и втопчите в грязь офицера! Про офицеров говорите только скверное.
– Как же мы это сделаем? – сказал Коржиков. Таких, как я, немного. Бродман опять засмеялся.
– Не беспокойтесь, товарищ, вся русская интеллигенция вам бросится помогать. Ведь это стадо трусливых баранов, и нужно только втиснуть её в армию, и она как гнилостный микроб разложит её. Помогайте всячески создавать на помощь интендантству и военно-санитарному ведомству союзы городов, земские, дворянские… какие хотите. Устраивайте туда молодёжь, не желающую умирать, а в прессе и в полках поднимайте шум о том, что тяжесть войны ложится неравномерно между господами и народом, и указывайте на эту уклоняющуюся молодёжь. – Помните одно, товарищ, что нам надо теперь валить уже не царя и трон, – эти свалятся сами, но нам надо свалить всю интеллигенцию, доказать народу, что она его обманывает и обирает, посеять вражду к ней и создать солдатскую диктатуру. Чем глупее и хуже будет это правительство, тем лучше. Когда всё будет готово, явимся мы и станем править по-своему. Тогда наступит истинный социализм, и мы сбросим капиталистов и уничтожим империалистическо-буржуазный строй. Создайте неслыханный разврат в тылу. Разврат открытый, на глазах у всех. Старайтесь пошатнуть веру и церковь, сделайте из солдат сознательных рабочих, поставьте политику и принадлежность к политической партии краеугольным камнем, добейтесь, чтобы партийность стала порядочностью, и вы разрушите колосса на глиняных ногах. – Чем хотите – анекдотами, песенками, театром – сделайте так, чтобы быть генералом стало стыдно, а солдатом – почётно. Играйте на преклонении общества перед солдатами и постепенно создайте такого солдата, в котором ничего солдатского не было бы. Ждите момента. Когда настанет усталость от войны, мы ударим всеми силами, по всему фронту и объявим открыто наши лозунги: «Долой войну!», «Мир хижинам, война дворцам». «Да здравствует пролетариат!» – Создавайте из преступников героев и привлекайте уголовный элемент на свою сторону. Наша тактика: противопоставить Государю Государственную Думу и общественных деятелей и одновременно посеять вражду между общественными деятелями. Вселите к ним недоверие, внушите толпе, что солдаты и рабочие – единственные чистые люди в России, и подберите из среды их самых развращённых негодяев. Посмотрим, кто победит! Чьё сердце окажется сильнее? Сердце, пылающее любовью, или сердце, пропитанное ненавистью. Христиане говорят, что у них в жизни должно быть три путеводных маяка – вера, надежда и любовь, и любовь из них главная. Мы будем сеять – безверие, отчаяние и ненависть, и ненависть больше всего. Посмотрим, устоит ли Христос?
Виктор торжествовал. Это было именно то, что так нравилось ему. После того, как лунного зимнею ночью он свалил выстрелом Лукьянова, а потом полковника Карпова, он почувствовал сладострастную радость в убийстве человека. «Вот был, – думал он, – полковник Карпов, его все любили и уважали, и им держалось много людей, а вот нет его и не будет никогда, и это сделал я. Я тот, кто несёт смерть и разрушение. Есть люди, которые служат Богу и ангелам, – что у них? – нищета и голод! Я послужу диаволу, и посмотрим, кто сильнее: диавол или ангел?» Но главное, что восхищало Коржикова в учении Бродмана, было то, что оно открывало ему путь к весёлой жизни и открытому разврату, что так отвечало его пылкой и страстной натуре.
Из Швейцарии через Германию Коржиков пробрался в Швецию, а оттуда в Петербург, где без помех поступил на службу в гвардейский запасный батальон. Снабжённый и снабжаемый широко средствами Коржиков весь отдался выполнению программы, продиктованной ему Бродманом.








