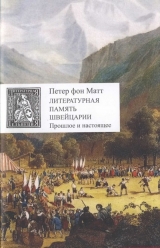
Текст книги "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Автор книги: Петер Матт
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
О СОЧИНЕНИЯХ И СМЕРТИ ОДНОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ. Адельхайд Дюванель
Сочинения
Ее истории отличаются ужасающей простотой. Читать их легко и интересно, но родом они из самого мрачного настоящего.
Есть авторы, в чьих книгах мы всегда сталкиваемся с одной и той же страной, как бы много и разнообразно они ни писали. Ты открываешь книгу, начинаешь ее читать, оглядываешься вокруг и сразу понимаешь: вот я и снова здесь. Все здесь привычно, и все-таки выглядит по-другому. Тебе уже знакомы такие персонажи, однако ты их встречаешь впервые. Так иногда в сновидении мы сидим в своем старом доме, за столом, возле которого выросли. Ничто не осталось, каким было прежде, но человек понимает: я нахожусь там, где жил с самого начала. Вольфганг Кёппен – один из таких авторов; и – Томас Бернхард; и – Герхард Майер; и – кто же, если не он? – Роберт Вальзер. Все они неизменно бывают новыми, всегда оставаясь собой.
Так Жерико когда-то изображал лошадей: лошадей во тьме, лошадей под вспышками молний, лошадей, залитых сияющим светом, – со страхом, яростью, безумием в глазах; он вновь и вновь изображал их – и благодаря ему люди впервые столкнулись с этим животным как с событием душевной жизни.
Тот, кто пишет об Адельхайд Дюванель, должен говорить о территории, на которую мы вступаем, открыв любую книгу этой писательницы: о зоне беззвучного страха и ужасной обыденности. Эта местность относится к внутренней географии наших городов. Никто не вправе сказать, что он знает свою современность, если не прошел хоть раз эту зону насквозь. Эта территория, страна Дюванель, густо заселена людьми – женщинами, мужчинами, детьми; и каждый из них так одинок, как если бы дрейфовал на льдине в зимней тьме арктического моря.
Это, конечно, романтический образ. При чтении ее книг он как бы напрашивается сам собой, но он маскирует обыденность контекста, в котором здесь предстает человеческая покинутость. Сравнение с покрытым льдинами морем переводит описанные Дюванель ситуации в план экзотики. Но что читателю приходят на ум именно такие картины, закономерно. Они – особая форма бегства, на которой мы постоянно ловим себя, когда читаем Дюванель: бегства от беззвучной правды, смотрящей на читателя – из этих историй – широко распахнутыми глазами одной из лошадей Жерико.
Для романтиков одиночество еще было дикарским путешествием души. Они, правда, распознавали опасность и понимали, что, когда человек находится в ситуации радикального одиночества, реальный мир может полностью отдалиться от него, – но именно эта опасность их привлекала. Они могли затеряться в лесах и ущельях – когда писали, конечно, ведь в жизни они по большей части были государственными чиновниками и носили аккуратные нарукавники; они и терялись там, оказывались по ту сторону всех границ и в конце концов встречали существ из иного мира. Свет, который пылает на горизонте на картинах Каспара Давида Фридриха и на который смотрят его неподвижные человеческие фигуры, у поэтов сгущался в телесно-осязаемые образы некоей второй реальности – принимал вид русалок, дриад, духов огня, – и поэты верили в этих существ, были готовы прижать их к своей груди.
В творчестве Адельхайд Дюванель нас настораживает, среди прочего, то, что одиночество, о котором она пишет – а она не пишет ни о чем другом, – тоже связано с видениями. В ее рассказах перед мысленным взором персонажей, которые ведут жалкое существование, проплывает безудержный поток воображаемых картин, рожденных тоской и страхом, – картин красивых, отвратительных, нежных, губительных, успокоительных. Но это отнюдь не высшая реальность старых романтиков – то, что клубится, подобно туману, в убогих комнатах: здесь мы имеем дело с порождениями настоящего безумия. Все люди в стране Дюванель живут настолько одиноко, что само одиночество выгоняет из их мозгов ростки видений, подобных горячечному бреду.
Поначалу речь всегда идет о контролируемых фантазиях, о представлениях пусть и гнетущих, но подвластных человеку, или о ночных сновидениях, с которыми днем обращаются как с домашним животным. Однако наступает момент, когда видение обретает самостоятельность. Постепенно разница между фантазией и действительностью стирается. И тогда мысленные картины начинают командовать мозгом. Потому что кто-то сошел с ума.
У Адельхайд Дюванель люди сходят с ума по одной-единственной причине: потому что не находят пути друг к другу. Они пытаются отыскать этот путь, но, споткнувшись, обрушиваются в пропасть. Они находят Другого – но лишь для того, чтобы мало-помалу его потерять. И после такой потери становятся настолько одинокими, что место соседа, или подруги, или возлюбленного заступает мерцающая химера, продукт их собственного мозга. Химера, которая, однажды появившись, исключает возможность дальнейших человеческих связей. Потерянные души теперь вынуждены жить с ими же сотворенными привидениями: они общаются с этими привидениями, пытаются с ними разобраться – до тех пор, пока не угаснут сами.
Конечно, не в каждом рассказе действие разворачивается именно по такой схеме. Но мы не ошибемся, сказав, что каждый рассказ инсценирует какую-то часть этого типичного процесса. Часто речь идет лишь о том, как человек спотыкается при попытке встретиться с кем-то и найти немного любви. И такая история показывает, как из одиночества рождается странный расплывчатый фантом, как он вспыхивает и опять бледнеет. Или сюжет состоит просто в том, что одна женщина пытается рассказать другой женщине свой сон. Но нередко – в поздних книгах это случается чаще, чем в более ранних, – персонажи Дюванель действительно впадают в безумие. И попадают в психиатрическую клинику, если не обитают там уже изначально.
С литературной точки зрения тут возникает проблема. И мы не вправе ее затушевывать. Ведь литературный текст должен быть доступен для чувственного восприятия любого человека. Пусть даже в повествовании я сталкиваюсь с выпавшими из обычной жизни персонажами, но до тех пор, пока они остаются открытыми для моего собственного жизненного опыта, пока их дела это в какой-то мере и мои дела, – до тех пор я могу вступать в описываемую ситуацию, могу воспринимать ее чувственно и со-участвовать в предложенной мне игре. Идет ли речь об умирающем, или о злонамеренном убийце, или о раненной любовью госпоже Бовари – даже физически здоровый, безупречный в уголовно-правовом смысле и эмоционально уравновешенный читатель способен понять сущность и страдания трех этих фигур, целиком и полностью, потому что они воплощают возможные варианты общечеловеческой судьбы. Женщина поймет их по-другому, чем мужчина, но эти персонажи доступны для восприятия любого человека, благодаря силе эмпатии. С неприкрытым безумием дело обстоит по-другому. Сумасшедшие живут по ту сторону воображаемой границы, которую я не хочу перешагнуть, а главное – в конечном счете и не могу это сделать. Именно потому, что Гамлет, и Торквато Тассо, и Войцек лишь вероятно сошли с ума, они могут существовать на сцене, на протяжении всей трагедии. А вот обезумевшую Офелию мы бы не выдержали дольше, чем на протяжении одной-единственной душераздирающей сцены.
У Адельхайд Дюванель многие персонажи – действительно сумасшедшие, и они остаются таковыми. Можно наблюдать на себе самом, как с какого-то момента ты вдруг начинаешь читать эти тексты по-другому – осторожнее, – как пытаешься отмежеваться от такой игры чувств, как в конце концов даже дистанцируешься от книги в целом. Это ведь клинический случай, думаешь ты, – так нужно ли такое показывать? Почему писательница не довольствуется изображением обычных людей, похожих на меня и моих знакомых?.. От таких мыслей вряд ли удастся отмахнуться – но как раз в этом и заключается предъявляемое нам требование. Теперь эти изящно написанные тексты обнажают свое жесткое ядро. Поэтому тот, кто вступает в страну Дюванель, должен быть надлежащим образом экипирован. Ему понадобится особое мужество, чтобы продержаться здесь. И только обладая таким мужеством, он приобретет тот экстраординарный опыт, который можно обрести в книгах этой экстраординарной писательницы.
Адельхайд Дюванель не показывает «случаи» в медицинском смысле – даже когда ее персонажи перешагивают границу, за которой начинается психоз. Она показывает – и здесь это затасканное слово следует употребить в его прежнем, полноценном значении – человеческие судьбы.
На двух, трех страницах она может выставить нам на обозрение целую жизнь и показать, как все элементы этой жизни сцеплены между собой, как тесно переплетены счастье и беда, как здравомыслие и смятение взаимно обусловлены. И внезапно мы осознаём, насколько ненадежными, расплывчато-текучими являются в действительности границы, за которыми простирается безумие. Сегодня много говорят о проблеме Другого: о разуме как Другом, о науке как Другом, о встречах с Другим, воплощенным в чужих людях и чужих континентах. «Другое» стало чуть ли не сентиментальным понятием. Столкнувшись с миром, о котором рассказывает Адельхайд Дюванель, мы получаем шанс понять, что всё это означает на самом деле.
Самым главным, губительным фактором в ее рассказах всегда является одиночество. Одиночество возникает из осознания каким-то человеком того обстоятельства, что существует любовь, это великолепное пребывание-вместе, но что в его жизни любовь отсутствует. Далее такое одиночество высвобождает творческие силы. Мощь рассказов Дюванель выражается в том, что в таких покинутых душах вновь и вновь выламывается наружу энергия воображения, которая извергает сны и видения – протуберанцы сферы воображаемого. Чем щедрее тот или иной персонаж наделен способностью к любви, тем больше он способен к грезам, к образному мышлению – и тем ближе подступает опасность, что он окажется втянутым в засасывающий водоворот собственной творческой силы, что затеряется среди вихрящихся образов фантазии.
Всё это, вместе с тем, – великое искусство. Беспомощности персонажей противостоит эстетическая суверенность писательницы. Ужасному нарастанию одиночества в отдельных историях соответствует соединение этих историй в единую композицию посредством вариаций, отзвуков и обращений, чуть ли не сериальных повторяющихся структур. Короткие тексты в любом из сборников Дюванель следуют друг за другом, как минималистские фортепьянные пьесы Эрика Сати. И сновидческий дрейф мужчин, женщин, детей, уносящий их все дальше от материальной реальности, сочетается с роскошной чувственностью самого повествования. Мало у кого из сегодняшних авторов всё описываемое столь осязаемо-предметно, а присутствие повседневных вещей столь тягостно-ощутимо. Кажется, всё можно потрогать руками, и при чтении мы часто вздрагиваем, будто соприкоснулись с чужим телом.
Беда всегда живет также и в самих вещах, и мы узнаем о ней именно через вещи. А ведь расположение этих повседневных вещей часто кажется едва ли не идиллическим – пока мало-помалу не обнаружится его зловещий аспект. Как это происходит, можно показать на примере отрывка из текста «Кошка»[287]287
Перевод А. Филиппова-Чехова.
[Закрыть]:
Франциска устроила себе маленькое королевство. Она любит каждую вещицу, что стоит или лежит на полках, и никогда не вытирает пыль, чтобы ничего не менять; в ее глазах беспорядок превращается в порядок, который никто кроме нее не понимает. По стенам висят ее детские фотографии. Изначально фотографии были маленькими, но она отдала увеличить их в фотокиоске на вокзале. Она живет, словно птица в гнезде, в окружении маленьких белых перьев, которые летят изо всех подушек и матрасов, которые она прожгла сигаретой. Перья парят по комнате, потому что в окно задувает ветер. Кошка охотится за ними, скачет по всей комнате[288]288
Duvanel А. Die Brieffreundin:. Erzählungen. München, 1995. S. 37f. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть].
Дважды здесь употреблены речевые обороты, которые характерны для описаний домашнего уюта в тривиальной литературе: «устроила себе маленькое королевство» – «живет, словно птица в гнезде». Они могли бы встретиться в какой-нибудь книжке для детей из дядюшкиного шкафа. Они нас на мгновение убаюкивают, но потом почва у нас под ногами начинает колебаться.
Иногда внутри короткой истории помещается другая, еще более короткая, где описывается причудливая собственная судьба какой-то повседневной вещи, вплетенная в судьбу одного из персонажей:
Судебный исполнитель завел себе любовницу на другом конце города. Его жена, хотя и «бесконечно загружена», как она часто говорит, однажды отправилась среди ночи к блоку, где живет ее соперница, похитила метлу, стоявшую у той во дворе, и принесла к себе домой. Этот пеший поход длился два часа; супруг о нем ничего не знает[289]289
Там же. S. 51f.
[Закрыть].
Вот и всё. Метла больше не упоминается. Ее история не комментируется. История просто стоит в этом месте, как если бы сама была вещью – случайной, стоящей где попало. Читателю приходит на ум метла как старое транспортное средство ведьм, на котором эти опасные женщины когда-то среди ночи летали на Блоксберг[290]290
Блоксберг – название многих гор в Германии, но особо известна гора Брокен в Гарце, на которой, согласно преданию, в ночь на 1 мая (в Вальпургиеву ночь) ведьмы, слетевшиеся со всей Германии, устраивают шабаш.
[Закрыть](Блок-гору); и тут читатель пугается, потому что в тексте буквально так и написано: ОТПРАВИЛАСЬ СРЕДИ НОЧИ К БЛОКУ. Читатель думает: «Такого просто не может быть; у меня разыгралось воображение», – но теперь он уже не может выбросить из головы эту фразу.
Осязаемая конкретность таких образов-знаков сочетается с их непостижимостью. Рассказы этой писательницы наполнены вещами, которые напоминают символы традиционной литературы, но при этом как бы пребывают в подвешенном состоянии, вне привычной нам сети значений. Они трепещут от содержащегося в них смысла, который нам никогда не удается раскрыть полностью. Часто мы даже не можем решить, является ли такой мерцающий феномен сигналом, который писательница подает читателям, то есть ее метафорой, или же это элемент фантазий очередного одинокого персонажа. Поэзия или безумие? Невозможность однозначно ответить на этот вопрос связана с самой сутью эстетики Адельхайд Дюванель. Ее искусство живет неозвученным признанием тождества любви, безумия и поэзии – представленных тремя фигурами, «the lunatic, the lover and the poet…»[291]291
Лунатик, влюбленный и поэт (англ.). Цитата из пьесы «Сон в летнюю ночь» (V, 1). В переводе М. Лозинского:
Безумец, и влюбленный, и поэтПронизаны насквозь воображеньем;Безумцу больше видится чертей,Чем есть в аду; влюбленный, столь же дикий,В цыганке видит красоту Елены;Глаза поэта в чудном сне взираютС небес на землю, на небо с земли;И чуть воображенье даст возникнутьБезвестным образам, перо поэтаИх воплощает и воздушным тенямДарует и обитель, и названье.
[Закрыть], о которых говорит Шекспир (это место из «Сна в летнюю ночь» на самом деле не такое безобидное, как мы привыкли его воспринимать).
Например, один рассказ начинается так: «Снежные хлопья горизонтально проносились за окнами, а когда Мерет поставила пустую кофейную чашку на кухонный стол, ей показалось, что снег летит снизу вверх, в небо»[292]292
Duvanel А. Der letzte Frühlingstag: Erzählungen / Hrsg, von Klaus Siblewski. München, 1997. S. 41. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть]. Это как раз поворотный пункт между пристальным взглядом на внешнюю действительность и внезапным обнаружением какого-то другого, герметично-своеобразного мира. Стоит читателю один раз заметить такое, и он будет повсюду находить – у Дюванель – подобные места, которые порой трудно забыть: «Однажды в полночь она сидела дома и услышала, как кто-то несется по улице, и подумала, что это две лошади вырвались на волю, чтобы спариться на поляне в лесу»[293]293
Перевод А. Филиппова-Чехова (рассказ «Одиночество»).
[Закрыть]. Похожее движение мысли запечатлено и в бесподобном резюме, которое пишет и отсылает женщина из рассказа «Перегруженный работник»[294]294
Перевод А. Филиппова-Чехова.
[Закрыть]:
Я динамична и вместе с тем терпелива. Когда я не сплю (чего с некоторого времени больше не могу), я часами медитирую и в это время меня не нужно ни кормить, ни поить; по вечерам я сама ищу добычу, покидая город и рыская по долине: птицам и мышам от меня не скрыться[295]295
Duvanel А. Das verschwundene Haus: Erzählungen. Darmstadt, 1988. S. 28f. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть].
Если бы приведенные выше фразы стояли в каком-нибудь тексте Роберта Вальзера, как бы их цитировали и комментировали члены сообщества почитателей этого автора!
Такое странное «свободное парение» знака – не просто эстетический элемент; оно еще и соотносится с пустыми пространствами, которые в рассказах Адельхайд Дюванель разверзаются между абзацами, между какими-то частями текста, а часто и между отдельными предложениями. Мы то и дело сталкиваемся с лакунами, которые нам хотелось бы в процессе чтения закрыть – привычным способом, пользуясь известными правилами обращения с лакунами. Но мы никогда не достигаем желаемого результата. Здесь части не хотят состыковываться одна с другой, взаимосвязь между ними остается неясной. Как бы сильно ни был читатель вовлечен в какую-то сцену, он тут же чувствует, что опять беспомощно стоит снаружи – отделенный не поддающейся определению дистанцией и от персонажа, о котором идет речь, и от рассказа в целом. Иногда такое расползание частей происходит в рамках одного-единственного абзаца:
Госпожа Вендехаупт вот уже четыре года живет на втором этаже окраинного городского дома. Будучи женщиной простой, она не подвергает себя опасности умышленно. Она любит все времена года. По ночам ее комната отражается в черном окне. Луна выкашивает луга[296]296
Duvanel А. Das letzte Frühlingstag. S. 46. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть].
Имея в виду одно из подобных мест, можно было бы поговорить о просчитанной наивности в повествовательной манере этой писательницы. Адельхайд Дюванель вновь и вновь прибегает к речевым оборотам, напоминающим тексты для чтения в старых школьных учебниках. Есть люди, которые, сталкиваясь с такими отрывками, сами начинают мнить себя учителями и утверждают, что мы, мол, имеем здесь дело с беспомощностью, что этой пишущей женщине надо бы помочь. Как будто ловко построенные тексты, гламурные фразы не стали давным-давно рутиной, как будто навыки создания таких текстов нельзя приобрести, прослушав любой учебный курс для пиарщиков. Особенно один (частый у Дюванель) повествовательный прием – когда уже в первой фразе упоминается личное имя главного героя – вызывает ассоциацию с устаревшими хрестоматиями для чтения и как бы воспроизводит покрывающую эти хрестоматии пыль, да и сам процесс медленного чтения, на который они когда-то были рассчитаны. Но тот, кого это раздражает, не должен забывать, что и полотна Пауля Клее на протяжении десятилетий комментировали одной и той же фразой: «Такое могла бы нарисовать и моя дочурка».
В какой значительной мере за этим повествованием об ужасных тяготах жизни скрывается свободная воля большой художницы, показывают крошечные зарисовки природы, которые вспыхивают во многих текстах, как вкрапления слюды в гранитной породе. Такие картинки никогда не растворяются полностью в сюжете, они сохраняют удивительную самостоятельность, существуя как бы наряду с мыслями и чувствами персонажей. Они волнуют нас, как иноземная поэзия. В одном месте, например, говорится: «Вздыбились большие, черные тучи, и солнце золотой нитью быстро подшило некоторые крыши к деревьям, чтобы на ветру ничего не потерялось»[297]297
Duvanel А. Die Brieffreundin. А.а. О. S. 39. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть]. Или, в другом месте: «Когда он шел через мост к вокзалу, чтобы поехать по железной дороге домой, на темно-сером теперь небе стояло маленькое светлое зарево, как будто там взорвалась звезда»[298]298
Там же. S. 21. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть]. Или: «Однажды солнце склоняется, как белая роза, за край неба»[299]299
Duvanel А. Das verschwundene Haus. А.а. О. S. 80. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть]. Или, наконец: «Ветер дергает когтистыми лапами телеграфные провода; под эту мелодию можно было бы петь»[300]300
Там же. S. 56. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть].
Смерть
11 июля 1996 года Адельхайд Дюванель умерла в окрестностях Базеля, города, где она жила. Ей было шестьдесят лет. Умерла она не без собственного содействия, но и не в результате несомненного самоубийства. Она, как иногда случалось и раньше, с помощью снотворных и успокоительных таблеток бежала из уже не выносимой для нее действительности бодрствующего сознания на ту пограничную территорию, где находиться опасно. При этом она спряталась в лесу, который знала и любила еще в детстве. Июльская ночь выдалась неимоверно холодной. Метеорологи говорили об интересном феномене, необычном для этого времени года. Адельхайд Дюванель той ночью замерзла насмерть. В середине лета. На рассвете ее тело обнаружил какой-то всадник.
Мир, который она описывает – страна Дюванель, – был ей знаком по собственному горькому опыту. Она периодически сама жила среди тех обездоленных, наполовину уже разрушенных людей, с которыми мы встречаемся в ее книгах. Она должна была присматривать за ребенком своей дочери, попавшей в среду наркоманов. Психиатрическая клиника тоже была ей так же хорошо известна, как и тому автору, с которым – как и с Региной Ульман – ее связывает наибольшая близость: Роберту Вальзеру. Даже своей смертью она нам напоминает о нем[301]301
Роберта Вальзера нашли умершим на заснеженном поле под Херизау (кантон Аппенцелль-Ауссерроден на северо-востоке Швейцарии), 25 декабря 1956 г.
[Закрыть]. Представление, что когда-нибудь он замерзнет, погибнет в снегу, сопровождало Роберта Вальзера с ранних лет. Снег всегда был для него и тем, и другим: и чем-то очень нежным, и чем-то жестоко-твердым. В романе «Семейство Таннер» Симон находит в зимнем лесу мертвого поэта, своего замерзшего брата. Перед нами, с одной стороны, реалистически описанное событие, а с другой – описание сновидческой встречи с самим собой. Это место может быть прочитано как эпитафия для Адельхайд Дюванель:
Примерно на середине склона Симон внезапно увидел молодого человека, лежащего на дороге, в снегу. В лесу еще оставалось так много последнего света, что он смог рассмотреть спящего. Что побудило этого человека – в такой жестокий мороз и в таком уединенном месте, в еловом лесу, – улечься на землю? Шляпа с широкими полями прикрывала ему лицо, как часто бывает в жаркие, лишенные тени летние дни, когда прилегший отдохнуть человек таким образом защищает себя от солнечных лучей, чтобы суметь заснуть. Было что-то пугающее в этом прикрытом лице посреди зимы, в пору, когда поистине никому не доставит удовольствия возможность примоститься здесь, в снегу. Человек лежал неподвижно, в лесу же мало-помалу сгущались сумерки. Симон изучал ноги, ботинки, одежду этого мужчины. Одежда была светло-желтой – летний костюм, из очень тонкой, поношенной материи. Симон снял шляпу с лица мужчины – лицо окоченело и выглядело ужасно; и теперь он вдруг узнал это лицо, это было лицо Себастьяна, вне всякого сомнения: черты Себастьяна, его рот, его борода, его широкий, приплюснутый нос, и знакомый разрез глаз, знакомые лоб и волосы. И он замерз насмерть, несомненно, и наверняка уже сколько-то времени пролежал здесь на дороге. На снегу поблизости не было никаких следов, и это наводило на мысль, что лежит он здесь уже давно. Лицо и руки давно окоченели, одежда прилипла к замерзшему телу[302]302
Walser R. Geschwister Tanner // Walser R. Das Gesamtwerk / Hrsg, von J. Greven. Band IV. Genf und Hamburg, 1967. S. 129f. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть].
Тут нам следует вспомнить, что страшный мотив умирания в снегу, смерти от холода, начиная с XIX века настойчиво присутствует в швейцарской литературе. Он обретает символическую силу в финале романа Готхельфа «Анна Бэби Йовегер»; Келлер работает с ним в новелле «Платье делает людей»[303]303
Новелла из второго тома сборника новелл «Люди из Зельдвилы» (1874/1875).
[Закрыть]; у Вальзера эта тема витает уже в самых первых стихотворениях. У Майнрада Инглина, который, кажется, столь уверен в окружающем мире, этот мотив проявляется как гротеск в рассказе «Погребение штопальщика зонтов» и как медленное, волнующее, незабываемое событие – умирание горного крестьянина – в 18-й главе романа «Серая марка». В «Лунном затмении» Дюрренматта – реконструированной изначальной версии позднейшей пьесы «Визит старой дамы» – вернувшийся на родину Лотчер, после того как он приносит в свой родной сонный городок все ужасы прогресса, гибнет под безмерным количеством снега. И нам становится не по себе, когда в одном из самых поразительных текстов новейшего времени, в романе «Агнес» (1998) Петера Штамма, мы читаем, как молодая женщина гибнет в зимнем льду из-за холодности мужчины: описание настолько хватающее за душу, как если бы автор первым изобрел этот мотив.
Приятно-благозвучное, и все же герметичное стихотворение двадцатичетырехлетней Сильи Вальтер[304]304
Сильвия Вальтер (сестра Мария Хедвига) – поэтесса, прозаик, драматург; сестра писателя О. Ф. Вальтера; в тридцать лет стала монахиней-бенедиктинкой.
[Закрыть], «Танцовщица», содержит такую строфу:
Эти строки завершают стихотворение, в котором прежде речь шла почти исключительно о счастье и о полноте бытия одинокой танцовщицы. Мотив снега в августе – это наложение друг на друга разных времен года, которое мы можем обнаружить и в вальзеровском описании мертвого поэта, в примечательных сигналах, отсылающих к летней поре, – находит отзвук у Петера Штамма: в той сцене, где замерзающей женщине кажется, будто она ощущает тепло, согревается. Так же и у Инглина медленно коченеющего крестьянина захлестывает волна любви к людям и примирения с миром. Эта удивительная диалектика – беззащитности и укрытости, холода и тепла, обиды на людей и любви к ним, – которая в том или ином виде присутствует во всех сценах смерти в снегу и превращает такую смерть из простого несчастья в символическое событие, в вопрос о возможности любви как таковой, у Петера Штамма предстает как новое рождение в момент гибели, то есть рождение, лишенное надежды[306]306
Штамм П. Агнес. М., 2004. С. 144; перевод С. Ромашко.
[Закрыть]:
Деревья стояли голые, а озеро замерзло. Но Агнес узнала это место. Она сняла перчатки и провела руками по заледенелым стволам деревьев. Она не ощущала холода, но кончики ее почти онемевших пальцев почувствовали шероховатость коры. Потом она опустилась на колени, легла ничком и окунула лицо в пушистый снег. К ней медленно возвращалось ощущение собственного тела, сначала в ступнях, в кистях рук, потом в ногах и руках, оно нарастало, пронизывало ее плечи и чрево, подбираясь к сердцу, пока не охватило все тело, и ей казалось, что она пылая лежит в снегу, и снег под ней тает.
Так что же, спасение невозможно? Что спасение возможно, любовь возможна, показывает Готфрид Келлер в той сцене, где молодая женщина ищет отчаявшегося мужчину в зимнем лесу, находит его в снегу – впавшего в беспамятство, уже окоченевшего, – потом решительно, не боясь грозящего скандала, возвращает его к жизни и наконец столь же решительно, ничего не боясь, делает своим возлюбленным и мужем[307]307
В новелле «Платье делает людей». (Келлер Г. Новеллы. М.-Л., 1952. С. 132–165; перевод С. Адрианова).
[Закрыть]. Что спасение невозможно, любовь невозможна, показывает тот же Келлер в самом удивительном своем стихотворении, «Зимняя ночь», где описывается, как весь мир замерз, а молодой человек стоит на прозрачном льду озера и смотрит, как поднявшаяся из глубины русалка отчаянно пытается пробиться сквозь лед к свету, к теплу, к любви[308]308
Перевод Р. Митина.
[Закрыть]:
Регина Ульман – таинственная, самая современная из «не соответствующих нашему времени» писателей, которая и спустя сорок лет после смерти остается, как Адельхайд Дюванель, маргинальной фигурой, чье имя известно знатокам, все прочие же при его упоминании разве что передернут плечами, как долго было и с Вальзером, – так вот, Регина Ульман однажды, около 1925 года, написала рассказ «Барочная церковь»: о том, как очень бедная и очень простая женщина, un cœur simple[310]310
«Простая душа» (франц.) – название новеллы Гюстава Флобера.
[Закрыть], зимой идет всю ночь через лес, потому что, совершая порученное ей маленькое путешествие, хочет сделать крюк и зайти в церковь, помолиться там. Ей просто так захотелось. Она рассчитала, что всё успеет, если будет идти целую ночь. И она отправляется в путь, а холод между тем усиливается:
Поначалу ничего не происходило. Всё происходящее сводилось к тому, что она шла, шла, уже утратив представление о времени. За ней бежал заяц, как если бы был ее юбкой. На ветвях перекрикивались вороны. Снег жестоко слепил, а высокие деревья еще больше принуждали взгляд неизбежно упираться в него[311]311
Ullmann R. Die Barockkirche // Ullmann R. Erzählungen; Prosastücke; Gedichte / Zusammengestellt von R. Ullmann und E. Delp; Neu herausgegeben von F. Kemp. München 1978. 1. Bd. S. 239. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть].
Мало-помалу опасность вокруг нее нарастает. Нарастает опасность льда и холода, а также того, что вокруг женщины разверзнется Ничто: «Не думайте, что ей встретился какой-то человек. Пришло Ничто». Однако женщина идет дальше, даже и через эту пустоту: «Если внезапно заглянуть в пустой, белый, большой сундук, можно увидеть нечто подобное. Но тогда человек испугается и сразу захлопнет крышку». Только одно волевое устремление остается в идущей через лес: добраться до церкви, которая стоит перед ее мысленным взором и где она хочет помолиться – эта своевольная женщина, ощущающая внутреннюю связь с Богом и будто явившаяся из давно прошедших столетий. Она спотыкается, она падает, она теряет зонтик, шляпу, защелка ее маленького саквояжа раскрывается, но она все идет дальше. Она становится чуждой себе самой, превращается в подобие вещи:
Не надо думать, что ей встретился какой-то человек. Ей, напротив, никто не встретился. Только один раз (если такое позволительно, в страхе и ужасе, то… сосчитать себя дважды), она опасно поскользнулась и скатилась в канаву, как какая-нибудь вещь. Но какое значение еще может иметь это второе лицо? Какое значение она еще может иметь для самой себя? Какое значение она еще может иметь для Господа?[312]312
Ibid. – Примеч. П. фон Mamma.
[Закрыть]
Даже крайнее изнеможение, даже соблазн лечь на землю и заснуть не удерживают ее от того, чтобы идти дальше. Плача – «но это звучало как пение, монотонное пение», – она, спотыкаясь, движется вперед, «заведенная шестереночным механизмом своей воли, ключиком от которого владеет Господь, там наверху». И так она проходит сквозь грозящую ей смерть от холода; ранним утром добирается до барочной церкви, пошатываясь; на пороге у нее падает из рук всё, что она еще несла; она, шатаясь, уже ничего не сознавая, шагает по центральному нефу, между всяким благочестивым барахлом, и на этом последнем отрезке пути падает и умирает.
Всё это рассказано с жестоким реализмом, и вместе с тем – как в легенде, как в описании какого-нибудь наивного вотивного изображения. Это примечательное определение интересующего нас рассказа как «вотивной таблички» содержится в самом тексте[313]313
Полное название новеллы: «Барочная церковь; прочитано с вотивной таблички и подробно пересказано» (Die Barockkirche von einer Votivtafel herab gelesen und ausführlich berichtet).
[Закрыть]. Если читать этот рассказ как историю спасения, избавления от убийственного холода безлюбого мира – в соответствии со смыслом, который обыгрывается во всех литературных сценах замерзания, – то здесь речь явно идет о любви, пребывающей по ту сторону всего человеческого. Если в «Простой душе» Флобера чучело попугая было для старой служанки изъеденным молью фетишем, породившем в момент ее предсмертной агонии иллюзию многоцветных горних высей[314]314
Имеется в виду последняя фраза новеллы: «И когда она испускала последнее дыхание, ей казалось, что она видит в разверстых небесах гигантского попугая, парящего над ее головой» (Флобер Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1956. Т. 4. С. 122; перевод Н. Соболевского).
[Закрыть], то в этой простой душе – что нас и раздражает, и трогает, и выглядит так, как если бы акту «разбожествления», предпринятому Флобером, необходимо было что-то противопоставить, – еще раз являет себя правда некоего иного мира.








