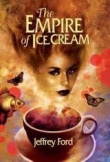Текст книги "Вся правда о Муллинерах (сборник) (СИ)"
Автор книги: Пэлем Грэнвилл Вудхауз
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 46 страниц)
Ход слоном
Еще одно воскресенье продвигалось к концу, когда мистер Маллинер пришел в «Привал рыболова» не в своей фетровой шляпе, а в блестящем цилиндре. Сопоставив это с черным костюмом и с благоговейным тоном, каким он заказывал виски, я вывел, что он побывал в церкви.
– Хорошая проповедь? – спросил я.
– Неплохая. Говорил новый священник. Ничего, приятный.
– Кстати, о священниках, – сказал я. – Что было дальше с вашим племянником, о котором вы рассказывали?
– С Августином?
– С тем, который принимал «Эй, смелей!».
– Это – Августин. Я рад, нет – я тронут, что вы запомнили мою немудреную повесть. Мир себялюбив, нелегко найти хорошего слушателя. Так на чем мы остановились?
– Он стал секретарем епископа и переехал к нему.
– Ах, да! Что ж, перенесемся на шесть месяцев.
Добрый епископ Стортфордский (сказал мистер Маллинер) обычно начинал день в веселом, радостном духе. Входя в кабинет, он улыбался, если не напевал псалом; но в это утро мы заметили бы в нем какую-то мрачность. Подойдя к дверям, он помешкал и, с трудом решившись, взялся за ручку.
– Здравствуйте, мой дорогой, – сказал он как-то смущенно.
Августин приветливо посмотрел на него из-за кучи писем.
– Привет, епиша! Как прострел?
– Боли гораздо меньше, спасибо. В сущности, их почти нет. Это – от погоды. Вот, зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Песнь Песней, 2, II.
– И слава Богу, – откликнулся Августин. – Письма неинтересные. Викарий святого Беовульфа[87] спрашивает насчет ладана.
– Напишите, не стоит.
– Хорошо.
Епископ смущенно потирал подбородок.
– Маллинер, – сказал он.
– Да?
– Вот вы говорите, «викарий». Естественно, я вспомнил о вчерашней нашей беседе… насчет места в Стипл Маммери.
– Да? – повторил Августин. – Ну, и как же? Епископ скривился от горя.
– Мой дорогой, – проговорил он, – вы знаете, как я вас люблю. Сам по себе я непременно отдал бы место вам. Но возникли непредвиденные сложности. Жена сказала, чтобы я назначил туда ее кузена. Он, – горько добавил епископ, – блеет, как овца, и не отличит стихаря от алтарной занавески.
Августин испытал естественную боль, но он был Маллинер, а значит – умел проигрывать.
– Ну и ладно, епиша, – сердечно заметил он. – Ничего, перебьемся.
– Сами понимаете, – сказал епископ, проверив, закрыта ли дверь, – непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена – равны. Притчи, 27, 15.
– Вот именно. Лучше жить в углу на кровле, чем со сварливою женой в пространном доме. Там же, 21,4.
– Как вы меня понимаете, Маллинер!
– Что ж, – сказал Августин, – вот важное письмо. От какого-то Тревора Энтвистла.
– Да? Мы с ним вместе учились. Сейчас он директор нашей школы, Харчестера. Что же он пишет?
– Приглашает на открытие статуи лорда Хемела оф Хемстед.
– Тоже из нашей школы. Мы его звали Туша.
– Есть постскриптум: «Осталось бутылок десять старого портвейна».
Епископ поджал губы.
– Старый хрыч… то есть преподобный Тревор Энтвистл зря думает, что меня пленят столь мирские соображения. Но друг – это друг. Мы едем.
– Мы?
– Я без вас не обойдусь. Школа вам понравится. Прекрасное здание, построено при Генрихе VII.
– Знаю, знаю. У меня там брат учится.
– Вот как? Ах ты, Господи! Я там не был лет двадцать. Да, Маллинер, чего бы мы в жизни ни достигли, любовь к своей школе не проходит. Alma mater, мой дорогой, нежная мать…
– Еще бы!
– Мы стареем, мой дорогой, и нам не вернуть былой беспечности. Жизнь нелегка. Тогда, в отрочестве, мы не знали тягот. Нам не приходилось разочаровывать друзей.
– Да бросьте, епиша! Бросьте и плюньте. Я весел, как всегда.
Епископ вздохнул.
– Хотел бы я быть таким веселым! Как вам это удается?
– Принимаю «Эй, смелей!»
– «Эй, смелей!»?
– Да. Такое средство, изобрел мой дядя Уилфрид. Творит чудеса.
– Угостите меня, мой дорогой. Что-то я приуныл. И с чего они вздумали ставить статую Туше? Метал в людей бумажные стрелы, вымоченные в чернилах. Что ж, не нам судить… Пишите Энтвистлу, мой дорогой, мы едем в Харчестер.
Хотя, как он и сказал Августину, епископ не был в школе двадцать лет, там почти ничего не изменилось – ни парк, ни здание, ни люди. Все было точно таким, как сорок три года назад, когда он впервые туда явился.
Вот кондитерская, где шустрый подросток с острыми локтями норовил протолкаться к прилавку и свистнуть булочку с джемом. Вот – баня, вот – футбольное поле, вот – библиотека, спортивный зал, дорожки, каштаны, все – такое, каким было в те дни, когда он знал о епископах только то, что у них шнурки на шляпе.
Нет, разница была: на треугольном газоне, перед библиотекой, стоял пьедестал, а уж на нем – некая глыба, то есть статуя лорда Хемела, ради которой, собственно, он и приехал.
Шли часы, им все больше овладевало какое-то чувство. Поначалу он принял его за естественное умиление, но естественное умиление, как-никак, ублажает душу; а это – никак не ублажало. Однажды, обогнув угол, он увидел капитана футбольной команды во всей его славе и затрясся, как желе. Капитан почтительно снял шапочку; неприятное чувство прошло, но епископ успел его опознать. Именно это ощущал он сорок с лишним лет назад, когда встречал начальство.
Он удивился. Получалось так, словно какая-то фея тронула его волшебной палочкой, обратив тем самым в измазанного чернилами мальчишку. Общество Тревора Энтвистла это укрепляло. Когда-то юный Килька был его лучшим другом и почему-то совсем не изменился. Увидев его в директорском кресле, при мантии и шапочке, епископ чуть не подпрыгнул – ему показалось на долю мгновения, что, ведомый своим особым юмором, Килька идет на страшный риск.
Как бы то ни было, он с облегчением встретил день торжества.
Само оно показалось ему скучным и глупым. В школьную пору он не любил лорда Хемела и с большим отвращением думал о том, что надо восхвалять его звучной речью.
Кроме того, он боялся. Ему казалось, что вот-вот выйдет кто-нибудь из начальства, даст по кумполу и скажет: «Не выпендривайся».
Но этого не случилось. Напротив, речь имела большой успех.
– Дорогой епископ, – сказал старый генерал Кроувожад, возглавлявший совет попечителей, – посрамили вы меня, старика. Стыдно вспомнить, что я лепетал. А вы… Великолепно! Да, ве-ли-ко-леп-но.
– Спасибо большое, – выговорил епископ, краснея и копая ногой землю.
Время шло, усталость росла. После обеда он в кабинете директора мучился головной болью. Преподобный Тревор Энтвистл тоже был невесел.
– Нудные эти торжества, – сказал он.
– Еще бы!
– Даже от старого портвейна лучше не стало…
– Ни в малой мере. Интересно, не поможет ли «Эй, смелей!»? Такое тонизирующее средство, мой секретарь принимает. Ему-то оно приносит пользу; удивительно бодрый человек. Не попросить ли дворецкого, чтобы он зашел к нему и позаимствовал бутылочку? Он будет только рад.
– Несомненно.
Дворецкий принес из комнаты Августина полбутылки густой темной жидкости. Епископ вдумчиво ее оглядел.
– Проспекта нет, я вижу, – сказал он, – но не гонять же беднягу снова! Да он ушел, наверное, вкушает заслуженный отдых. Разберемся сами.
– Конечно, конечно. Оно горькое? Епископ лизнул пробку.
– Нет. Скорее приятное. Странный вкус, я бы сказал – оригинальный, но горечи нет.
– Что ж, выпьем для начала по рюмочке.
Епископ налил два бокала и серьезно отпил из своего. Отпил и директор.
– Вполне, – сказал епископ.
– Недурно, – сказал директор..
– Как-то светлеешь.
– Не без того.
– Еще немного?
– Нет, спасибо.
– Ну, ну!
– Хорошо, чуточку.
– Очень недурно.
– Вполне.
Прослушав историю Августина, вы знаете, что брат мой Уилфрид создал это снадобье, чтобы подбодрить слонов, когда они робеют перед тигром; и прописывал он среднему слону столовую ложку. Тем самым вы не удивитесь, что после двух бокалов епископ и директор, скажем так, изменились. Усталость ушла вкупе с депрессией, сменили же их веселость и обострившееся чувство юности. Епископ ошущал, что ему – пятнадцать лет.
– Где спит твой дворецкий? – спросил он, немного подумав.
– Бог его знает. А что?
– Да так. Хорошо бы поставить у него в дверях капканчик.
– Неплохо!
Они подумали оба. Потом директор хихикнул.
– Что ты смеешься? – спросил епископ.
– Вспомнил, как ты глупо выглядел с этим, с Тушей. Несмотря на веселье, высокий лоб епископа прорезала морщина.
– Золотые слова! – произнес он. – Хвалить такого гада! Мы-то знаем… Кстати, чего ему ставят памятники?
– Ну, все-таки, – сказал терпимый директор, – он много сделал. Как говорится, строитель Империи.
– Можно было предугадать. И лезет, и лезет, всюду он первый! Кого-кого, а его я терпеть не мог.
– И я, – согласился директор. – А как мерзко смеялся! Будто клей булькает.
– А обжора! Мне говорили, он съел три бутерброда с ваксой, это после консервов.
– Между нами, я думаю, он крал в кондитерской. Нехорошо клеветать на человека, но посуди сам, видел ты его без булочки? То-то и оно.
– Килька, – сказал епископ, – я скажу тебе таку-ую штуку! В 1888 году, в финальном матче, когда мы сгрудились вокруг мяча, он лягнул меня по ноге.
– А эти кретины ставят ему статуи! Епископ наклонился вперед и понизил голос:
– Килька!
– Да!
– Знаешь что?
– Нет.
– Подождем до двенадцати, пока все лягут, и выкрасим его голубеньким.
– А почему не розовым?
– Можно и розовым.
– Нежный цвет.
– Верно. Очень нежный.
– Кроме того, я знаю, где розовая краска.
– Знаешь?
– Знаю.
– Да будет мир в стенах твоих, о Килька, и благоденствие в чертогах твоих,[88] – сказал епископ.
Когда епископ через два часа закрыл за собою дверь, он думал о том, что Провидение, благосклонное к праведным, буквально превзошло себя. Крась – не хочу! Дождь кончился; но месяц, тоже не подарок, стыдливо прятался за грядой облаков.
Что до людей, бояться было нечего. Школа после полуночи – пустыннейшее место на земле. Статуя с таким же успехом могла стоять в Сахаре. Взобравшись на пьедестал, они по очереди быстро выполнили свой долг. Лишь на обратном пути, стараясь идти потише, нет – уже подойдя к входной двери, испытали они удар судьбы.
– Чего ты топчешься? – прошептал епископ.
– Минутку, – глухо отозвался директор, – наверное, в другом кармане.
– Что?
– Ключ.
– Ты потерял ключ?
– Да, кажется.
– Килька, – сурово сказал епископ, – больше я не буду красить с тобой статуи.
– Уронил, что ли…
– Что нам делать?
– Может, открыто окно в кладовке?..
Окно открыто не было. Дворецкий, человек верный и ответственный, уходя на покой, закрыл его и даже спустил жалюзи.
Поистине, уроки детства готовят нас к взрослой жизни.
– Килька! – сказал епископ.
– Да?
– Если ты все не перестроил, за углом есть водосточная труба.
Память не подвела его. Среди плюща темнела та самая труба, по которой спускался он летом 86-го, чтобы выкупаться ночью.
– Лезем, – властно сказал он.
Когда они достигли окна, епископ сообщил другу, что, если он еще раз лягнет его, ему это припомнится. И тут окно внезапно распахнулось.
– Кто там? – спросил звонкий молодой голос.
Директор растерялся. Да, было темно, но все же он рассмотрел неприятную клюшку для гольфа и признался было, кто он, чтобы избежать дурных подозрений; но ему пришло в голову, что и это – опасно.
Епископ соображал быстрее.
– Скажи, – прошептал он, – что мы коты главного повара.
Честным, совестливым людям тяжела такая ложь, но что же делать?
– Не беспокойтесь, – заметил он с предельной небрежностью, – мы просто коты.
– То есть гуляки?
– Нет, обычные. Из зверей.
– Наш хозяин – шеф-повар, – подсказал снизу епископ.
– Хозяин – повар, – сообщил директор.
– А-га!.. – сказал человек в окне. – Ну, входите.
Он вежливо отошел в сторонку. Епископ благодарно мяукнул на ходу для вящей правдивости и побежал к себе, равно как и директор. Казалось бы, все прекрасно. Однако директору было не по себе.
– Как ты думаешь, он поверил? – беспокойно спрашивал он.
– Не знаю, – ответил епископ. – Нет, все-таки его обманула наша беспечность.
– Да, наверное. А кто он?
– Мой секретарь. Ну, который дал это средство.
– Тогда все в порядке. Он не выдаст.
– Верно. А больше улик нету.
– Может быть, – задумчиво прибавил директор, – нам не стоило его красить…
– Надо же кому-нибудь! – возразил епископ.
– Да, – оживился директор, – ты прав.
Епископ заспался допоздна и завтракал в постели. День, нередко пробуждающий совесть, ее не пробудил. Он ни о чем не жалел, разве что о том, не лучше ли, не ярче ли голубая краска. С другой стороны, нельзя обижать друга. И все-таки, голубое производит сильное впечатление…
В дверь постучали, вошел мой племянник.
– Привет, епиша! – сказал он.
– Доброе утро, Маллинер, – приветливо ответил епископ. – Что-то я заспался, поздно лег.
– А вот скажите, – спросил секретарь, – вы не хлебнули лишнего? Я говорю не о вине, а о нашем средстве.
– Лишнего? Нет. Выпил два бокала.
– О, Господи!
– В чем дело, мой дорогой?
– Да нет, ничего. Мне показалось, что вы какой-то странный на трубе.
Епископ опечалился.
– Значит, вы разгадали – э – наш невинный обман?
– Да.
– Понимаете, мы забыли дома ключ. Как хороша природа ночью! Бездонная тьма небес, дуновенье ветра, словно бы шепчущее нам великую тайну, всякие запахи…
– М-да, – сказал Августин, – тут большой тарарам, кто-то выкрасил эту статую.
– Выкрасил?
– Выкрасил.
– Ах, – заметил терпимый епископ, – школьники – это школьники!
– Очень странное дело…
– Конечно, конечно. Жизнь исполнена тайн, мой дорогой.
– Самое странное, что на статуе – ваша шляпа.
– Что?!
– Шляпа.
– Маллинер, – сказал епископ, – оставьте меня. Мне надо подумать.
Он быстро оделся, с трудом застегнув гетры дрожащими пальцами. Дрожал он потому, что вспомнил. Да, он вспомнил, как надевал статуе шляпу: «А что? – думал он тогда. – Хорошая мысль».
Директор был в школе, учил шестиклассников изящно писать по-гречески. Пришлось подождать до половины первого, когда зазвенел звонок, предвещая большую перемену. Епископ стоял у окна, едва сдерживая нетерпение. Наконец директор гёошел, ступая тяжело, словно что-то его гнетет. Он снял шапочку, снял мантию, опустился в кресло и проговорил:
– В толк не возьму, что на меня нашло…
– Удивляюсь, – сухо сказал епископ, – Мы выполнили наш долг, протестуя против того, что черт знает кому ставят статуи.
– А шляпу оставлять, тоже долг? – осведомился директор.
– Возможно, – признал епископ, – я зашел чуть дальше, чем следует. – Он кашлянул. – Это вызвало подозрения?
– Еще бы!
– Что думают попечители?
– Требуют, чтобы я нашел виновного. Иначе… в общем, будет плохо.
– Неужели снимут с поста?
– Да, вероятно. Придется уйти самому. А уж епископом мне в жизни не стать.
– Епископом? И слава Богу! У нас тяжелая жизнь, Килька.
– Хорошо тебе говорить. А кто меня втравил?
– Вот это да! Ты сам просто рвался в бой.
– С твоей подачи.
– Прямо скажем, ты не сопротивлялся!
Они вызверились друг на друга, вот-вот – и началась бы свара, но епископ взял себя в руки.
– Килька, – сказал он, улыбаясь своей дивной улыбкой, – это ниже нашего достоинства. Лучше подумаем, как выкрутиться из положения, в которое мы так необдуманно попали. Давай, например…
– Нет, – отвечал директор, – давай сделаем так…
– Ничего не выйдет.
Они посидели и подумали. В это время открылась дверь.
– Генерал Кроувожад, – сообщил дворецкий.
– О, если б я имел крылья голубки! Псалом 14, стих 6, – пробормотал епископ.
Действительно, они бы ему не помешали. Сэр Эктор Кроувожад, кавалер многих орденов, долго подвизался в секретной службе Западной Африки, где его прозвали Уах-нах-Б'гош-Б'джинго, что в вольном переводе означает «Большой Начальник, Который Видит Все Насквозь».
У генерала были голубые глаза и густые седые брови. Епископ счел, что взгляд его слишком пронзителен.
– Нехорошо, – сказал попечитель. – М-да-м. Нехорошо.
– Что уж хорошего, – согласился епископ.
– Скажем так, плохо. Ужасно. Чудовищно. Знаете, что у нее на голове? Ваша шляпа, епископ. Шляпа. А-х-м! Шляпа.
– Моя? – вдохновенно вскричал епископ. – Откуда вы знаете? Тут были сотни епископов.
– Там ваше имя. У-хр-р! Имя. Имя.
Епископ вцепился в подлокотник. Генерал сверлил его взглядом, и ему все больше казалось, что он – овца, повстречавшаяся с изготовителем мясных консервов. Когда он собрался сказать, что это – подделка, в дверь постучали.
– Войдите! – вскричал директор.
Вошел небольшой мальчик. На кого-то он был похож, кроме помидора с носом, но епископ никак не мог вспомнить, на кого именно.
– Сэр, простите, сэр, – сказал мальчик.
– Пошел, пошел, – сказал сэр Эктор, – пошел! Не видишь, мы заняты?
– Сэр, я насчет статуи, сэр.
– Статуи? Статуи? А-хм-х-рр! Статуи?
– Сэр, это я, сэр.
– Что?! Что?! Что?! Что?! Что?! Восклицания эти распределялись так:
епископ – одно
генерал – три
директор – одно
–
пять
Мальчик стал ярко-алым.
– Вы – покрасили – статую?! – воскликнул директор.
– Сэр, да, сэр.
– То есть ты? – спросил епископ.
– Сэр, да, сэр.
– Ты? Ты? Ты? – осведомился генерал.
– Сэр, да, сэр.
Все помолчали. Епископ смотрел на директора, директор – на епископа, генерал – на мальчика, мальчик – в пол. Первым заговорил военачальник.
– Кошмар! – сказал он. – Кошмар, м-м-м, кошмар. Немедленно исключить, исключить, исклю…
– Нет! – звонко откликнулся директор.
– Тогда – выдрать. Выдрать. Х-р-р! Выдрать.
– Нет!
Странное, неведомое достоинство снизошло на Тревора Энтвистла. Он быстро дышал носом, глаза напоминали креветку
– Когда речь идет о дисциплине, – сказал он, – решаю я. На мой взгляд, для суровости нет оснований. Вы согласны со мной, епископ?
Епископ вздрогнул. Он думал о том, что недавно, в статье о чудесах, пошел на поводу современной мысли и выказал излишний скепсис.
– О, конечно! – отвечал он.
– Умываю руки, – сказал сэр Эктор, – руки, м-дэ, руки. Если так воспитывают нашу смену, не удивительно, что страна катится псу под хвост. Хвост. Хвост.
Дверь захлопнулась за ним. Директор, нежно улыбаясь, обернулся к мальчику
– Больше не будете? – спросил он.
– Не буду, сэр.
– Тогда и мы не будем строги к ребячьей проделке. Вы согласны, епископ?
– О, да!
– Мы и сами в его годы, ха-ха!
– Конечно, конечно.
– Итак, Маллинер, перепишите двадцать строчек Вергилия, и мы обо всем забудем.
Епископ вскочил.
– Маллинер?!
– Да.
– У меня такой секретарь. Вы не в родстве?
– Да, сэр. Он мой брат.
– О! – сказал епископ.
Августина он нашел в саду за обработкой розовых кустов (ибо племянник мой – завзятый садовод) и положил ему руку на плечо.
– Маллинер, – сказал он, – я узнал ваш почерк.
– А? – сказал Августин. – О чем вы?
– Как вам известно, – продолжил епископ, – вчера, из самых лучших, мало того – благочестивых соображений, мы с преподобным Тревором Энтвистлом выкрасили в розовый цвет статую Туши Хемела. Только что некий мальчик взял это на себя. Он – ваш брат.
– Вот как?
– Чтобы спасти меня, вы подучили его. Не отпирайтесь. Августин смущенно улыбнулся.
– Епиша, какие пустяки!
– Надеюсь, расходы не слишком обременительны? Насколько я знаю младших братьев, он потребовал мзды.
– Да что там, два фунта. Хотел три, но это уж слишком.
– Они возместятся вам, Маллинер.
– Что вы, епиша!
– Да, возместятся. Сейчас у меня их нет, но пошлю по новому адресу в Стипл Маммери.
Августин едва удержал нежданные слезы.
– Епиша! – хрипло воскликнул он. – Не знаю, как вас благодарить. Вы все обдумали?
– Обдумал?
– Ну, жена на ложе твоем, Второзаконие, 13,6. Что она скажет?
Глаза у епископа сверкнули.
– Маллинер, – ответил он, – птица небесная может перенесть слово, и крылатая – пересказать речь. Екклесиаст, 10, 20. Я ей позвоню.
Честь Муллинеров
Небольшой кружок мыслителей, собиравшийся в баре, обсуждал некое дело о нарушения брачных обещаний, за которое ухватились газеты. Виски-с-Содовой не мог понять, как же удается эти обещания нарушить.
– Нет, – настаивал он, – как они решаются? Лев, и тот не посмеет. Вот я, например, §ыл смелый человек, но если бы вы меня попросили порвать с моей будущей женой, – кстати, тогда ее звали мисс Бутл, из Бэлемских Бутлов, – я бы отказался. А посмотришь – только это и делают. Бросают.
Вдумчивый Гоголь-Моголь-с-Ромом заметил, что большое подспорье – телефон. Джин-с-Джинджером предпочитал фальшивую бороду.
– Раз – и готово, – поведал он. – Покупаешь бороду, пишешь письмо и, в этой самой бороде, уезжаешь в Канаду.
Полкружки Пива считал, что джентльмену это не пристало. Джин-с-Джинджером с ним не согласился. Чтобы выяснить, где истина, они обратились к мистеру Маллинеру.
– Вот вы, – сказал Полкружки, – пошли бы на такой обман? Купили бы бороду?
Мистер Маллинер мягко улыбнулся.
– В нашей семье, – ответил он, – обещаний не нарушают. Быть может, мы старомодны, быть может – мы слишком высоко ставим честь древнего рода, но по нашему кодексу жених не вправе разорвать помолвку. Если Маллинер свяжет себя обетом, он связан, выхода нет. Именно такие чувства осложнили жизнь моему племяннику, когда он захотел отказаться от прекрасной Аврелии. Мы были поражены.
– Как?! – вскричали мы. – От Аврелии? Ваш племянник Арчибальд? Тот, который кудахтал? Да он же ее боготворил!
– Это верно.
– Тогда почему он хотел ее бросить?
– Надо ли говорить, что побуждения его были в высшей степени похвальны? Видимо, не надо. Он – Маллинер. Двигала им забота о невесте. Но лучше начнем с начала.
Только что (сказал мистер Маллинер) вы справедливо заметили, что племянник мой Арчибальд боготворил Аврелию Каммарли. Если я сообщу вам, что целых три раза он посылал своего лакея в парк, чтобы тот вырезал на приличном дереве ее инициалы, окружив их сердечком, вы поймете, какой глубины достигли его чувства. Поймете вы и то, как был он потрясен, когда, через шесть недель, Аврелия выказала холод.
Конечно, на какое-то время холод выказывают все, хотя бы для того, чтобы снова потеплеть. Но тут было не так. Вот, скажем, племянник мой сравнивал невесту со звездой, а она отвечала «М-дэ…» Он спрашивал, любит ли она своего Арчи, а она откликалась: «Что-что?» Он говорил о скорой свадьбе, а она осведомлялась, что он почитывает. Пустяки? Возможно. Ерунда? Как для кого. Во всяком случае, он, взвесив знаки и признаки, убедился, что по какой-то тайной причине Аврелия к нему охладела; и, как сделает всякий, если у него болит сердце, пошел за советом к матери.
Мать его, вдова, жила неподалеку от Кью. С Аврелией они подружились, та вполне могла поделиться своей тайной. В общем, пройдя через садик к залитой солнцем комнате, где хозяйка любила сидеть после полудня, Арчибальд уже стоял у огромного, до пола, окна, собираясь произнести почтительное «Пип-пип!», когда зрелище, открывшееся взору, так поразило его, что он застыл на месте, а монокль заплясал, как живой, на своем шнурочке,
Да, мои дорогие, в этой солнечной комнате стояла леди Маллинер и, по-собачьи высунув язык, издавала очень странные звуки, вроде «хы-хы-хы-хы-хы». Сын ее глядел и слушал, тогда как она перешла к занятию, исключительно глупому даже по его невысоким стандартам, а именно – стала повторять непонятное слово «Сьюкс». Позже племянник говорил мне, что окончательно его добила ее манера.
Посудите сами: выпятив губы, она еле слышно свистела: «Сью». Хорошо, это бы он еще вынес, но дальше она так скалилась, что выступали жилы на шее, и выдыхала достаточно громкое «кс-с-с». Снова и снова, «сью» сменялось на «к-с-с», «к-с-с» – на «сью». Так говорил мне племянник, и, признаюсь, я буквально все это видел.
Теперь ему стало ясно, почему изменилась Аврелия. Она тоже застала его бедную мать за такими занятиями и, естественно, поняла, что та совершенно не в себе. Тут не захочешь, а подумаешь.
Шатаясь, словно слепой, вышел он из садика". Нетрудно представить себе, как он страдал. Приятно ли, когда любимая мать внезапно свихнется? А если из этого следует еще и разрыв с невестой, тут уж найдет выход разве что Сомерсет Моэм, и то в трехактной пьесе.
Да, Арчибальд понял, что с невестой придется порвать. Выбора нет, нельзя тащить невест к алтарю, когда в твоей семье – безумие. Кроме всего прочего, оно заразно, ну, хотя бы наследственно. Живешь-живешь, хлоп! – и свихнулся. Хорошенькое дело, если священник спросит: «Согласен ли ты, Арчибальд?», а ты ответишь «Сьюкс», да еще вывалишь язык!
Нет, порвать надо…
И тут перед ним, откуда ни возьмись, встала прославленная честь Маллинеров. Помолвку порвать нельзя. Это должна сделать Аврелия. Но как? Почему?
Он стал перебирать знакомых девиц, порвавших помолвку. Возьмем Джейн Тодмарш. Жених повез ее гулять и свалился с нею вместе в тинистый пруд. Она ему отказала, выплюнув первого же головастика.
Так, так, так… Повезти Аврелию… Нет. Он вздрогнул от одной мысли. Почему именно, он не знал, но вздрогнуть – вздрогнул.
Милли Солт отказала потому, что жених неприятно хмыкал, когда она мазала на корте. Не пойдет. Аврелия в теннис не играет. Да если бы и играла, он бы не смог осуждать действия той, в ком видел богиню.
Ипатия Слоггет… С будущим повелителем она поссорилась в ресторане, куда явилась его былая любовь.
Вот это – получше. Конечно, никаких былых любовей у моего племянника нет, но дело можно поправить при помощи театрального агентства. Он вздрогнул снова. Скандал в ресторане вызовет толки, а гласность ему претила. Лучше бы что-нибудь другое… И тут он вспомнил о Доре Тревис. Собираясь выйти замуж за Обри Рочестера-Уопшота, она рассердилась, когда Обри явился к ним навеселе и оскорбил ее отца.
Что ж, дело ясно. Он придет к Аврелии и оскорбит старого Каммарли. Конечно, приятного здесь мало, отец этот – не из мягких, ранимых людей. Колониальный полковник в отставке вернулся домой, чтобы лаять на лакеев, и до сих пор мой племянник был с ним осторожен. Он поддакивал, он хихикал, он постыдно лебезил. Что там, он слушал его, хотя, по странной забывчивости, сэр Рекстроу мог рассказать одно и то же четыре раза подряд.
Все это так расслабило полковника, что внезапная наглость возымеет немедленный эффект. Бледный, но решительный, племянник мой тщательно оделся и пошел к своей невесте, на семейный обед.
Не знаю, видел ли кто из вас, как обедает полковник в отставке. Я лично – не видел, но Арчибальд рассказывал, что зрелище это заслуживает внимания. Суп и рыбу колониальный полковник ест примерно так, как лев, храпя и сопя. Перед жарким приветливость его возрастает. Первый, животный голод утолен, сытость творит свое доброе дело. За сладким и за портвейном вконец разомлевший полковник откидывается в кресле и переходит к историям.
Так было и на сей раз. Бэгшот, дворецкий, наполнил хозяйский бокал, отступил в тень, и сэр Рекстроу Каммарли, благодушно фыркнув, уставился на будущего зятя. Если б он что-нибудь замечал, он бы заметил, что этот зять напряжен и бледен.
– Вот вы говорите, – начал он, – сегодня полная луна. Поневоле припомнишь, что случилось с одним моим другом в Бонго-Бонго. Такой, знаете ли, Джордж Бейтс.
Он прихлебнул вина, а мой племянник увидел, как омрачилось прекрасное лицо Аврелии. Мать ее – бледная, усталая дама – коротко вздохнула. Где-то сзади забеспокоился Бэгшот.
– Если я вам это рассказывал, – продолжал сэр Рекстроу, – остановите меня. Так вот, в полнолуние жители Бонго-Бонго охотятся на носорогов…
– Стоп! – сказал мой племянник.
Воцарилось тяжкое молчание. Сэр Рекстроу дернулся, словно возглас этот был пулей, а он сам – носорогом, которого, кстати, напоминал, когда не расслаблялся.
– Что вы сказали? – осведомился он.
– Я сказал: «Стоп», – отвечал Арчибальд. – Вы предложили остановить вас, я и остановил, поскольку слышал эту историю шесть раз. Так может приесться и хорошая повесть, но, увы, она – плохая. В общем, любезный Каммарли, больше я слушать не. намерен. Ни о Бейтсе, ни о носороге, ни о ком бы то ни было ином. Ясно? С меня хватит.
Кончив эту речь, он налил себе вина, незаметно отодвигаясь, чтобы, в случае чего, скользнуть под стол. Из-под стола, прикинул он, корпулентный полковник не вытащит, особенно – если там получше угнездиться.
Когда он совсем приготовился, он услышал голос хозяйки.
– Спасибо, – сказала леди Каммарли, и слезы сверкнули в ее усталых глазах. – Давно пора произнести эти прекрасные слова. Сколько раз я об этом мечтала! Что же до носорога, я слышала о нем сто двадцать шесть раз.
Аврелия просто светилась.
– А я, – сообщила она, – сорок три. Сзади донесся деликатный кашель.
– А я, – сказан Бэгшот, – восемьдесят семь. Вероятно, вы не представляете, как тяжело нам, дворецким. Уйти нельзя, мы – на службе. Очень, очень тяжело. Спасибо вам, мистер Маллинер.
– Не за что, – откликнулся Арчибальд.
– Спасибо, мой дорогой, – сказала леди Каммарли.
– Ну, что вы! – ответил Арчибальд.
– Спасибо, спасибо, спасибо, – сказала Аврелия.
– Рад служить.
– Вот почему, – обратилась она же к отцу, – от тебя бегают в клубе.
– От меня не бегают!
– Бегают. Кто же этого не знает?
– А ведь правда! – вскричал сэр Рекстроу. – Теперь я и сам вижу. Ну, конечно, я всем надоел. Но этот замечательный юноша открыл мне глаза. Бэгшот, наполните бокалы! Тебе, дорогая? Тебе, Рели? Выпьем за моего любимого зятя, который оказал мне сегодня неоценимую услугу. А теперь, поскольку мы завершили нашу скромную трапезу, не погуляют ли наши молодые? Как справедливо заметил Арчибальд, сейчас – полнолуние. – И сэр Рекстроу приятно засмеялся. Внизу, при луне, Аврелия стала каяться.
– Арчи, – сказала она, прижимаясь к его руке, – наверное, ты заметил, какая я была противная. Это потому, что ты пресмыкался перед папой. Да, конечно, он – чудище, но ты, ты, мой герой, не должен был его бояться! Я ошибалась. Ты копил силы для удара. Прости меня.
Естественно, мой племянник пробормотал: «Ну, что ты, что ты», – но как-то невесело. Легко ли снести издевку рока? Аврелия любит его, обожает – а он должен с ней расстаться. Даже в русском романе из такой ситуации не выкрутишься.
– Пойдем завтра в «Савой», – сказала тем временем невеста. – Это надо отпраздновать.
– Пойдем, – рассеянно согласился он, думая о том, есть ли поблизости театральное агентство.
Назавтра, в половине двенадцатого, Арчибальд поднимался по сомнительной лестнице, которая вела в офис Изадора Макколума, театрального агента, известного тем, что он чаще всех других обещал сообщить, если что подвернется. Итак, Арчибальд шел к нему. Состояние у него было примерно такое, как у Гамлета: разум говорил ему «надо», он говорил разуму «не хочется».
Пока он колебался, наверху хлопнула дверь, кто-то побежал по ступенькам, и тяжелое тело, стукнувшись об него, покатилось с ним вместе к входной двери. Когда, пролетев этот утлый барьер, племянник мой приводил себя в порядок, он понял, что рядом, на мостовой – толстая особа в розовом платье, с обесцвеченными волосами.