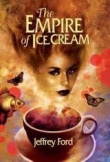Текст книги "Вся правда о Муллинерах (сборник) (СИ)"
Автор книги: Пэлем Грэнвилл Вудхауз
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 46 страниц)
– Ладненько, дядя, – сказал Ланселот, стараясь его успокоить.
Епископ погрузился в скорбное молчание.
– И дело ведь не в том, – заговорил он, видимо следуя какому-то ходу мыслей, – что я, как природный холостяк, взираю на брак с тревогой и озабоченностью. В отчаяние меня приводят особые обстоятельства моей трагедии. Если я соединю мою судьбу с судьбой леди Уиддрингтон, я уже никогда не увижу Уэбстера.
– Ну послушайте, дядя! Это уже чистый пессимизм.
Епископ покачал головой.
– Нет, – сказал он. – Если этот брак состоится, наши дороги, моя и Уэбстера, должны разойтись. Я не могу обречь столь чистого душой кота на жизнь в Уиддрингтон-Мэноре, на жизнь, означающую постоянное общение с этой скотиной Перси. Мой кот испытает самое пагубное влияние. Ты знаешь Уэбстера, Ланселот. Он был твоим постоянным товарищем (могу ли я даже сказать – ментором?) на протяжении многих месяцев. Тебе известна возвышенность его идеалов.
На мгновение перед умственным взором Ланселота предстал Уэбстер – таким, каким он видел его совсем-совсем недавно: стоящим с хребтом селедки в пасти и выпевающим военную песнь по адресу помоечного кота, у которого он отобрал этот bonne bouche.[36] Но он ответил без запинки:
– О, еще бы!
– Они очень высокие.
– Чрезвычайно высокие.
– А его чувство собственного достоинства! – продолжал епископ. – Я не приемлю гордыню и самовлюбленность, но чувство собственного достоинства у Уэбстера не омрачено этими пороками. Оно опирается на чистую совесть и на твердую уверенность в том, что даже котенком он ни разу не свернул с пути праведности. Сожалею, что ты не видел Уэбстера котенком, Ланселот.
– И я сожалею, дядя.
– Он никогда не играл с клубками шерсти, предпочитая сидеть в тени у стены собора и внимать мелодичному пению церковного хора, сливающемуся с благостной тишью летнего дня. Даже тогда можно было заметить, какие глубокие думы владеют его сознанием. Вот, помню, однажды…
Однако миру было суждено лишиться этого воспоминания – если, конечно, оно когда-нибудь не войдет в мемуары доброго епископа. Ибо в этот миг дверь отворилась, и вошел дворецкий. В объятиях он нес плетеную корзину с крышкой, и из-под крышки этой доносились гневные восклицания кота, который совершил железнодорожное путешествие в крайне стесненных условиях и теперь требовал объяснения, что все это, собственно, означает.
– Только подумать! – вскричал епископ.
В ушах Ланселота раздался погребальный колокольный звон. Он узнал этот голос. Он понял, кто скрыт в корзине.
– Остановитесь! – вскричал он. – Дядя Теодор, не открывайте корзину!
Но поздно! Епископ уже развязывал веревку руками, дрожащими от нетерпения. Он испускал нежное чириканье. Его глаза горели тем безумным огнем, который можно увидеть только в глазах кошколюбов, воссоединяющихся со своими любимцами.
– Уэбстер! – произнес он прерывающимся голосом.
Из корзины пушечным ядром вылетел Уэбстер, изрыгая странные эпитеты. Несколько секунд он метался по комнате, видимо, в поисках того, кто упрятал его в узилище, – глаза Уэбстера метали пламя. Несколько успокоившись, он сел и начал вылизываться, и вот тут-то епископ получил возможность хорошенько его рассмотреть.
Две недели под опекой ветеринара пошли Уэбстеру на пользу, но недостаточно. Далеко-далеко не достаточно, с ужасом решил Ланселот. Какие-то две жалкие недели не могут восстановить шерсть на боевых проплешинах или вернуть пожеванному уху тот добавочный дюйм, без которого оно имеет несколько необычный вид. Когда Уэбстер отправился к доктору Робинсону, он выглядел так, словно побывал в зубьях какой-то машины; точно так же, лишь с весьма незначительными изменениями, он выглядел и теперь. Рассмотрев его, епископ испустил пронзительный крик, будто в предсмертной агонии. Затем, обернувшись к Ланселоту, произнес громовым голосом:
– Так-то ты, Ланселот Муллинер, исполнил возложенный на тебя священный долг!
Ланселот был сокрушен, но все-таки сумел ответить:
– Я не виноват, дядя. Ему не было никакого удержу.
– Ха!
– А вот и не было! – сказал Ланселот. – К тому же что дурного в небольшой приличной стычке с кем-нибудь из соседей? Коты – это все-таки коты.
– Никуда не годная логика! – сказал епископ, тяжело дыша.
– Лично я, – продолжал Ланселот глухим голосом, понимая, сколь безнадежны его усилия, – гордился бы Уэбстером, принадлежи он мне. Подумайте о его достижениях. – Тут Ланселот слегка оживился. – Он приезжает на Ботт-стрит без единого боя в прошлом и, вопреки своей неопытности, демонстрирует такой врожденный талант, что уже через две недели все окрестные коты, едва завидев его, прыгают через ограды и взлетают на фонарные столбы. Жаль, – сказал Ланселот, уже полностью увлеченный своей темой, – что вы не видели, как он отделал белого кота из номера одиннадцатого! Ничего чудеснее я в жизни не видывал. Он весил меньше этого котяры, чья боевая репутация к тому же достигла Фулем-роуд. Первый раунд завершился вничью, возможно, с легким перевесом в пользу его противника. Но когда гонг возвестил начало второго раунда…
Епископ поднял ладонь. Его лицо было полно невыразимого страдания.
– Довольно! – вскричал он. – Я сокрушен. Я…
Он умолк. Нечто вспрыгнуло на подоконник рядом с ним, заставив его отпрянуть. Это был кот Перси, который, услышав незнакомый кошачий голос, явился узнать, что происходит.
Выпадали дни, когда Перси, ублаженный сливками и солнечным теплом, становился если не дружелюбным, то хотя бы относительно беззлобным. Ланселот даже сподобился однажды увидеть, как он играл со смятой бумажкой. Но с первой же секунды стало очевидно, что этот день был не из таких. Перси явно изнемогал от злобы. Его черная душа поблескивала в суженных глазках. Он подергивал хвостом из стороны в сторону и мерил Уэбстера вызывающим взглядом, гнусно ухмыляясь.
Затем, пошевелив усами, что-то сказал тихим голосом.
Пока Перси не заговорил, Уэбстер словно бы не замечал его появления. Он все еще умывался после своего путешествия. Но, услышав эти словечки, он вздрогнул и поднял голову. И едва он увидел Перси, как его уши прижались к голове, а в глазах вспыхнул боевой огонь.
Наступила секундная пауза. Кот мерил взглядом кота. Затем, хлеща себя хвостом по бокам, Перси повторил свое заявление уже громче. И сказал мне Ланселот, с этого момента он понимал их диалог от слова и до слова, будто много лет изучал кошачий язык.
Вот какой произошел обмен фразами:
УЭБСТЕР. Кто? Я-а?
ПЕРСИ. Да, ты.
УЭБСТЕР. Что ты сказал?
ПЕРСИ. Что слышал.
УЭБСТЕР. Значит, так?
ПЕРСИ. Так.
УЭБСТЕР. Так?
ПЕРСИ. Так. Ну-ка подойди, и я откушу, что у тебя осталось от уха.
УЭБСТЕР. Так? Ты, значит, откусишь, а еще кто?
ПЕРСИ. Иди-иди сюда. Я тебе покажу.
УЭБСТЕР (жарко покраснев). Покажешь? Ты? Ну и нахал! Ну и наглец! Да я до завтрака съедал котов почище тебя! (Обращаясь к Ланселоту.) Подержи-ка мой пиджак и посторонись. А ну!
Затем раздалось шипение, и Уэбстер двинулся вперед в полном боевом порядке. Секунду спустя с подоконника в комнату скатился мохнатый клубок, напоминавший семнадцать кошек, сплетенных в тесном объятии.
Кошачий бой принципиального значения – всегда впечатляющее зрелище, но, по словам Ланселота, хотя это обещало стать ярким и захватывающим, его внимание было приковано не к перипетиям боя, а к епископу Бонго-Бонго.
В первые мгновения схватки черты прелата не выдавали никаких чувств, кроме сокрушенной тревоги и скорби. «Как упал ты с неба, денница, сын зари», – словно говорил он вместе с пророком Исайей, глядя, как его в былом непорочный любимец отбивает атаки Перси при помощи чего-то вроде шестнадцати одновременно действующих лап. Затем, внезапно, его лицо озарила страстная гордость за боевой талант Уэбстера, а также спортивный азарт, который так легко загорается во всех нас. Багрово покраснев, излучая фанатичный энтузиазм болельщика, он кружил вокруг бойцов, подбодряя своего словами и жестами:
– Отлично! Превосходно! Хороший удар, Уэбстер!
– Хук левой, Уэбстер! – вскричал Ланселот.
– Именно! – пробасил епископ.
– Врежь по сопелке, Уэбстер!
– Именно по ней! – согласился епископ. – Этот термин для меня нов, но я полностью одобряю его выразительность и энергичность. Всеконечно, врежь ему по сопелке, мой дорогой Уэбстер!
Именно в эту секунду в комнату торопливо вошла леди Уиддрингтон, привлеченная шумом поединка. И как раз успела увидеть, как Перси наткнулся на свинг правой и взлетел на подоконник, по пятам преследуемый своим противником. До Перси мало-помалу дошло, что, ввязавшись в этот бой, он срубил дерево не по плечу и сильно вляпался. Теперь он хотел одного: сбежать. Но Уэбстер не посчитался с выброшенным полотенцем, и доносящиеся снаружи вопли свидетельствовали, что бой возобновился на газоне.
Леди Уиддрингтон застыла в ужасе. При виде того, как ее любимец бесповоротно сдал позиции, она забыла о своих матримониальных планах. И перестала быть хладнокровной целеустремленной женщиной, намеревавшейся доставить епископа к алтарю, даже если бы пришлось пустить в ход хлороформ. Теперь она была возмущенной котолюбительницей и повернулась к своему гостю, сверкая глазами.
– Что, – вопросила она грозно, – это означает?
Епископ все еще пребывал под воздействием недавнего возбуждения.
– Ваш мерзкий котище сам напросился, вот Уэбстер его и отделал!
– И еще как! – поддержал Ланселот. – Этот тычок в нос левой!
– А молниеносный апперкот правой?! – воскликнул епископ.
– Ни один кот в Лондоне против него не устоит.
– В Лондоне? – сказал епископ с горячностью. – Во всей Англии! О, несравненный Уэбстер!
Леди Уиддрингтон гневно топнула ногой:
– Я требую, чтобы вы уничтожили этого кота!
– Какого кота?
– Вот этого, – ответила леди Уиддрингтон, указывая на подоконник.
Там стоял Уэбстер. Он чуть запыхался, а его ухо было потрепано даже еще больше, но на морде играла торжествующая улыбка победителя. Он поворачивал голову туда-сюда, словно выглядывая микрофон, чтобы сказать своим жадно внимающим поклонникам два-три скромных слова.
– Я требую, чтобы это бешеное животное было уничтожено! – сказала леди Уиддрингтон.
Епископ ответил ей невозмутимым взглядом.
– Сударыня, – сказал он, – я не намерен поддерживать подобный план.
– Вы отказываетесь?
– Безусловно, отказываюсь. Никогда еще я не ценил Уэбстера так высоко, как в эту минуту. Я считаю его благодетелем общества и готовым к самопожертвованию альтруистом. Несомненно, уже много лет все здравомыслящие люди жаждали обойтись с вашим омерзительным котом так, как сейчас с ним обошелся Уэбстер, к которому я не испытываю иных чувств, кроме восхищения и благодарности. Более того, я намерен лично и собственноручно преподнести ему миску, полную рыбы.
Леди Уиддрингтон судорожно вздохнула.
– Только не в моем доме, – сказала она.
И нажала на звонок.
– Фотерингей, – сказала она сухим холодным голосом появившемуся дворецкому, – епископ покидает нас сегодня. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы его чемоданы были упакованы к поезду шесть сорок две.
Она величественно вышла из комнаты. А епископ обернулся к Ланселоту с благосклонной улыбкой:
– У меня как раз останется время выписать тебе чек, мой мальчик.
Он нагнулся, подобрал Уэбстера в свои объятия, и Ланселот, торопливо взглянув на них, тихо прокрался вон из комнаты. Эта священная минута была не для посторонних глаз.
Открытый дом
Мистер Муллинер отложил письмо, которое читал, и благодушно улыбнулся маленькому обществу в зале «Отдыха удильщика».
– Весьма приятно, – прожурчал он.
– Хорошие новости? – осведомились мы.
– Превосходные, – сказал мистер Муллинер. – Письмо от моего племянника Юстеса, сотрудника нашего посольства в Швейцарии. Он полностью оправдал семейные ожидания.
– Преуспевает, а?
– В полной мере, – подтвердил мистер Муллинер и задумчиво усмехнулся своим мыслям. – Поразительно, – продолжал он, – теперь, когда этот юноша добился таких успехов, странно вспоминать, каких трудов нам стоило отправить его туда. Одно время казалось, что убедить его невозможно. И правда, если бы не вмешалась Судьба…
– Неужели он не хотел получить место в посольстве?
– Сама мысль об этом вызывала у него отвращение. Благодаря влиянию его крестного отца, лорда Наббл-Нопского, ему открылась столь заманчивая перспектива, а он упорно отказывался. Говорил, что хочет остаться в Лондоне. Ему нравится Лондон, твердил он, и его не заставят расстаться со старушкой столицей ни за какие коврижки.
Остальным его родным и близким такое упрямство казалось всего лишь глупым капризом. Но я пользовался особым доверием юноши и знал, что у него есть веские причины для подобного решения. Во-первых, ему было известно, что он любимый племянник своей тети Джорджианы, неутешной вдовы покойного сэра Катберта Бизли-Бизли, баронета, дамы преклонных лет и весьма состоятельной. А во-вторых, он как раз влюбился в девушку по имени Марселла Чикчиррикит.
– Ну и хорошим же я буду ослом, если ускачу в Швейцарию, – сказал он мне однажды, когда я пытался сломить его сопротивление. – Разве я не должен оставаться тут, чтобы время от времени смазывать маслом тетушку Джорджиану? А если вы думаете, что девушку вроде Марселлы Чикчиррикит можно обратать с помощью почты, вы очень и очень ошибаетесь. Утром кое-что случилось, и мне показалось, что она слабеет, а именно в такой момент личное воздействие совершенно необходимо. И скорее вечная скала сдвинется со своего несокрушимого основания, чем я поддамся на угрозы и мольбы, – заявил Юстес, который, подобно многим и многим Муллинерам, таил в себе поэта.
А утром, как я узнал позднее, произошло вот что: Марселла Чикчиррикит позвонила моему племяннику по телефону.
– Алло! – сказала она. – Это Юстес?
– Да, – ответил Юстес, потому что это был он.
– Вот что, Юстес, – продолжала она. – Я завтра уезжаю в Париж.
– Нет! – вскричал Юстес.
– Да, уезжаю, осел безмозглый, – сказала девушка, – и в доказательство могу предъявить билет. Слушай, Юстес. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Ты знаешь мою канарейку?
– Уильяма?
– Именно Уильяма. А моего пеки знаешь?
– Твоего пекинеса Реджинальда?
– Совершенно верно – Реджинальда. Взять их с собой я не могу, так как Уильям терпеть не может поездок, а Реджинальду по возвращении пришлось бы провести в карантине шесть месяцев, и он брызгал бы пеной от ярости. Так не предложишь ли им пару постелей, пока меня не будет?
– О чем речь! – сказал Юстес. – Мы держим открытый дом, мы, Муллинеры.
– Они тебе никаких хлопот не доставят. Реджинальд отнюдь не атлет. Двадцатиминутная бодрая прогулка по парку один раз в день – вот и все, в чем он нуждается в смысле упражнений. Ну, а в смысле пищи, корми его тем, что ешь сам, – сырое мясо, галеты для щенков и так далее. Коктейлей ему не давай. Они выводят его из равновесия.
– Бу сделано, – сказал Юстес. – Пока вроде бы все тип-топ. Ну, а Уильям?
– Re[37] Уильяма, он в смысле корма немножко эксцентричен. Только Богу известно, почему ему нравится конопляное семя и крестовник. Сама я их в рот не взяла бы. Конопляное семя можешь купить в лавочке, торгующей конопляным семенем.
– А крестовник, полагаю, в лавочке, торгующей крестовником.
– Вот именно. И выпускай Уильяма из клетки раза два в день, чтобы он сбрасывал вес, порхая по комнате. Он сразу возвращается в клетку, едва примет ванну. Все усек?
– Как тигр, – сказал Юстес.
– Держу пари, ты даже не слушал.
– Нет слушал. Реджинальду погулять, Уильяму попорхать.
– Все правильно. Ну, договорились. И помни, мне эта парочка очень дорога, так что береги их, как собственную жизнь.
– Абсолютно, – сказал Юстес. – Категорически. Само собой. Еще бы. Только так.
Разумеется, если учесть дальнейшие события, теперь в этих словах чудится глубокая ирония, но мой племянник сказал мне, что это был счастливейший миг в его жизни.
Он любил эту девушку всеми фибрами души, и ему мнилось, что раз уж из всех, кто толпился вокруг нее, она именно на него возложила исполнение столь священного долга, вывод мог быть лишь один: она считает его надежнейшим и достойнейшим человеком, на которого можно опереться.
«Все остальные, – конечно же, сказала она себе, проглядывая список своих друзей, – что они, в сущности, такое? Бездумные мотыльки. Но Юстес Муллинер – он не таков. Прочнейший материал. Молодой человек с характером».
Радость переполняла его и еще по одной причине. Как ни будет он тосковать в разлуке с Марселлой Чикчиррикит, ее отъезд из Лондона вполне его устраивал – на короткий срок, естественно. В этот момент его сердечные дела несколько запутались, и ее отсутствие давало ему возможность все исправить и наладить.
Примерно неделю назад он был безумно влюблен в другую девушку, некую Беатрису Уоттерсон. Потом на богемной вечеринке познакомился с Марселлой и незамедлительно распознал в ней бесконечно более достойный предмет для своей страсти.
Именно такого рода случаи усложняют жизнь беззаботного молодого человека. Он слишком уж склонен делать выбор, не пройдя прилавок до конца. Он отдает любовь сильного мужчины девушке А и только-только кончает поздравлять себя, как появляется девушка Б, о чьем существовании он даже не подозревал, и он убеждается, что выбрал совсем не ту, и ему приходится трудиться денно и нощно, чтобы заменить не ту на ту.
В этот момент Юстес думал только о том, как свести Беатрису на нет, расчистив таким образом сцену и обеспечив себе возможность сосредоточить все свои душевные порывы на Марселле. Отъезд Марселлы из Лондона как раз предоставлял ему необходимый досуг для этой операции.
Для сведения Беатрисы на нет он в день отъезда Марселлы пригласил Беатрису выпить с ним чаю, и за чаем Беатриса случайно, как это водится у девушек, упомянула, что в следующее воскресенье – день ее рождения, а Юстес сказал: «Да неужели? Так позавтракай со мной у меня дома», – а Беатриса сказала, что с восторгом, – а Юстес сказал, что должен сделать ей самый замечательный подарок, а Беатриса сказала: «Да нет, не надо», – а Юстес сказал, что, черт подери, сделает, и все. Так что процессу сведения на нет было положено отличное начало, ибо Юстес знал, что еще в субботу он уедет к своей тетушке Джорджиане провести воскресенье с ней в Уитлфорде-и-Багсли-на-Море, а потому, когда девушка явится, облизываясь в предвкушении завтрака, и обнаружит, что не только ее гостеприимный хозяин отсутствует, но и что в квартире нет ничего, хоть отдаленно смахивающего на подарок, она разобидится и станет с ним холодной, неприветливой и суровой.
Такт, говорил мне мой племянник, вот что требуется в подобных случаях. Ведь цель – добиться желанного результата, никому не причиняя боли. И без сомнения, он совершенно прав.
После чая он вернулся к себе, бодро сходил прогуляться с пекинесом Реджинальдом, дал Уильяму попорхать и отошел в этот вечер ко сну, чувствуя, что Господь на небе и что все прекрасно в этом лучшем из миров.
Следующий день выдался солнечным и теплым, а потому Юстес подумал, что Уильям будет доволен, если выставить его клетку вместе с ним на подоконник, чтобы он мог насытить свой организм ультрафиолетовыми лучами. Юстес так и поступил, после чего, обеспечив Реджинальду необходимый моцион, вернулся к себе, чувствуя, что заслужил глоток какого-нибудь взбодряющего напитка. Он дал соответствующие инструкции Бленкинсопу, своему камердинеру, и вскоре в его квартире уже в ощутимой степени воцарился благостный мир. Уильям упоенно испускал трели на подоконнике, Реджинальд после прогулки отдыхал под диваном, а Юстес прихлебывал виски с содовой, беззаботно радуясь жизни, как вдруг дверь отворилась, и Бленкинсоп доложил о госте.
– Мистер Орландо Уозерспун, – сказал Бленкинсоп и удалился, чтобы продолжить в своих владениях штудирование журнала, посвященного исключительно кино.
Юстес поставил стакан на стол и поднялся для обмена приветствиями. Впрочем, он несколько недоумевал, если не сказать – был ошарашен. Фамилия Уозерспун никак не отозвалась в его памяти, и, насколько ему помнилось, прежде он этого человека ни разу не видел.
А Орландо Уозерспун был не из тех, кого, раз увидев, легко забыть. Природа, создавая его, не поскупилась на материал, и посетитель заполнил собой комнату, лишь чуть-чуть не переливаясь через край. Когда Уозерспун входил, ему предшествовали ниспадающие усы, соперничая с приспособлением для процеживания супа, а глаза у него обладали таким пронизывающим свойством, что вызывали ассоциации с совами, старшими сержантами и инспекторами Скотленд-Ярда.
Юстесу стало несколько не по себе.
– Приветик! – сказал он.
Орландо Уозерспун просверлил его взглядом – как показалось Юстесу, враждебным. Будь Юстес особенно мерзким тараканом, этот человек посмотрел бы на него именно так. В его глазах появилось выражение, которое можно наблюдать у жителя пригорода, когда он обозревает слизней на грядке салата.
– Мистер Муллинер? – осведомился он.
– Вполне вероятно, – сказал Юстес, чувствуя, что это вполне может быть правдой.
– Моя фамилия Уозерспун.
– Да-да, – сказал Юстес. – То же самое сказал Бленкинсоп, а я давно убедился, что обычно могу на него полагаться.
– Я живу в доме по ту сторону сквера.
– Так, так, – сказал Юстес, все еще недоумевая. – И хорошо проводите там время?
– Если вас это интересует, то обычно моя жизнь течет спокойно. Но нынче утром я увидел зрелище, которое нарушило мою душевную безмятежность, и кровь закипела у меня в жилах.
– Если так, это скверно, – сказал Юстес. – И что же заставило вашу кровь вести себя в вышеуказанной манере?
– Я скажу вам, мистер Муллинер. Несколько минут назад я сидел у окна, набрасывая речь, которую мне предстоит сказать на ежегодном банкете Лиги Наших Бессловесных Корешей, каковой я имею честь быть бессменным вице-президентом, и вдруг, к моему ужасу, я увидел дьявола во плоти, терзающего беспомощную пичужку. Несколько минут я продолжал смотреть, парализованный возмущением, а кровь стыла у меня в жилах.
– Вы же сказали: кипела.
– Сначала кипела, потом стыла. Я беспредельно негодовал на этого дьявола во плоти.
– Я вас не осуждаю, – сказал Юстес. – Если есть субъекты, к кому я безоговорочно поворачиваюсь спиной, так это к дьяволам во плоти. Так кто же этот негодяй?
– Муллинер, – сказал Орландо Уозерспун, указуя перстом, который смахивал на баклажан или на небольшой банан, – злодей – ты!
– Что-что?
– Да, – повторил собеседник, – ты! Муллинер Палач Птиц! Муллинер Бич Наших Пернатых Друзей! Чего ты добивался, ты, Торквемада, помещая эту канареечку на подоконник прямо под палящее солнце? Как бы ты чувствовал себя, если бы какой-нибудь пучеглазый убийца оставил тебя на солнцепеке без шляпы, чтобы ты изжарился прямо на месте? – Он подошел к окну и перенес клетку внутрь комнаты. – Это людишки вроде тебя, Муллинер, вставляют палки в колеса всемирного прогресса и делают необходимым общества вроде Лиги Наших Бессловесных Корешей.
– Я думал, пичуге там нравится.
– Муллинер, ты лжешь, – сказал Орландо Уозерспун.
И взгляд, который он бросил на Юстеса, убедил последнего, что он, как ему смутно чудилось с самого начала, не обзавелся новым другом.
– Да, кстати, – сказал Юстес, надеясь разрядить атмосферу, – не выпьете ли глоточек?
– Я не выпью ни единого глоточка!
– Ладненько, – согласился Юстес, – ни глоточка так ни глоточка. Но вернемся к повестке дня. Вы несправедливы ко мне, Уозерспун. Я мог допустить глупую ошибку, но, Бог свидетель, намерения у меня были самые благие. Честное слово, я думал, Уильям будет визжать от восторга, если я выставлю его клетку на солнышко.
– Ф-фа! – сказал Орландо Уозерспун.
И в этот момент песик Реджинальд, разбуженный голосами, выбрался из-под дивана в уповании, что происходящее тут может увенчаться кусочком сахара.
При виде честной мордочки Реджинальда Юстес воспрял духом. Между ними уже завязалась теплая дружба, основанная на взаимном уважении. Он протянул руку и причмокнул.
К несчастью, Реджинальд как раз узрел усы крупным планом и в убеждении, что против него готовятся козни, испустил пронзительный визг, а затем нырнул назад под диван, где и затаился, настойчиво взывая о помощи.
Орландо Уозерспун истолковал случившееся наичернейшим образом.
– Ха, Муллинер! – сказал он. – Расчудесно! Тебе мало обрекать адским мукам канареек, ты, кроме того, изливаешь свою нечеловеческую злобу на эту невинную собачку, которая при одном твоем виде убегает с воем.
Юстес попытался рассеять недоразумение:
– Не думаю, что он возражает против одного моего вида. Я часто наблюдал, как он подолгу смотрел на меня, не дрогнув ни единым мускулом.
– Так чем же ты объяснишь видимое волнение указанного животного?
– Ну, по правде говоря, – заметил Юстес, – мне кажется, причина в том, что ему пришлись не по душе ваши усы.
Его гость начал задумчиво закатывать левый рукав пиджака.
– Ты осмеливаешься критиковать мои усы, Муллинер?
– Нет-нет, – запротестовал Юстес. – Меня они восхищают.
– Мне было бы грустно думать, – сказал Орландо Уозерспун, – что ты бросаешь тень на мои усы, Муллинер. Моя бабушка часто называет их самыми великолепными во всем лондонском Уэст-Энде. «Львиные» – вот каким прилагательным она пользуется. Но возможно, ты считаешь мою бабушку пристрастной? Быть может, по-твоему, она глупая старуха, с чьим мнением не стоит считаться?
– Нет, и еще раз нет, – сказал Юстес.
– Я рад, – сказал Уозерспун. – Не то ты был бы третьим, кого я проучил до полусмерти за оскорбление моей бабушки. Или, – он задумался, – четвертым? Могу справиться с моими записями и сообщить тебе.
– Не затрудняйтесь, – сказал Юстес.
В беседе наступило затишье.
– Хорошо, Муллинер, – сказал наконец Орландо Уозерспун, – я вас покину. Но разрешите сказать вам следующее. Вы еще обо мне услышите. Смотрите! – Он достал записную книжку. – Здесь я веду черный список дьяволов во плоти, за которыми требуется пристальное наблюдение. Ваше имя, будьте так добры?
– Юстес.
– Возраст?
– Двадцать четыре.
– Рост?
– Пять футов десять дюймов.
– Вес?
– Ну, – сказал Юстес, – когда вы вошли, я весил около ста пятидесяти одного фунта. По-моему, теперь я вешу несколько меньше.
– Запишем сто сорок семь фунтов. Благодарю вас, мистер Муллинер. Теперь все в полном порядке. Вы занесены в список подозреваемых, кого я посещаю без предварительного предупреждения. С этой минуты вы уже не будете знать, когда мой стук раздастся или не раздастся в вашу дверь.
– В любое удобное для вас время, – сказал Юстес.
– Лига Наших Бессловесных Корешей, – сказал Орландо Уозерспун, пряча записную книжку, – в подобных случаях проявляет разумную мягкость. Нам, ее членам, предписано обходиться с дьяволами во плоти сдержанно и осмотрительно. На первый раз мы ограничиваемся предупреждением. А затем, вернувшись домой, я не премину отправить вам экземпляр нашей последней брошюры. В ней подробно изложено, что произошло с Д.Б. Стоуксом, Манглсбери девять, Западный Кенсингтон, когда он не внял предупреждению и не прекратил швырять корнеплоды в своего кота. До свидания, мистер Муллинер. Не трудитесь провожать меня до двери.
Молодые люди типа моего племянника Юстеса по натуре не склонны падать духом надолго. Описанная беседа имела место в четверг. В пятницу примерно к часу дня Юстес практически позабыл про этот эпизод. А к полудню в субботу он уже вновь полностью обрел свою веселую беззаботность.
Как вы, возможно, помните, это была именно та суббота, когда Юстесу предстояло отправиться в Уитлфорд-и-Багсли-на-Море провести остаток этого дня и воскресенье с тетей Джорджианой.
Уитлфорд-и-Багсли-на-Море, как меня заверяли те, кто побывал там, далеко не Париж и не довоенная Вена. Собственно говоря, когда приезжий пройдется по пирсу и бросит пенни в автомат в обмен на ириску, он исчерпает вихрь удовольствий, на которые так жадно молодое поколение.
Тем не менее Юстес обнаружил, что думает об этом визите с вожделением. Не говоря уж о том, что он укрепит расположение к нему дамы, сочетающей обладание сотней тысяч фунтов в железнодорожных акциях с наследственно слабым сердцем, он получал еще и приятную возможность рисовать в своем воображении, как через сутки после его отъезда девушка Беатриса позвонит в дверь пустой квартиры и удалится в состоянии горькой досады и с удивленно поднятыми бровями, а он обретет свободу выражать свою индивидуальность в деле покорения девушки Марселлы.
Юстес весело насвистывал, наблюдая, как Бленкинсоп пакует его чемодан.
– Вы полностью освоили программу действий на время моего отсутствия, Бленкинсоп? – сказал он.
– Да, сэр.
– Вывести мастера Реджинальда на ежедневную прогулку.
– Да, сэр.
– Присмотреть, чтобы мастер Уильям попорхал.
– Да, сэр.
– И не перепутайте их. То есть не давайте Реджинальду порхать и не выводите Уильяма на прогулку.
– Нет, сэр.
– Чудненько! – сказал Юстес. – А в воскресенье, Бленкинсоп, иными словами, завтра к завтраку заявится одна девица. Объясните ей, что меня тут нет, и предоставьте ей все, чего она ни пожелает.
– Слушаюсь, сэр.
Юстес отправился в путь с легким сердцем. Прибыв в Уитлфорд-и-Багсли-на-Море, он отлично отдохнул, раскладывая пасьянсы с тетушкой, время от времени почесывая ее котика за левым ухом и прогуливаясь по набережной. В понедельник поездом двенадцать сорок он вернулся в Лондон с ласковыми напутствиями тетушки.
– В следующую пятницу я буду в Лондоне проездом в Харрогет, – сказала она, когда они прощались. – Ты не напоишь меня чаем?
– Буду в восторге, тетя Джорджиана, – ответил Юстес. – Меня очень огорчает, что вы так редко предоставляете мне случай угощать вас в моей квартире. Четыре тридцать, следующая пятница. Бу сделано!
Все, казалось ему, складывалось как нельзя лучше, и он пребывал в самом радужном настроении. И порядочное время распевал в поезде.
– Свистать всех наверх, Бленкинсоп! – сказал он, входя в квартиру и чуть не покатываясь от хохота. – Все хорошо?
– Да, сэр, – сказал Бленкинсоп. – Надеюсь, вы провели время приятно?
– Лучше некуда, – сказал Юстес. – Как поживают бессловесные кореши?
– Мастер Уильям пышет здоровьем, сэр.
– Чудесно! А Реджинальд?
– О мастере Реджинальде я из первых рук ничего сказать не могу, сэр, поскольку названная вами девица его вчера увезла.
Юстес вцепился в спинку первого попавшего под руку стула.
– Увезла его?
– Да, сэр. Взяла с собой. Если вы помните свои последние распоряжения, сэр, вы поручили мне предоставить ей все, чего она ни пожелает. Она выбрала мастера Реджинальда. И поручила мне передать вам, как сожалеет, что не повидала вас, но, разумеется, она понимает, что вы не могли обмануть ожидания вашей тетушки и что, раз вы твердо решили сделать ей подарок ко дню рождения, она берет мастера Реджинальда с собой.