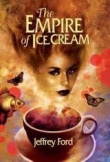Текст книги "Вся правда о Муллинерах (сборник) (СИ)"
Автор книги: Пэлем Грэнвилл Вудхауз
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 46 страниц)
Бестселлер
Безмятежную тишину, окутывавшую залу «Отдыха удильщика», внезапно нарушило хлюпанье, явно исторгнутое у страдающей души.
И, посмотрев в направлении этого звука, мы узрели, как мисс Постлетуэйт, наша чувствительная буфетчица, утирает глаза кухонным полотенцем.
– Извините, что побеспокоила, – сказала мисс Постлетуэйт в ответ на наши встревоженные взгляды, – но он как раз уплыл в Индию, а ее оставил стоять с крепко сжатыми губами и сухими глазами перед залитым лунным светом старинным домом. А ее песик подполз к ней и лизнул ей пальцы, будто все понимает и сочувствует ей.
Мы растерянно уставились друг на друга. И только мистер Муллинер, с обычной своей проницательностью, тотчас проник в суть тайны.
– А-а! – сказал мистер Муллинер. – Как я понимаю, вы читаете «Пионы памяти». И как они вам?
– Чудный роман, – сказала мисс Постлетуэйт. – Обнажает душу Женщины, будто скальпелем.
– И вы не считаете, что он уступает предыдущим? По-вашему, он не хуже «Разошедшихся путей»?
– Даже лучше.
– А! – сказал Пинта Портера, поняв, что к чему. – Вы читали роман?
– Последнее творение, – сказал мистер Муллинер, – вышедшее из-под пера создательницы «Разошедшихся путей», романа, который, как вы, без сомнения, помните, произвел такую сенсацию несколько лет назад. Меня творчество этой писательницы интересует особенно, так как она моя племянница.
– Ваша племянница?
– По мужу. В частной жизни она – миссис Эгберт Муллинер. – Он допил горячее шотландское виски с лимонным соком и задумался. – Быть может, – сказал он затем, – вам будет интересно послушать историю моего племянника Эгберта и его будущей жены? Незатейливая повесть, всего лишь одна из тех берущих за душу простых человеческих драм, которые ежедневно разыгрываются вокруг нас. Если мисс Постлетуэйт, несмотря на эмоциональный кризис, найдет в себе силы налить мне еще стаканчик, я буду рад ознакомить вас с ней.
Прошу вас вообразить (продолжал мистер Муллинер), как июньской ночью мой племянник Эгберт стоит у конца пирса – достопримечательности живописного маленького курорта Бэроуш-Бей – и собирается с духом, чтобы задать Эванджелине Пембери вопрос, который рвется из самых глубин его сердца. Он стремился задать его сотню раз и сотню раз не осмеливался. Но в этот сто первый раз он чувствовал себя на редкость в форме и, откашлявшись, заговорил.
– Есть нечто, – сказал он тихим хриплым голосом, – о чем я хочу вас спросить.
Он умолк. Почему-то у него перехватило горло. Девушка смотрела на волны, озаренные луной. Ночь была удивительно безветренной. Издалека доносились еле слышные звуки городского оркестра, который кое-как пробирался через «Песню о вечерней звезде» из «Тангейзера», спотыкаясь из-за второго тромбона, который перепутал ноты и играл «Свадьбу куколки».
– Нечто, – сказал Эгберт, – о чем я хочу вас спросить.
– Продолжайте, – прошептала она.
Вновь он помолчал. Он страшился. Ее ответ значил бы для него так много!
Эгберт Муллинер приехал на этот маленький тихий курорт ради лечебного отдыха. По профессии он был младшим редактором в штате «Еженедельного книголюба», и, как известно каждому статистику, младшие редакторы литературных еженедельников занимают почетное место в списке опасных профессий. Лишь самые закаленные способны без дурных последствий для себя вести беседы с дамами, творящими романы.
В течение шести месяцев неделю за неделей Эгберт Муллинер слушал, как дамы-романистки рассуждают об Искусстве и о своих Идеалах. Он созерцал их в уютных уголках роскошных будуаров, наблюдал, как они ласкали собак и были истинно счастливы только среди своих цветов. И однажды утром владелец «Еженедельного книголюба» застал молодого человека, когда тот с клочьями пены на губах глухо и монотонно твердил: «Аврелия Макгоггин черпает вдохновение из благоухания белых лилий!» – и немедленно отвез его к специалисту.
– Да, – сказал специалист, послушав грудь Эгберта через подобие телефонного аппарата, – мы капельку переутомились, мы согласны? Мы видим плавающие в воздухе пятна и порой склонны лаять, как морские львы, просто из-за угнетенности духа? Так-так. Нам требуется пополнить запас красных кровяных телец в наших кровеносных сосудах.
И пополнение это осуществилось сразу же, едва он в первый раз увидел Эванджелину Пембери. Они познакомились на пикнике. Когда Эгберт на мгновение оторвался от извлечения песка из своего салата с курицей, его взгляд упал на божественную девушку, прихлопывающую осу чайной ложкой. И впервые с той минуты, когда Эгберт, шатаясь, вышел из редакции «Еженедельного книголюба», он перестал ощущать себя чем-то таким, что кошка извлекла из мусорного бака, обследовала и, покачав головой, отвергла как непригодное для кошачьего употребления. Во мгновение ока орды красных кровяных телец понеслись в буйной радости по его кровеносным сосудам. Миллионы их радостно плескались, кувыркались и весело кричали миллионам все еще робко жавшимся по берегам: «Прыгайте к нам! Кровь сегодня отличная!»
Десять минут спустя он пришел к выводу, что жизнь без Эванджелины Пембери будет безводной пустыней.
И все же он никак не решался положить сердце к ее ногам. Она выглядела той самой. Она казалась той самой. Вполне возможно, что она и была той самой. Но прежде чем сделать ей предложение, он должен был удостовериться, что это именно так. Ему было необходимо убедиться, что она внезапно не вытащит рукопись, скрепленную в верхнем левом углу розовым шелковым шнурочком, и не попросит у него нелицеприятного отзыва. У всех что-нибудь да вызывает омерзение. Одни не терпят слизней, другие – тараканов. Эгберт Муллинер не терпел романисток.
И вот теперь, когда они стояли рядом в лунном сиянии, он сказал:
– Ответьте мне. Вы написали хотя бы один роман?
Она как будто удивилась:
– Роман? Нет.
– Так может быть – рассказы?
– Нет.
Эгберт понизил голос.
– Стихи? – прошептал он хрипло.
– Нет.
Больше Эгберт не колебался. Он извлек свою душу, как фокусник извлекает кролика из шляпы, и шмякнул ее перед Эванджелиной. Он поведал ей о своей любви, подчеркивая глубину, чистоту, а также удивительную прочность последней. Он взывал, умолял, закатывал глаза, сжимал ее нежную ручку в своих. А когда сделал перерыв в ожидании ответа и услышал, что она много думала в том же ракурсе и чувствует к нему примерно то же, что он к ней, Эгберт еле удержался на ногах. Чаша его радости переполнилась.
Странно, как по-разному действует любовь на разных людей. Любовь заставила Эгберта отправиться с утра на поле для гольфа и пройти десять лунок с побитием своего рекорда. Тогда как Эванджелина, ощутив в душе незнакомое прежде брожение, требовавшее немедленного выхода, села за маленький, почти антикварный столик, съела пять цукатов и начала писать роман.
Три недели солнечного света и озона в Бэроуш-Бей подняли тонус Эгберта настолько, что его медицинский опекун счел возможным для него без опаски вернуться в Лондон и приступить к исполнению своих жутких обязанностей. Эванджелина последовала за ним через месяц. Она достигла своего дома в четыре пятнадцать солнечного дня, а в четыре шестнадцать с половиной в дверь влетел Эгберт, чьи глаза светились любовью.
– Эванджелина!
– Эгберт!
Но не станем задерживаться на восторгах воссоединившихся влюбленных, а прямо перейдем к тому моменту, когда Эванджелина подняла головку с плеча Эгберта и слегка хихикнула. Приятней было бы сказать, что она звонко засмеялась. Но это не был звонкий смех. Это было хихиканье – смущенное, зловещее, пристыженное хихиканье, и непонятный страх заморозил кровь в жилах Эгберта. Он уставился на нее, а она снова хихикнула.
– Эгберт, – сказала она, – я хочу тебе кое-что сообщить.
– Что? – сказал Эгберт.
Эванджелина хихикнула еще раз.
– Я знаю, это звучит ужасно глупо, – сказала она, – но…
– Что? Что?
– Я написала роман, Эгберт.
Авторы античных трагедий неколебимо придерживались правила, согласно которому любой эпизод, способный слишком сильно растрогать или привести в ужас зрителей, должен происходить за сценой. Поэтому, строго говоря, следующую сцену следовало бы опустить. Но современная публика куда закаленнее древних греков, а потому воспроизведем ее для протокола.
Комната перестала описывать круги перед агонизирующим взором Эгберта Муллинера. Мало-помалу рояль, стулья, картины и чучела птиц на каминной полке заняли свои обычные места. А он обрел дар речи.
– Ты написала роман? – сказал он уныло.
– Я дошла до двадцать четвертой главы.
– Ты дошла до двадцать четвертой главы?
– Остальное будет просто.
– Остальное будет просто?
И наступило молчание – молчание, нарушаемое только тяжелым дыханием Эгберта. Затем Эванджелина вскричала порывисто:
– Ах, Эгберт, я серьезно думаю, что он очень неплох. Я тебе сейчас почитаю.
Когда на нас обрушивается великая трагедия, как странно бывает оглядываться на относительно безобидное начало наших несчастий и вспоминать свою уверенность, что Судьба уже сотворила самое худшее. Эгберт в этот день воображал, будто достиг предела горести и душевных мук. Эванджелина, твердил он себе, рухнула с пьедестала, на который он ее вознес. Она оказалась тайной романописакой. Это предел, чувствовал он, последняя капля. Все рушилось в тартарары.
Увы, он глубоко ошибался. Это было пределом не в большей степени, чем легкий дождичек может считаться грозовым ливнем.
Ошибка, впрочем, была простительной. Мучительная агония, которую он испытал в этот день, более чем извиняет промашку Эгберта Муллинера, вообразившего, будто он испил горькую чашу до самого дна. Он корчился, как на раскаленных углях, пока слушал эту жвачку, которую она назвала «Разошедшиеся пути». Его душа завязывалась узлами.
Роман Эванджелины был ужасной, неприличной стряпней. Не в том смысле, что он вызвал бы румянец стыда на чьих-либо щеках, кроме щек Эгберта, – но она запечатлела на бумаге прямо и открыто единственную известную ей любовную историю: свою собственную. Да, все нюансы его ухаживания, первый священный поцелуй, она не опустила даже ссоры, которая вспыхнула между ними на второй день их помолвки. В романе она переработала эту ссору, длившуюся двадцать три минуты, в десятилетнюю разлуку, тем самым оправдав название и помешав теме исчерпаться – на двадцати пяти страницах. А что до его предложения, так оно было воспроизведено verbatim.[27] Эгберт содрогался при мысли, что он умудрился осквернить чистый морской воздух такой жуткой белибердой.
Он поражался – как поражались многие и многие мужчины до него – тому, что женщины способны на подобное. Слушая «Разошедшиеся пути», лично он ощущал, будто внезапно потерял брюки, прогуливаясь по Пиккадилли.
Ему хотелось выразить эти чувства в словах, однако Муллинеры славятся своим благородством и великодушием. Он подумал, что будет испытывать нечто вроде стыда, если ударит Эванджелину или пройдется по ее лицу башмаками на очень толстой подошве. Однако этот стыд не шел ни в какое сравнение с тем стыдом, который его охватит, если он выразит вслух один миллиметр того, что думает о «Разошедшихся путях».
– Чудесно! – прохрипел он.
Ее глаза засияли.
– Ты правда так думаешь?
– Отлично.
Он обнаружил, что ему легче обходиться одним словом.
– Не думаю, что какой-нибудь издатель его купит, – сказала Эванджелина.
Эгберту слегка полегчало. Естественно, ничто не могло изменить тот факт, что она написала роман, но, возможно, его удастся скрыть.
– И потому я намерена оплатить расходы по его изданию.
Эгберт промолчал. Он глядел прямо перед собой и пытался закурить авторучку с помощью незажженной спички.
А Судьба зловеще посмеивалась, зная, что она еще только начала играть с Эгбертом.
Каждые три-четыре сезона бывают отмечены Сенсацией. По неведомой причине великое сердце читателей внезапно подпрыгивает и великий кошелек читателей опустошается ради приобретения экземпляров того или другого романа, который прокрался в мир без предварительной рекламы и обзавелся всего одной рекомендацией – двумя строчками в «Вестнике ресторатора», определившими его как «легкий для чтения».
Преуспевающая издательская фирма «Мейнпрайс и Пибоди» выпустила «Разошедшиеся пути» трехтысячным тиражом. А когда издатели, к своему огорчению, обнаружили, что Эванджелина намерена купить из них всего двадцать – почему-то Мейнпрайс, неисправимый оптимист, вбил себе в голову, что она возьмет сотню («Вы можете продавать их своим друзьям»), – они припрятали остальные в ожидании, когда цена на макулатуру поднимется. Получить же солидную прибыль они рассчитывали, издав «Требуху» Стултиции Бодуин, в связи с чем заранее организовали газетную дискуссию на тему: «Возрастающая угроза сексуальных тенденций в беллетристике: существует ли предел?»
Не прошло и месяца, как «Требуха» полностью провалилась. Газетная дискуссия бушевала, оставляя читателей абсолютно равнодушными. Они успели сделать финта и открыть, что секса с них более чем достаточно и что теперь им требуются хорошие, нежные, высоконравственные, чувствительные романы о чистой любви Его и Ее – романы, которые можно оставлять на виду, а не засовывать судорожно под диванную подушку всякий раз, когда раздадутся голоса ваших подрастающих сыновей. Конкретным же романом, которому они отдали свое предпочтение, оказались «Разошедшиеся пути» Эванджелины.
Именно такие стремительные нежданные изменения общественного мнения и заставляют издателей посыпать голову пеплом, а гениальных молодых романистов мчаться в соседнюю лавку узнать, свободно ли еще место младшего продавца. До последнего момента перед этой переменой секс был вернейшей картой. Издательские списки ломились от непотребных историй Мужчин, которые Делали Это, и Женщин, которым Не Следовало бы Делать Это, но которые Попробовали Это. А теперь без малейшего предупреждения буму пришел конец, и у читателей была практически лишь одна возможность удовлетворить свою новорожденную тягу к чистоте и простоте – драться за экземпляры «Разошедшихся путей».
И дрались они, как тигры. Редакционные комнаты «Мейн-прайса и Пибоди» гудели, точно встревоженный улей. Печатные машины работали круглосуточно. От гор Шотландии до скалистых берегов Корнуолла бушевал спрос на «Разошедшиеся пути». В каждом семейном доме любого пригорода «Разошедшиеся пути» покоились на этажерке рядом с горшком аспарагуса и фамильным альбомом. Священники избирали «Разошедшиеся пути» темой для проповедей, пародисты пародировали их, биржевые маклеры рвали билеты в варьете и оставались дома, чтобы поплакать над ними.
В прессе мелькали заметки о вероятной переделке романа в пьесу, музыкальную комедию и звуковой фильм. По слухам, Найгел Плейфер купил права на него для Сибиллы Торндайк, сэр Альфред Батт – для Нелли Уоллес, а Ледди Клифф планировал на их сюжет оперетту со Стенли Лупино и Лесси Хенсон. Намекалось, что Карнера подумывает о роли Перси – героя романа.
И на гребне этой волны, оторопевшая, но счастливая, возносилась Эванджелина.
А Эгберт? Вон он, Эгберт, плещется в болоте уныния. Но нам некогда тревожиться за Эгберта.
Однако у Эгберта хватало досуга тревожиться за себя. День за днем он пребывал в состоянии, которое было бы смешно назвать недоумением. Он был ошеломлен, ошарашен, оглушен колбаской с песком. Смутно до него доходило, что свыше сотни тысяч абсолютно ему незнакомых людей смакуют самое тайное тайных его частной жизни и что в точности те слова, в которые он облек предложение своих руки и сердца, неизгладимо запечатлелись в памяти ста тысяч и более представителей рода человеческого. Впрочем, если не считать ощущения, что его мажут дегтем и вываливают в перьях на глазах у многочисленной толпы ликующих зевак, он особенно из-за этого не расстраивался. По-настоящему же его тревожила перемена в Эванджелине.
Люди легко свыкаются с благополучием. Эванджелина вскоре оставила позади первый период, когда слава была чем-то новым и смущающим. Первое запинающееся интервью стало далеким воспоминанием. К концу следующих двух недель она уже беседовала с репортерами с небрежной снисходительностью видных политиков и обрушивала на молодых людей с блокнотами слова, которые по возвращении в редакцию они лихорадочно разыскивали в увесистых толковых словарях. Ее искусство, говорила она им, более ритмотоническое, нежели архитектурно-структуралистское, и если говорить о близости с кем-то, то она склоняется к сюрреалистам.
Она вознеслась высоко-высоко над малоинтеллектуальными интересами Эгберта. Когда он предложил отправиться на автомобиле в Аддингтон и погонять мячик по полю для гольфа, она попросила извинить ее: ей надо отвечать на письма. Люди все пишут и пишут ей, делясь, как сильно помогли им «Разошедшиеся пути», а со своими читателями необходимо быть любезной. А еще автографы! Нет, правда, у нее нет ни минутки свободной.
Он пригласил ее поехать с ним на чемпионат среди любителей. Она покачала головой. К сожалению, в этот день, сказала она, ей предстоит читать в «Клубе литературы и прогресса Ист-Далвических дщерей Минервы» лекцию «О некоторых тенденциях современной художественной литературы».
Все это Эгберт еще мог стерпеть. Ведь как ни небрежно она позволила себе отозваться о чемпионате среди любителей, он все равно продолжал ее любить всем сердцем. Но тут в его жизнь, будто облако ядовитого газа, вплыла зловещая фигура Джнт. Хендерсона Бэнкса.
– Кто, – спросил он подозрительно в тот день, когда Эванджелина уделила ему десять минут, прежде чем умчаться, чтобы выступить перед «Объединенными матерями Манчестера» на тему «Роман – должен ли он чему-то учить?», – кто этот мужчина, с которым я видел тебя на улице?
– Так это же не мужчина, – ответила Эванджелина, – а мой литературный агент.
Так оно и было. Джнт. Хендерсон Бэнкс теперь вел все дела Эванджелины. Этот выдающийся прыщ на челе общества был своего рода charlotte russe[28] в человеческом облике с очками в черепаховой оправе и воркующе-благоговейной манерой по отношению к своим клиенткам. У него было смуглое романтичное лицо, гибкая фигура, дважды обвивающая шею отвратная штука, не то галстук, не то шарф, и привычка начинать свои фразы обращением «моя дорогая». Короче говоря, ни один жених не стерпел бы, чтобы это отродье липло к его невесте. Если уж Эванджелине приспичило обзавестись литературным агентом, Эгберт выбрал бы для нее одного из тех дородных толстомордых литературных агентов, которые жуют недокуренную сигару и одышливо хрипят, входя в кабинет издателя.
Тень ревности скользнула по его лицу.
– Выглядит немножко прохиндейски, – критически заметил он.
– Мистер Бэнкс, – возразила Эванджелина, – просто гений в своем деле.
– Ах вот как? – сказал Эгберт с язвительной усмешкой.
Вот так все и шло некоторое время.
Очень недолгое. Утром в следующий понедельник Эгберт позвонил Эванджелине по телефону и пригласил ее позавтракать вместе.
– Мне очень жаль, – сказала Эванджелина, – но я обещала позавтракать с мистером Бэнксом.
– О? – сказал Эгберт.
– Да, – сказала Эванджелина.
– А! – сказал Эгберт.
Два дня спустя Эгберт позвонил Эванджелине по телефону и пригласил ее пообедать вместе.
– Мне очень жаль, – сказала Эванджелина, – но я обедаю с мистером Бэнксом.
Через три дня после этого Эгберт явился к Эванджелине с билетами в театр.
– Мне очень жаль, – начала Эванджелина.
– Не договаривай, – сказал Эгберт, – разреши, я отгадаю. Ты идешь в театр с мистером Бэнксом.
– Да. У него билеты на премьеру чеховских «Шести трупов в поисках гробовщика».
– У него, значит, билеты?
– Да. Билеты.
– Билеты, значит.
– Да.
Эгберт раза два прошелся по комнате, и на некоторое время наступила тишина, прерываемая только громким скрипом его зубов. Потом он заговорил.
– Что до этого фурункула Бэнкса, – сказал Эгберт, – я вовсе не против, чтобы ты обзавелась литературным агентом. Если уж тебе понадобилось писать романы, это касается только тебя и твоей совести. И уж если ты не стесняешься писать романы, полагаю, тебе нужен литературный агент. Но – и попрошу тебя слушать со всем вниманием – я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пользоваться услугами литературного агента, который не только называет тебя «моя дорогая», но словно бы считает, что в его обязанности входит кормить тебя завтраками, обедами и водить тебя в театры каждый день.
– Я…
Эгберт властно поднял ладонь.
– Я еще не закончил, – сказал он. – Никто, – продолжал он, – не назовет меня узколобым. Если бы Джнт. Хендерсон Бэнкс чуть меньше смахивал на вошедших в историю великих любовников, мне было бы нечего возразить. Если бы манера Джнт. Хендерсона Бэнкса разговаривать со своими клиентками не так сильно напоминала о соловье, рассыпающем трели перед подругой, я промолчал бы. Но он смахивает, а она напоминает. При подобном положении дел, и учитывая, что мы помолвлены, я считаю своим долгом потребовать, чтобы ты реже виделась с этим вянущим полевым цветочком. Собственно говоря, я рекомендую вырвать его с корнем. Если ему надо будет говорить с тобой о делах, пусть говорит о них по телефону. И надеюсь, он ошибется номером.
Эванджелина уже встала, и ее глаза метали молнии.
– Вот так, значит? – сказала она.
– Значит, – сказал Эгберт, – так вот.
– Так я крепостная? – осведомилась Эванджелина.
– Чего-чего?
– Крепостная. Рабыня. Батрачка. Покорная любому твоему капризу.
Эгберт обдумал услышанное.
– Нет, – сказал он. – Вовсе нет.
– Да, – сказала Эванджелина, – я – не они. И я не допущу, чтобы ты вмешивался в мой выбор друзей.
Эгберт недоуменно уставился на нее:
– Ты имеешь в виду, что после всего мною сказанного ты намерена и впредь позволять этой непотребной хризантеме резвиться вокруг тебя?
– Вот именно.
– Ты серьезно намерена и дальше якшаться с этим отвратным куском сыра?
– Вот именно.
– Ты наотрез и буквально отказываешься дать пинка этой ошибке природы?
– Вот именно.
– Ну-у-у… – сказал Эгберт. В его голосе зазвучала мольба. – Но, Эванджелина, это же говорит твой Эгберт!
Надменная девушка засмеялась жестоким горьким смехом.
– Неужели? – сказала она. И вновь засмеялась. – Вы, кажется, воображаете, что мы все еще помолвлены?
– А разве нет?
– Категорически нет. Вы меня оскорбили, растоптали самые высокие мои чувства, повели себя как гнусный тиран, и я могу только радоваться, что вовремя поняла, что вы за человек. Прощайте, мистер Муллинер.
– Но послушай… – начал Эгберт.
– Уходите! – сказала Эванджелина. – Вот ваша шляпа.
Она властно указала на дверь. И мгновение спустя захлопнула ее у него за спиной.
В лифт вошел Эгберт Муллинер с грозно нахмуренным лицом, а по Слоун-стрит широким шагом удалился Эгберт Муллинер с еще более грозно нахмуренным лицом. Он понял, что его мечтам пришел конец. Он глухо засмеялся, оглядывая развалины замка, который воздвиг в воздухе.
Ну, ему все-таки осталась его работа.
В редакции «Еженедельного книголюба» сотрудники шептались, что с Эгбертом Муллинером произошла перемена. Он словно бы стал более сильным, более несгибаемым мужчиной. Его редактор, который со времени болезни Эгберта относился к нему с трогательной человечностью, разрешал ему оставаться в редакции и писать отзывы на книжные новинки, а интервьюировать дам-романисток посылал других, более стойких духом, теперь видел в нем свою правую руку, на которую можно полагаться безоговорочно.
Когда потребовался очерк «Мэртл Бутл среди своих книг», именно Эгберта он отправил на минные поля Блумсбери. Когда юный Юстес Джонсон, неофит, которому, конечно, не следовало давать столь опасного поручения, был обнаружен ходящим кругами и бьющимся головой о решетку Риджент-парка после всего лишь двадцати минут, проведенных в обществе Лоры Ламотт Гриндли, великой сексуальной романистки, не кто иной, как Эгберт, ринулся в брешь. И вернулся измученный, но без единой раны.
Именно в этот период он проинтервьюировал Мабелле Грангерсон и миссис Гул-Планк в один и тот же день – подвиг, о котором и поныне благоговейно вспоминают в редакции «Еженедельного книголюба». Да и не только там. До сих пор любой литературный редактор подбадривает робких сердцем, которые дрожат и пятятся, гордым призывом: «Помните Муллинера!»
«Разве Муллинер поддался страху? – говорят они. – Разве Муллинер дрогнул?»
И вот, когда понадобилась «Беседа по душам с Эванджелиной Пембери» для специального двойного рождественского номера, редактор в первую очередь подумал об Эгберте и послал за ним.
– А, Муллинер!
– Вызывали, шеф?
– Если уже слышали, остановите меня, – сказал редактор, – но как-то раз ирландец, шотландец и еврей…
Когда обязательное начало разговора между редактором и младшим редактором осталось позади, редактор перешел к делу.
– Муллинер, – сказал он в той ласковой отеческой манере, за которую его любили все сотрудники, – я начну с того, что в вашей власти оказать огромную услугу нашей милой старушке газете. Но после этого я должен сказать вам, что вы можете и отказаться, если захотите. Последнее время вам приходилось нелегко, и, если чувствуете, что задача вам не по силам, я пойму. Однако для специального рождественского номера нам необходима «Беседа по душам с Эванджелиной Пембери».
Он увидел, как содрогнулся его молодой сотрудник, и сочувственно кивнул:
– Вы полагаете, подобная миссия вам не по плечу? Этого я и боялся. Говорят, она хуже всей остальной банды. Высокомерна и рассуждает о возвышении духа. Ну, ничего, посмотрю, можно ли употребить юного Джонсона. Я слышал, он полностью пришел в себя и жаждет реабилитироваться. Да-да, пошлю Джонсона.
Эгберт Муллинер уже полностью овладел собой.
– Нет, шеф, – сказал он. – Я поеду.
– Да?
– Да!
– Нам нужны полтора столбца.
– Вы получите полтора столбца.
Редактор отвернулся, скрывая скупую мужскую слезу.
– Отправляйтесь немедленно, Муллинер, – сказал он, – покончите с этим.
В душе Эгберта Муллинера забушевал ураган противоборствующих эмоций, едва он нажал такую знакомую кнопку звонка, которую никак не ожидал нажать вновь. После их разрыва он видел Эванджелину лишь издали, раза два, не больше. Теперь ему предстояло встретиться с ней лицом к лицу. Радовался ли он или сожалел? Ответа у него не было, он знал лишь, что все еще любит ее.
Он вошел в гостиную. Какой уютной она выглядела – ведь тут все дышало Эванджелиной. Вот диван, на котором он часто сиживал, обвив рукой ее талию.
Шаги у него за спиной предупредили его, что настало время надеть маску. Принудив свои губы раздвинуться в неумолимой улыбке интервьюера, он обернулся.
– Добрый день, – сказал он.
Эванджелина заметно похудела. Либо слава ее измучила, либо она прибегла к восемнадцатидневной диете. Ее красивое лицо словно бы осунулось и, если глаза его не обманывали, казалось изнуренным заботами.
Ему почудилось, что при взгляде на него ее глаза засияли, но он сохранил официальный тон незнакомого человека.
– Добрый день, мисс Пембери, – сказал он. – Я представляю «Еженедельного книголюба». Насколько я понимаю, мой редактор просил вас об интервью, и вы любезно согласились рассказать нам кое-что о своих целях и своем творчестве, столь интересующих наших читателей.
Она закусила губу.
– Прошу вас, садитесь, мистер…
– Муллинер, – сказал Эгберт.
– Мистер Муллинер, – сказала Эванджелина. – Пожалуйста, садитесь. Да, я буду рада рассказать вам все, что вас интересует.
Эгберт сел.
– Вы любите собак, мисс Пембери? – спросил он.
– Обожаю, – сказала Эванджелина.
– Мне бы хотелось чуть позднее, – сказал Эгберт, – если вы не возражаете, сфотографировать, как вы ласкаете собаку. Наши читатели очень ценят такие трогательные проявления человеческих чувств. Вы меня понимаете?
– О, вполне, – сказала Эванджелина. – Я пошлю за какой-нибудь собакой. Я люблю собак… и цветы.
– Без сомнения, истинно счастливой вы чувствуете себя среди ваших цветов?
– В целом да.
– Вам иногда мнится, что это души детишек, умерших в полноте своей невинности?
– Очень часто.
– А теперь, – сказал Эгберт, лизнув кончик своего карандаша, – не коснетесь ли вы немного своих идеалов? Как там ваши идеалы?
Эванджелина замялась.
– О, прекрасно себя чувствуют, – сказала она.
– Ваш роман, – сказал Эгберт, – называют среди величайших инструментов нашей эпохи, способствующих возвышению духа. Каково ваше мнение?
– О да.
– Разумеется, есть романы и романы.
– О да.
– Вы обдумываете преемника «Разошедшимся путям»?
– О да.
– Будет нескромным спросить, мисс Пембери, как далеко вы продвинулись в создании этого нового произведения?
– Ах, Эгберт! – сказала Эванджелина.
Есть речи, перед которыми самолюбие тает, будто лед в августе, обида забывается и исстрадавшееся сердце переполняется нежностью, будто рухнула плотина. Из этих речей «Ах, Эгберт!», тем более в сопровождении слез, особенно проникновенна. «Ах, Эгберт!» Эванджелины сопровождалось Ниагарой слез. Она кинулась на диван и теперь грызла уголок подушки в горестном исступлении. Она судорожно сглатывала, точно бульдог, схвативший кусок ростбифа. И во мгновение ока железная сдержанность Эгберта рухнула, словно ей сделали подсечку. Он метнулся к дивану. Он сжал ее руку. Он погладил ее волосы. Он обнял ее за талию. Он похлопал ее по плечу. Он помассировал ей спину.
– Эванджелина!
– Ах, Эгберт!
Единственной ложкой дегтя в бочке счастья Эгберта Муллинера, когда, стоя рядом с ней на коленях, он бормотал слова утешения, было угрюмое убеждение, что Эванджелина непременно позаимствует все происходящее вместе с диалогом для своего следующего романа. И по этой причине, когда ему удавалось опомниться, он начинал подвергать свои фразы цензуре.
Впрочем, затем в увлечении он забыл про всякую осторожность. Эванджелина цеплялась за него, жалобно шептала его имя. К тому времени, когда он умолк, он выдал около двух тысяч слов, каждое из которых заставило бы Мейнпрайса и Пибоди визжать от радости.
Но он не желал тревожиться из-за этого. Подумаешь! Он свое сказал, а если в результате будут проданы сто тысяч экземпляров, так и пусть их! Он сжимал Эванджелину в объятиях, и ему было все равно, даже если бы его признания перевели на все языки. Включая скандинавские.
– Ах, Эгберт! – сказала Эванджелина.
– Любовь моя!
– Ах, Эгберт, у меня такие неприятности!
– Ангел мой! Какие же?
Эванджелина села прямо и попыталась утереть глаза.
– Мистер Бэнкс…
Бешеная ярость омрачила лицо Эгберта Муллинера. Он мог бы это предвидеть, сказал он себе. Человек, который дважды обматывает галстук вокруг шеи, рано или поздно, но непременно гнусно оскорбит беспомощное нежное создание. Добавьте очки в черепаховой оправе, и вы получите точное подобие дьявола во плоти.
– Я убью его, – сказал он. – Мне следовало бы сделать это давным-давно, но такого рода вещи все как-то откладываешь и откладываешь. Что он сделал? Навязывал тебе свои мерзкие ухаживания? Этот сатир в черепаховой оправе пытался тебя поцеловать? Или еще что-нибудь?