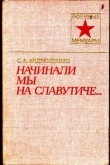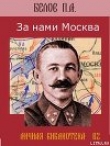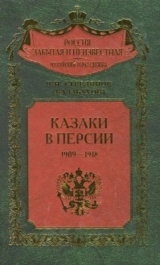
Текст книги "Казаки в Персии 1909-1918"
Автор книги: П. Стрелянов (Калабухов)
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Известно, что как в Первой мировой войне, так и во всех последующих в зимних условиях солдаты, особенно разведчики, использовали для маскировки белые халаты. В 1-м Лабинском полку, за отсутствием такой одежды, вышли из положения по-иному: «17 декабря 1915 года. Мелязгерт... Имея в сотнях белые саваны и белые чехлы на шапки, Войсковой Старшина Абашкин (начальник отряда – 1-я и 3-я роты 8-го Кавказского стрелкового полка, 1-я, 2-я и 3-я сотни 1-го Лабин-ского полка, взвод пулеметов и сотня добровольцев всадников Армянской дружины. – П. С. /К/.) решил их использовать и приказал одеть в них разведчиков-казаков. Они должны были при наступлении идти впереди и снять без тревоги неприятельские сторожевки, дабы дать возможность отряду бесшумно войти в селение для захвата пленных. ...Войсковой Старшина Абашкин приказал командиру 3-й сотни Подъесаулу Бабиеву повернуть левым плечом и атаковать Коп с восточной стороны, обязательно в конном строю, несмотря даже на огонь, проявив при этом всю дерзость конного налета...»691
За доблесть, постоянное нахождение полка на острие атак подъесаул Бабиев только за вторую половину 1915 года был награжден тремя боевыми орденами: Святого Станислава 2-й степени с мечами (19 июня), Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1 сентября), Святой Анны 2-й степени с мечами (18 декабря).
«В конце декабря 1-й Кавказский полк на боевых позициях меняли Лабинцы, Квартирьером от 3-й сотни прибыл урядник с дву-
_гаь*
мя Георгиевскими крестами и доложил полковому адъютанту Кавказцев хорунжему Елисееву, что «Их Высокоблагородие подъесаул Бабиев приказали мне найти их благородие хорунжего Елисеева и доложить им, что они, подъесаул Бабиев, остановятся на ночлег толь-ки у них». Всех офицеров в 1-м Лабинском полку казаки титуловали «Ваше Высокоблагородие», как принято было в гвардии. По уставу так обращались только к офицерам, начиная с чина есаула и выше. Лабинцы бравировали и гордились этим.
В полутемноте показалась кишка колонны. Перед биваком 1-го Кавказского полка шедший впереди Бабиев выстраивает свою сотню, равняет, громко командует и спешивает ее. Повернув свою кобылицу, скачет к нам. За несколько шагов, желая круто остановиться, его лошадь поползла по гололедице... Соскочив с седла, бежит к нам вприпрыжку по обледенелым кочкам снега, подбежав, бросил руку к папахе и подкупающе приятно улыбается.
– Что так поздно прибыли, Коля? – спрашивает подъесаул Ма-невский692 (командир 3-й сотни 1-го Кавказского полка).
– Да этот Абашкин!.. Не хотел подходить к вашему полку разрозненными сотнями. На подъеме гололедица, «склизка» (Бабиев любил иногда запустить простым станичным словом, чтобы была более понятно и рельефно выражена мысль). Ну и чертовались там... пришлось «четверить» обоз. Там обоз четверили, а сотни маялись, ожидая его.
(Войсковой Старшина Абашкин тогда временно командовал 1-м Ла-бинским полком. Отличный офицер. В 1919—1920 годах он был генералом и Атаманом Баталпашинского Отдела.)
Мы в нашей землянке. К Бабиеву пришел вахмистр сотни за распоряжениями. Отдав их, он бросил коротко вахмистру:
– Прислать пятерку!
Вахмистр учтиво докладывает, что казаки устали, весь день были на морозе, проголодались, и просит дать им отдых.
– Прислать пятерку после ужина! – повторяет Бабиев, не глядя на своего вахмистра, чем показал ему, что это его распоряжение есть точное и не подлежит суждению вахмистра.
Очень скоро явились пять урядников в черкесках, при шашках и кинжалах. У каждого на груди было по два Георгиевских креста. Войдя» они приняли стойку в положении «смирно». Бабиев, взглянув на них, строго спросил:
– Почему без винтовок? Марш в сотню и прибыть с винтовками!
Урядники скоро вернулись и, держа винтовки «у ноги», замерли в
воинской стойке «смирно».
– Селям! – коротко и строго произнес Бабиев и грозно глянул на них.
– Чох саул! – дружно, коротко ответили они...
– Садись! – бросает им Бабиев, и урядники, быстро опустившись на одно колено, поставили винтовки вертикально впереди себя, обхватив стволы обеими руками и опустив головы вниз, словно для молитвы.
– Мою любимую! – произносит Бабиев.
И один из урядников, сняв папаху и прикрыв ею рот, словно издалека, находясь в степи, затянул:
Ой-да сторона, да ты моя,
Да родимая моя сторонушка...
И остальные урядники тихо, грустно, тягуче вступили:
Ой-да ни сам я сюда зашел да заехал...
Ой-да занесла меня сюда, братцы, неволюшка...
Бабиев опустил голову и слушал»693.
Ужин с коньяком; угощаются и урядники. Песни сменились лезгинкой. Среди ночи Бабиев пожелал вызвать хор трубачей, и, несмотря на слабые протесты их начальника полкового адъютанта Фостикова, все началось сначала, из «Алаверды»: «Нам каждый гость дается Богом...»
Наутро бодрым, словно не было бессонной ночи, задорно крикнув: «Здорово, третья лихая!», Бабиев впереди своей сотни, широкой рысью, уже уходил вперед...
Еще в самом начале войны командир в приказе по полку подчеркивал: 1) командирам сотен строго следить за казаками, чтобы они не чинили насилий над оставшимися в селении жителями и без разрешения ничего не брали; 2) казака 3-й сотни Д. за то, что позволил себе без разрешения взять чужую вещь, арестовываю на 10 суток строгим арестом694.
Лихость и казачья вольница выливались в неразборчивость по отношению к чужому имуществу. Ярость к неприятелю – после тяжелейших переходов, постоянных обстрелов, потерь друзей-станичников – в отмщение, даже пленным, в ходе боя.
12 января 1916 года 1-й Лабинский полк двинулся к перевалу. «Дороги совершенно не было никакой. Шли по глубокому снегу в один конь. Курды все время обстреливали колонну. Головная
3-я сотня Подъесаула Бабиева, спустившись в долину, ударила в тыл ближайшему батальону турок, смяла его, изрубив 118 аскеров. Батальон растерялся и положил оружие. В плен взято 9 офицеров и 187 нижних чинов. 3-я сотня потеряла двух казаков убитыми и одного раненым»695.
По статуту за пленение в бою неприятельских офицеров не ниже штаб-офицерского чина Бабиеву полагался орден Святого Георгия. Но там же, в уличных боях за город Хныс, казаки его 3-й сотни, ворвавшись в военный госпиталь, изрубили несколько «активных», легкораненых турок и присвоили себе их вещи.
Из штаба дивизии и распоряжением начальника отряда полковника Носкова696 войсковому старшине Абашкину предписывалось «произвести дознание о действиях 3-й сотни полка 12-го сего января у села Кара-кепри на предмет представления командира названной сотни Подъесаула Бабиева к награждению Орденом Святого Великомученика Георгия»697.
Абашкин дает указание Бабиеву «подробно изложить действия Ваши и вверенной Вам сотни... изложить Ваше личное управление сотней, от которого зависела успешность работы ее по пленению турецких офицеров и солдат»698.
Затем «в штабах», видимо, вспомнили о госпитале и казаках баби-евской сотни – и об ордене Святого Георгия пришлось пока забыть...
Атаку под Кара-Кепри Бабиев отобразил в таких строчках:
То не соколы крылаты Вылетали из-за туч,
Третьей сотни казачата Понеслися из-за круч.
Шапки белые мелькали,
Шашек острых виден блеск;
Кони добрые скакали,
Под собой взрывая снег.
Из селенья Кара-Кепри Пулеметы говорят...
Пули смертные несутся,
Но Лабинцам не вредят.
Нам дорогу преградила Крутобрежная река —
Лед кругом, вода в средине,
И крутые берега.
Кони быстро подобрались,
Подтянулись повода.
Миг – и сотня очутилась На другом краю села.
Быстро спешившись у рощи,
Обстреляли мы врага,
Коноводы на карьере Закидали повода.
i£z-
Пулей хлопцы очутились На спине лихих коней, Шапки белые неслись
Между вражеских цепей. Солнце спряталось за горы, И поля закрыл покров...

ретья сотня возвращалась, ютеряв своих орлов®9.
В конце марта 1-й Лабинский полк отошел для отдыха на русскую территорию, в город Игдырь, что возле Арарата. После всех мытарств в «снеговых горах» Турции, измотанные походами и полуголодные, молодые офицеры кутили в армянской харчевне-гостинице. Бабиев вызвал песенников своей сотни, его избирают «тулумбашем». Он руководит весельем, следит за соблюдением полковых традиций, говорит тосты и заставляет говорить других. Без его разрешения никто не может сказать слова. Песни и лезгинка со стрельбой. После двенадцати ночи появляется комендантский адъютант и докладывает Бабиеву, как старшему в чине, что город «находится в прифронтовой полосе и всякий шум после 12 ночи воспрехцен». Бабиев резко реагирует на эти слова, адъютант обещал доложить коменданту гарнизона. Скоро прибыл сам комендант и потребовал прекратить кутеж и песни. Ему Бабиев ответил так же резко, как и адъютанту.
– Если вы не разойдетесь, то я вызову свою комендантскую роту и удалю вас силой, – реагировал комендант.
– Что? Вызовите комендантскую роту и нас, казаков, силою хотите удалить?! Нас, после всех тягот на фронте? Своей сотней я брал в плен батальон турок, а вы хотите запугать меня какой-то тыловой комендантской ротой! Вызывайте ее, а я вызову свою сотню, и тогда...
Кутеж все же пришлось прекратить и уйти. Дальше случилась новая неприятность – на улице он ранил кого-то из револьвера. Комендант Игдыря, связав все воедино, донес по начальству, что подъесаул Бабиев в прифронтовой полосе угрожал ему и комендантской роте, присоединив то, что случилось на улице700.
В августе 1916-го было дознание, а осенью – суд. В это время фамилия Бабиева отсутствует в журнале боевых действий полка, что за всю войну отмечается впервые. Хотя еще в июле читаем: «1-я, 2-я, 3-я и
4-я сотни под командой Войскового Старшины Абашкина наступают правым флангом на Казин... бой продолжался весь день. 14 июля взят Огнот, Подъесаул Бабиев ранен в живот и той же пулей в кисть руки. Контужены – Подъесаулы Подпорин и Баранов»701.
КАЗАКИ В ПЕРСИИ 1909—1918 ГГ.
«saa_
В конце августа – начале сентября он внезапно появился в Са-рыкамыше у офицеров 1-го Кавказского полка: Елисеева, Кулабухо-ва и других. В полку Бабиева любили и считали как бы своим. Он был очень возбужден и как будто хотел от чего-то отрешиться, забыться весельем.
Дружеский обед в гостинице, настоящий казачий борщ с помидорами, как украшение стола и главное блюдо. Когда командир Кавказцев полковник Мистулов, все войсковые старшины и есаулы отбыли отдыхать, полковая молодежь – сплошь подъесаулы и сотники – продолжила веселье вместе с Бабиевым. Николай хотя и старший подъесаул среди молодежи, но он гость и не он распоряжался за столом 1-го Кавказского полка.
Тогда, вспоминал Ф.И. Елисеев, «чувство такта среди нас было очень сильно развито. Старший по выпуску иль баллу являлся старшим всегда и везде. И в случае чего – он мог и приказать. Старше меня по выпуску Кулабухов. ...В собрании, в ресторане, в гостях иль за столом – он был признан неизменно старшим всех нас»702.
Сюда же пожаловали и офицеры Сибирской Отдельной казачьей бригады – соратники Кавказцев и Лабинцев по Турецкому фронту.
«Вино лилось... шли тост за тостом. Казалось, им не будет конца. Бабиев стал тяготиться и тостами, и вином, и бездеятельностью, Без песен и лезгинки веселье не было для него весельем. В таких случаях он должен двигаться, петь песни, танцевать лезгинку... Толкая в бок, тихо говорит:
– Давай вдарим лезгинку, чтобы показать ее Сибирцам,., но ты выскакивай первым, а потом приглашай меня и мы пойдем на пару...
Не буду описывать, как мы провели ее с Бабиевым. Хлопанье в ладони, выкрики, дикий «бум» заразили сибирских казаков.
– Казачка-а! Казачка-а! – закричали Сибирцы.
И понеслись они по очереди, по два, в свой танец, выбивая такт, притоптывая и переходя в присядку.
Ревнивый, самолюбивый, задористый Бабиев не утерпел. Он уже подоткнул полы черкески за пояс, бросил свою небольшую папаху на затылок, засучил рукава черкески и своим вызывающим видом и красными диагоналевыми широкими бриджами с серебряным галуном – просился «в бой казачьих танцев»...703
Карс, военный суд в составе трех офицеров. Председательствующий-генерал зачитывает: «Подъесаул Бабиев... лишается офицерского звания и зачисляется рядовым на 12 лет в арестантские роты». Как рассказывал Николай, он слушал приговор в каком-то ркасном забытьи и

ничего не понимал. Позже председатель суда говорит: «Вы свободны, подъесаул... идите домой... мы будем ходатайствовать о помиловании Вас». В тот момент Бабиев онемел, у него словно отнялись ноги. «Идите, подъесаул!» – повторил генерал, а он стоял как вкопанный, не в силах сдвинуться с места, ноги не действовали, настолько испугался. Подошедший офицер взял его под руку: «Пойдемте!» – и только тогда Николай сделал шаг, «вот было страшно»704.
Его отпустили домой и даже не обезорркили. По ходатайствам всех высших начальников Кавказского фронта, генерал-лейтенанта Абаци-ева, полковника Шатилова, отца Бабиева – командира бригады на Юго-Западном фронте, за выдающуюся доблесть и боевые ранения Николай был помилован.
В начале октября того же года Елисеев, находившийся в командировке, на вокзале в Тифлисе встретил генерал-майора Бабиева, отца Коли.
«Я его не видел с 1912 года. Тогда он был войсковой старшина и командир 2-го Черноморского полка. В зале первого класса толпа. Он сидел в конце большого стола и опершись головой на руку – был грустный и ни на кого не обращал внимания. Мне так приятно было его видеть в чине генерала и на нашем Кавказском фронте, что я подошел и бодро, весело представился:
– Ваше превосходительство, позвольте представиться – 1-го Кавказского полка подъесаул Елисеев, друг Коли.
Услышав это, он быстро повернулся ко мне, не вставая подал руку и спрашивает – давно ли я видел Колю?
– Да недавно, Ваше превосходительство, около месяца тому назад.
– Ну, как он?
– Как всегда – бодр и весел, – отвечаю я, ничего не зная о случившемся с ним.
– Бронислава!., вот подъесаул недавно видел Колю и говорит, что он «бодр и весел». Подвинься сюда и познакомься с подъесаулом, – говорит он даме, которая сидела чуть вдали от него, за тем же столом.
–• Вы недавно видели нашего Колю?!., и говорите, что он бодр и весел?!.. – как-то тревожно переспросила она.
Это была мать Коли. Целуя ручку, я вновь наивно повторяю, не зная о случившемся несчастье с ним, что Коля был в гостях у нас в полку в Сарыкамыше и, как всегда, был бодр и весел.
Они ехали в Карс или в Сарыкамыш, а по какой причине – тогда этого спрашивать не полагалось, хотя мне показалось странным, что генерал-отец, командуя бригадой на Юго-Западном фронте, прибыл
КАЗАКИ В ПЕРСИИ 1909-1918 ГГ.
««А_:-
сюда не по службе, как он сказал. Точную же причину они не назвали. Проводив их на поезд, продолжил свой путь в Кутаио705. Как потом рассказывал Коля, отец, узнав о несчастье сына, немедленно прибыл к нему.
По своему чину подъесаула Бабиев получил уже все высшие ордена. И 22 сентября 1916 года его награждают... первым (младшим) офицерским орденом – Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».
1 декабря он произведен в есаулы, а в январе 1917 года – в войсковые старшины, за боевые отличия. Почему это случилось почти одновременно и задержалось «по непредвиденным обстоятельствам» – теперь известно.
Память о том происшествии и о суде не отпускала Бабиева еще долго. В марте 1917-го 1-й Лабинский полк стоял на отдыхе в армянском селении Курдукули, на Араксе. Возвращаясь из Игдыря, подъесаул Елисеев заехал по пути к Лабинцам и был приглашен старшим другом на ужин, «в офицерское собрание» под открытым небом. Стояла теплая погода. Бабиев появился в кителе с навесными погонами и в фуражке Войскового цвета – синее поле и красный околыш. «Я впервые вижу его в этом военном костюме, – вспоминал Елисеев, – и должен сознаться, он ему был абсолютно не к лицу. В фигуре, в движениях, в походке ничего «азиатского», как все привыкли видеть его в затянутой черкеске. Прическа у него «ежиком», лицо чуть подернуто оспой, когда он был хорунжим... теперь – никакого «Хаджи Мурата» в нем нет». В те военные годы в кубанских полках китель носили редко. «Всегда все офицеры и казаки в черкесках, как единственная наша форма одежды, поэтому-то я и удивился, что такой казакоман и «азиат» Бабиев – вдруг в кителе».
Елисеев представился командиру Лабинцев полковнику Блазнову – «маленького роста, хорошо сложенному Терцу, активному и вежливому». По словам Бабиева, он «отличный командир и умный». Из офицеров полка первого года войны и 1915 года, когда Лабинцы и Кавказцы действовали вместе в Алашкертской долине, почти никого не было, как не было и штаб-офицеров, уехавших в отпуска. Блазнов сидел во главе стола, Бабиев, как самый старший из наличных офицеров, – по правую руку командира, гость подъесаул Елисеев – по левую.
«Что меня удивило за ужином, – продолжал Федор Иванович, – так это то, что Коля Бабиев, былой лихой сотник, всегда веселый, разговорчивый, занимательный, – он тут был больше чем сдержан. Он ни с кем из офицеров не говорил и коротко только отвечал на
вопросы своего командира. Офицеры были так же сдержаны и очень корректны с ним, называя его или по имени и отчеству, или – господин войсковой старшина. Блазнов был с ним особенно вежлив, старался занять его разговором и неизменно называл по имени и отчеству. У меня получалось впечатление, что все они его как бы оберегали, как оберегают человека, хорошего своего друга, перенесшего тяжелую болезнь, но ехце не совсем выздоровевшего, или человека, у которого случилось большое несчастье, касаться которого нельзя, но этого человека надо успокоить, отвлечь от тяжких дум. Но Бабиев оставался больше молчалив, и ужин его будто тяготил»706. И лишь позже, в Гражданской, в Корниловском полку, когда Бабиев рассказал о военном суде над ним, – только тогда Елисеев понял, почему весной 17-го года на Араксе Николай был таким: ведь все в полку знали, за что он был осужден...
После революции приказом № 1 в армии были отменены «титулования». Закон был для всех – но не для Бабиева. Очевидцем того, как казаки продолжали обращаться к своему лихому командиру «по-старому», оказался опять подъесаул Елисеев, тогда же весной, в гостях у своего друга.
«...Мы делимся впечатлениями «о революции» и оба «кривимся».
– Ваше Высокоблагородие! Учебной команды казак Мерзликин хочет до Вас, – докладывает денщик Бабиева.
– Пусть заходит! – бодро отвечает он.
Молодой и подтянутый казак вошел, не снимая папахи, и взял «под козырек».
– Здорово, молодец! – произносит Бабиев.
– Здравия желаю, Ваше Высокоблагородие! – громко, внятно ответил казак.
– Ты чиво?
– Дозвольте получить один «козел» из сотенного чихауза (цейхгауза) .
– Зачем он тебе?
– Да хочу сшить чувяки и ноговицы.
– А лезгинку танцевать будешь?
– Так точно, буду, Ваше Высокоблагородие!
– Ну, иди... и скажи вахмистру, чтобы он тебе выдал.
– Покорно благодарю, Ваше Высокоблагородие! – ответил казак, круто повернулся кругом и вышел.
Я слушал этот интересный диалог и молчал. А когда казак вышел, спросил Колю, войскового старшину и командира сотни:
S&,
– Штой-то у вас? До сих пор титулуют по-старому?
– В других сотнях нет... а своей сотне я заявил, что у меня должно оставаться «по-старому».
– Ну, и что же казаки? – допытываюсь.
– А вот слыхал? – сказал и улыбнулся»707.
Конечно, тогда, «в первые дни революции», надо было иметь определенную смелость и личный авторитет у казаков, чтобы позволить подобное. И Бабиев сделал это. Поступок очень смелый, пускай само явление и было временным. Елисееву надлежало добраться до Игды-ря (около 15 верст), и он попросил у друга верховую лошадь. Бабиев дал ему свою заводную кобылицу и конного вестового и предложил совершить проездку со своей сотней в сторону однобригадников – 1-го Черноморского полка, что было по пути.
Вахмистр сотни громко, активно подал команду для встречи своего командира.
– Здорово, моя третья лихая! – выкрикнул Бабиев.
– Здравия желаем, Ваше Высокоблагородие! – громко, дружно, сноровисто ответило более чем сто голосов.
– Справа по три, за мной... песенники наперед! – спокойно продолжил он, и его сотня, лихая как всегда, с песнями под зурну и бубен, вытянулась за ним.
Бабиев, получается, не хвастал, если сотня и в строю отвечала ему «Ваше Высокоблагородие».
Фруктовыми садами, с гиком, с песнями подошли к следующему селу, что вызвало в нем переполох. Из-за ограды сада выскочил подъесаул Петр Кадушкин708, полковой адъютант Черноморцев, «ив недоумении выкрикнул:
– Ты куда это, Коля?
– Едем тушить революцию! – в тон ответил ему, моргнул мне и улыбнулся»709.
Бабиев любил 1-й Лабинский полк, родной ему по рождению, полк, в котором служил его отец. Счастлив же, наверное, тот, кто не имеет доброго сердца. Уже став генералом, но продолжая жить как воин – среди кинжалов и шашек, папах и приборов к дивному своему седлу с подушкой, расшитой галуном, уздечек и пахв, разбросанных в поэтическом беспорядке чевяк и ноговиц, он говорил:
«Вот наши казаки-Лабинцы... как я их любил! Все для них отдавал! Учил песням, лезгинке, джигитовке. На последней – сам «бился» впереди них. Был им во всем пример. Они меня любили и хвалили, но... хотя бы один раз, хотя бы что-нибудь преподнесли в подарок на память – ну портсигар, серебряный подстаканник, что ли, плеть ли с серебряным набалдашником... Нич-чего и ник-когда...
И обидно то, что они дарили некоторым офицерам, но таким, которые мало с ними занимались, были покладисты и не требовали точной, настоящей службы. Я не нуждался ни в чем, но хотелось что-нибудь иметь «на память» от тех, для которых жил и отдавался им всей своей душой.
Сказал и... выругался. А потом добавил с сокрушением:
– Не любят казаки не то что строгих, а просто – не любят авторитетных своих офицеров... Больше всех Георгиевских крестов в полку – имела моя сотня. Всю сотню одел в белые папахи. Свои добавлял не раз. Мою сотню знали и помнили все части на Турецком фронте, увидев ее в бою или на мирной стоянке хотя бы раз. Знаю, что и сотня гордилась мною. И что же? Когда случилась революция и вышел приказ от совета солдатских и рабочих депутатов в Петрограде, то половина сотни казаков решила меня арестовать... а половина сотни им ответила – а ну-ка попробуйте! Дошло до того, что «моя полусотня» бросилась по своим квартирам, схватила винтовки и с ними выскочила на митинг. Этим она и спасла меня!
Сказал последние слова и горько улыбнулся»710.
На протяжении всей Великой войны за боевые отличия Николай Бабиев неоднократно представлялся к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием (известно по крайней мере шесть таких представлений). 24 июня 1917 года в рапорте начальнику 2-й Кавказской казачьей дивизии командир 1-го Лабинско-го полка ККВ полковник Блазнов писал:
«Представляя переписку о награждении орденом Святого Георгия 4-й степени Войскового Старшины Бабиева, доношу, что представление это Георгиевской Думой было отклонено и, как можно предполагать, вследствие неполноты произведенного тогда дознания, в котором было допрошено всего лишь два лица, давшие весьма благоприятные, но не оттеняющие всего значения совершенного Войсковым Старшиной Бабиевым подвига, [показания].
В настоящее время получены показания других очевидцев дела (Поручика Туманова, Поручика Мурадяна, Сотника Богдана, Полковника 8-го стрелкового полка Егунова и нескольких урядников и казаков участников дела), а также более полное показание Капитана Петрова-Денисова. Все эти показания вносят в дело настолько много нового и существенного, что могут служить поводом для вторичного пересмотра этого дела на основании статей Георгиевского статута.
JbS=,
Из показаний видно, что, помимо проявленного Войсковым Старшиной Бабиевым в этом деле личного геройства, атака его на турецкий батальон имела существенное влияние на исход всего боя и только благодаря этой атаке бой был решен в нашу пользу; а участь боя на Кара-Кепри предрешала и участь исключительного по своему значению г. Хныс-Калы, занятого нашимим войсками на другой день.
Характер и значение подвига Войскового Старшины Бабиева не может возбуждать никакого сомнения и всецело подходит под 31 и 38 ст. Георгиевского статута. Большое количество потерь противника убитыми и пленными при незначительных потерях сотни свидетельствует о том удачном выборе места и времени для атаки и о той стремительности и решительности самой атаки, которая и составляет главную заслугу и является свидетельством и самоотверженностью подвига Бабиева.
Ходатайствуя о пересмотре этого дела – докладываю о вообще высокой доблести, свойственной этому офицеру, удостоенному в текущую кампанию предоставления два раза к ордену Святого Георгия и три раза к Георгиевскому оружию за совершенные им подвиги. Приложение: переписка на 16 л.»711.
Дело так и не сдвинулось, и Бабиев получил белый офицерский крест только спустя год, в Гражданской, за подвиг, совершенный на Великой войне.
Представления его в кандидатских списках на должность командира полка «вне очереди», начавшиеся летом 17-го года, завершились в октябре назначением тридцатилетнего войскового старшины на командование 1-м Черноморским полком ККВ.
В Белой борьбе
История требует только правды...
В январе 1918 года одним из немногих Кубанских полков, возвращавшихся в полном порядке с фронта, вернулся домой 1-й Черноморский полк войскового старшины Бабиева. Командующий войсками Кубанской области (края, как стала называться Кубань по новой, принятой Законодательной радой конституции) генерал-майор Черный712 приказал Бабиеву занять узловые станции Кавказскую и Тихорецкую и обезоруживать проходящие эшелоны распропагандированных, непрерывно митингующих солдат. Черноморцы приступили к выполнению, вытеснив большевиков, но пластуны 22-го Кубанского батальона, стоящие в станице Архангельской, потребовали беспрепятственного пропуска «товарищей-солдат». В столкновении с «революционными» солдатами 39-й пехотной дивизии командир полка получил ранение в плечо. Черноморцы заколебались, их пришлось распустить. Полковой штандарт и пулеметы были переданы в Кубанское (с 8 ноября 1919 года – генерала Алексеева) военное училище, переформированное из Екатеринодарской школы прапорщиков казачьих войск. Во время Первого Кубанского похода штандарт Черноморцев сохранял на себе офицер полка Краснюк713.
Офицеры и казаки Гвардейского дивизиона, 1-го Екатеринодарско-го, 1-го Таманского и 1-го Черноморского полков ККВ объединились для борьбы с большевиками в отряд под командованием Генерального штаба полковника Кузнецова (начальника Кубанского военного училища). В отряде командиром офицерского взвода состоял войсковой старшина Бабиев. Когда Кубанский правительственный отряд в конце февраля под напором красных оставил Войсковую столицу, отряд Кузнецова (200 коней с 2 орудиями и 4 пулеметами) оторвался в Закубанье от главных сил Войскового Атамана Филимонова714 и отходил с боями, по горам за Туапсе. Действия отряда, проходившие в постоянном соприкосновении с окружавшим его днем и ночью врагом, натыкались еще и на сопротивление населения, особенно в южных округах – Туапсинском и Сочинском. Большевики не жалели красок, чтобы представить отряд «кадет» грабителями и насильниками. Так, при переправе через реку Туапсинку у селения Георгиевского путь белых воинов пролегал по узкому ущелью, склоны которого занимали воорркенные крестьяне с большевистскими главарями.
Испортив и бросив орудия, для которых не было снарядов и тормозящие движение, имея в арьергарде, как всегда, взвод Бабиева для обороны от наседающего противника, отряд уходил в горы, на Тубин-ский перевал.
Местные жители предупредили, что путь этот непроходим. Снег проваливался, пришлось бросить лошадей, не раз выносивших из беды. Седла изрубили, дальше пошли пешком. Ночью 23 марта на утомленный переходом отряд внезапно напали большевики и уничтожили взвод полковника Демяника715, Не зная обстановки и численности противника, полковник Кузнецов решил не принимать боя, собрал выбившийся из сил отряд и предложил пробиваться дальше группами, на свой страх и риск. Объявил, что с сего момента не считает себя командиром. Отряд, состоявший из лучшей части конницы, распылился, и лишь пятнадцать человек, наиболее крепких духом, во главе с Бабиевым решили пробиваться дальше.
Всего за несколько мартовских дней он получил в боях несколько ран: 14-го – у аула Божьи Воды в ногу, но остался в строю; у перевала Дубы – в плечо; 19-го – у хутора Рожен был тяжело ранен в правую руку, с той поры изувеченную. Их окружили под Туапсе. После пленения, когда Николая везли на подводе, красноармеец нанес ему несколько ударов штыком в спину, к счастью не смертельных716.
Полковника Кузнецова, отделившегося от них с двумя офицерами и отрядными деньгами, схватили большевики и позже расстреляли в Туапсе. Несколько офицеров Гвардейского дивизиона и 1-го Екатери-нодарского полка провели остаток зимы в шалашах в горном лесу. Полковника Посполитаки717, войскового старшину Бабиева, подъесаула Лопатина718 и других заключили в Майкопскую тюрьму719. На допросе один из молодых офицеров Терского Войска, кабардинец, говорил красным, что их «вели старшие», указывая на Бабиева. Николая чуть не расстреляли. Выручили всех родственники.
Через полгода, в ноябре 1918 года, они встретились на фронте. Бабиев, в чине полковника, командовал Корниловским конным полком. Он не подал Терцу руки, говоря, что у того «душа с г... смешалась» – любимое выражение Бабиева о трусости.
% ^
Жестокий фронт Гражданской, ответственные командные должности, дающие большие возможности и накладывающие серьезные обязанности... Именно тогда ярко высветился образ «генерала-сотника» (так называл он себя сам) Николая Бабиева, принимая порой и отрицательную форму. Но – быль молодцу не в укор. «Меня сделала война», – говорил он.
Летом 18-го года Бабиев остановился у отца в Екатеринодаре, в доме на Штабной улице. Генерал Бабиев-старший участвовал в Ледяном походе и получил знак его отличия, который впоследствии всегда носил; сын не был им награжден, поскольку приказом Главнокомандующего ВСЮР чины бывшего отряда полковника Кузнецова права на награждение Знаком Первого Кубанского похода не имели720.
Николай ждал вакантного полка. Его последний по службе, 1-й Черноморский полк, был вновь сформирован после Ледяного похода и находился в Ставрополе. Другого полка он принимать не хотел, почему и выжидал. Одновременно, для укрепления офицерского кадра своего будущего полка, подбирал знакомых по Великой войне командиров сотен – таких, которые «не пригинаются» в боях.
17 сентября приказом по ККВ Бабиев был назначен командиром Корниловского конного полка и через шесть дней произведен в чин полковника.