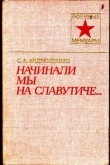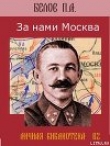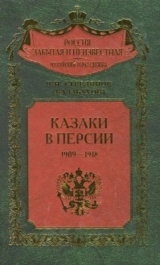
Текст книги "Казаки в Персии 1909-1918"
Автор книги: П. Стрелянов (Калабухов)
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
По окончании стрельбы господам офицерам был накрыт стол в доме хана, выставлено угощение сотням. Перемен блюд было бесконечное количество, главной составной частью их был рис, баранина и куры в различных комбинациях, сладости и фрукты. Водку и коньяк персы пили, а вот вино и шампанское – нет.
После обильного застолья наше командование решило ответить персам на их любезность. Началась джигитовка. Что-то феерическое было в вихрем несущихся казаках, их сколоченности и бешеном аллюре лошадей в работе. Когда казак знал свою лошадь, ее силы, ее характер, знал, что можно от нее требовать, а лошадь понимала, чего от нее хочет всадник, – только тогда и могла получиться настоящая джигитовка.
Джигитовка не только любопытное зрелище, она имеет и огромное боевое значение. Командир полка отдает приказание Бабиеву. Тот с сотней, наметом отделившись от полка, быстро исчезает с глаз. Полк спешен, дана команда «вольно», персидские офицеры мирно беседуют с русскими через переводчиков. Вдруг на горизонте появляется длинная линия отдельных всадников, которая медленно, со стрельбою с коня холостыми патронами, надвигается и из прямой линии делается кривой и даже ломаной, Персам объясняют, что ушедшая сотня маневрирует традиционным казачьим построением – лавой. Не успели те взять в толк, какое же, собственно, тут построение, если строя никакого нет, как левый фланг боевой линии пошел сильным карьером на полк и персов. Подскакав на расстояние до трехсот шагов, два взвода казаков, по знаку Бабиева, положили лошадей на землю и, находясь за ними, открыли беглый огонь. Отстрелявшись, эти два взвода так же быстро исчезли, как и появились. Восторгу и овациям персов не было конца.
Служба в постоянной тревоге, сопровождающаяся почти ежедневной опасностью, началась для Лабинцев. Впереди сотен, далеко .в степях, действовали разведочные дозоры, выставлявшие на ночь секреты, Летом 1910 года большая группа шахсевен переправляла через границу крупную партию ковров. Обнаруженные Лабинцами, контрабандисты спешились и попытались окружить и уничтожить секрет. Услышав стрельбу, в сотне есаула Абашкина подняли тревогу, и спустя несколько минут в полной темноте грозовой ночи, под дождем вылетел наметом отряд под командованием хорунжего Бабиева. Жизни казаков секрета были спасены, шахсевены отогнаны, контрабанда захвачена. У Лабинцев потерь не было, шахсевены своих раненых увезли с собой.
Спустя год, являясь старшим штаб-офицером Лабинцев, Г.Ф. Бабиев подписал аттестацию668 есаулу П.С. Абашкину, непосредственному начальнику своего сына в Персидском походе:
«Службу знает и любит ее, казака любит и отечески заботится о нем, в служебных требованиях строг, беспристрастен и справедлив. Отличный наездник, коня знает и любит скаковой спорт.
Физически здоров и трудности походной жизни может перенести легко. Умственно развит очень хорошо, за текущей литературой следит и военным делом интересуется. В поле не потеряется и с успехом выполнит возложенную на него задачу... Может руководить занятиями с офицерами. Прекрасный семьянин, большой хлебосол, товарищами любим. Ровного, спокойного характера, весел и остроумен. Как
лучшему сотенному командиру, ему поручено было руководить занятиями двух сотен молодых казаков вне полка, и он с большой любовью и знанием дела выполнял эту задачу. К занятию должности помощника командира полка вполне подготовлен и достоин производства в штаб-офицеры по избранию. Выдающийся». Заключение аттестационного совещания «достоин выдвижения на должность помощника командира полка вне очереди» подписали генералы Фидаров, Флейшер669 и Мышлаепский670.
Отметим, что еще в чине сотника П. Абашкин брал полковые призы на состязательной офицерской стрельбе и на призовой скачке офицеров671 .
Как видно из аттестации, написана она как документ о службе офицера мирного времени. Между тем теперь известно, что 1-й Ла-бинский полк находился в то время в Персии фактически в боевых условиях, а офицеры и казаки полка, в их числе и сын Бабиева – Николай, подвергались в боях и стычках с шахсевенами смертельной опасности. События эти протекали без шума в России, незаметно для посторонних, и мало кто даже из современников знал о них.
Из рапорта начальника Ардебильского отряда: «Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу, что 20 января с. г. легкий отряд в составе 80 человек конницы и роты пехоты... высланный на разведку и для производства необходимой съемки, имел дело на реке Куру-Чай с партией шахсевен силою более 300 человек, обстрелявших офицера с разъездом... Бой длился с 5 до 8 часов вечера, когда наступившая темнота, сильно пересеченная местность и трудность поддержания связи прекратили бой. Отряд вернулся в Ардебиль. Потери: с нашей стороны – ранены 2 казака 1-го Лабинского генерала Засса полка и один рядовой 16-го гренадерского Мингрельского полка, под Хорунжим
1-го Лабинского полка Бабиевым убита лошадь. У шахсевен убитых и раненых более 30 человек. Генерал-майор Фидаров».
На подлинном написано: «Его Величество изволил читать 8 февраля 1912 г. Генерал-от-Кавалерии Сухомлинов»611.
У казаков в Персии вырабатывалась быстрота действий, соображения, умение хорошо разбираться на местности и в противнике. Среди офицеров появились смелые, привыкшие к самостоятельным действиям и решениям начальники. Все это им пригодилось в Великой войне на Кавказском фронте, где курды воевали на стороне Турции.
С пограничниками у казаков традиционно складывалась крепкая дружба, вызванная во многом схожими тяжелыми условиями службы на постах вдоль границы дикой горной страны. Хорошие отношения
П.Н. СТРЕЛЯНОВ (КАЛАБУХОВ)
^___:_
сказывались и потом, при возвращении казачьих полков домой. Приобретенные в Персии знаменитые ковры офицеры перед таможней, дабы не платить пошлину, вываливали в песке и пыли и спокойно их перевозили с собой (беспошлинно вещи дозволялось ввозить для собственного употребления, а вещи в товарном виде и прибывающие отдельно от войск – оплачивать пошлиной). Наверное, наша Пограничная стража догадывалась об этом нехитром маневре казаков.
Среди русских пограничных офицеров встречались великолепные стрелки. Один из них, служивший в 6-м Пограничном округе командир отряда ротмистр Степанов, считался едва ли не лучшим в России. Пожалуй, немногим уступал ему командир другого отряда, ротмистр Герман. Об их искусной стрельбе вспоминается в записках «Вдоль персидской границы» Генерального штаба генерал-лейтенанта Масловского, совершившего в самый канун Персидского похода, в апреле 1909 года, молодым капитаном ознакомительную поездку по расположению постов Пограничной стражи.
«Отмерив хороших сто шагов, ротмистр Степанов приказал вестовому поставить на плоский камень лимонадную бутылку и на этой дистанции, взяв карабин и зарядив его одним патроном, что показывало его уверенность в результате стрельбы, произвел, почти не целясь, выстрел. При этом он держал карабин лишь одной правой рукой и приложил его не как обычно, к плечу и щеке, а к локтю, в расстоянии одного фута вправо от головы, почему он, конечно, не мог целиться глазом через прицел и мушку. Бутылка была разбита. Затем он произвел несколько выстрелов, каждый раз по новой бутылке, держа все время карабин в стороне, у локтя, и поворачивая его то боком, то вниз затвором. Потом он сделал выстрел, повернувшись спиной к цели, наклонившись и смотря промеж ног. И каждый раз, без единого промаха, пуля разбивала бутылку. Наконец он положил на этот плоский камень два патрона, один в затылок другому, и, отойдя почти на то же расстояние, выстрелил в первый патрон, который разбил второй. Я был поражен такой исключительной стрельбой».
Возвращаясь на пост и проходя мимо громадного орехового дерева, ротмистр Степанов указал Масловскому на его вершину и спросил, видит ли он там, высоко над землей, среди густой листвы, воробья. Капитан птицы не видел. Сказав, что собьет его пулей, Степанов приложился одной рукой и быстро выстрелил. Воробей, пронзенный пулей, упал к подножию дерева. Выстрел был изумительный.
На другом посту, Бартазском, командир отряда ротмистр Герман в окончании занятий с офицерами устроил капитану Масловскому
КАЗАКИ В ПЕРСИИ 1909—1918 ГГ. ____:_
встречу с влиятельным ханом на персидской стороне. В молодости этот карадагский владетель был разбойником, занимался контрабандой, а на старости лет успокоился, установил дружеские отношения с пограничными частями на русском берегу и часто, в особенности зимой, когда из-за снега и весной из-за разлива рек прекращалось всяческое сообщение между постами, помогал нашим отрядам. Имея свой отряд в двести вооруженных всадников, он не допускал никаких набегов кочевников на русскую сторону, поддерживал порядок в значительном районе прилегающей к границе персидской полосы и мог обидеться, если его приглашение не приняли бы.
К месту переправы через широкий (до километра в этом месте) и бурный Араке, где обычную лодку перевернуло бы сразу при отходе от берега, на русскую сторону прибыл сам хан. Офицеры по четверо переправлялись на легких (переносимых на суше одним человеком) плотах на бычьих пузырях. Плот представлял собой квадрат 1,25 на 1,5 метра, состоящий из толстых деревянных прутьев около 3 сантиметров в диаметре, расположенных на некотором расстоянии один от другого и прочно связанных крест-накрест. Таким образом, получалась прочная решетчатая площадка с подвязанными снизу сплошь надувными бычьими пузырями, длиной в 35 сантиметров и в диаметре около четверти метра. Переправляемые четверо, включая гребца, рассаживались строго по углам плота, причем заранее вошедшие в воду люди прочно удерживали его концы, чтобы плот не перевернулся, пока все не займут свои места. Гребец сидел лицом наружу, а не вовнутрь, как остальные пассажиры, и коротким веслом, наподобие лопатки, часто бил по воде, как бы сбивая тесто. Плот вертелся вокруг своей оси, через решетку виднелся бурлящий, покрытый хлопьями пены быстрый поток. Так, постепенно, сносимый вниз по реке, плот выбирался в более спокойное течение и, медленно кружась, приставал к противоположному берегу примерно в километре ниже места посадки (один из таких плотов с бычьими пузырями, используемый русскими пограничниками в то время, представлен на фотоснимке в книге).
...После приема и обильного обеда хан предложил провести состязание в стрельбе из винтовки. Персы придавали большое значение искусству стрельбы, и потому, опасаясь, что они окажутся лучшими, чем русские офицеры, случайно оказавшиеся здесь, Масловский начал отговариваться, ссылаясь на позднее время, предстоящую трудную дорогу и опасную переправу на русский берег.
При этом он добавил, что оценивать искусство стрельбы можно лишь в том случае, если у каждого стрелка будет личная винтовка,
да!
свойства которой ему хорошо известны, а у русских офицеров своих винтовок здесь нет. И тут командир отдела тихо сказал ему, что можно соглашаться на состязание, так как среди присутствующих офицеров есть выдающийся стрелок.
«Решено было стрелять по маленькой лимонадной бутылке, поставленной на плоском камне в ста шагах. Вызвавшийся состязаться ротмистр Герман, очень высокого роста, отмерил своими большими ногами сто шагов, где и поставили бутылку.
Затем он предложил персам, сделавшим вызов, начать состязание первыми. По приказу хана вышел старик вахмистр, очевидно считавшийся у них лучшим стрелком. Так как было договорено, что каждый может выпустить не более пяти патронов, вахмистр вложил в винтовку обойму в пять патронов и, тщательно прицелившись, выстрелил. Бутылка осталась целой. Он выпустил так все пять своих патронов, но ни одна из них не попала в цель. Было видно по пыли, поднимаемой пулями, что ложились все они очень близко к бутылке, но ее не задели. Хан покраснел от досады и что-то шепнул своему зятю. Тот сейчас же вышел, взяв свою винтовку, так же вложил обойму и приготовился стрелять. Все напряженно ждали, зная, что он отличный стрелок. Хан повеселел. Но против ожидания зять хана, так же как и вахмистр, выпустил поочередно все пять пуль, но с таким же успехом, как и вахмистр. Видно было, что все пули опять ложились близко от бутылки, но ни одна ее не коснулась. В крайнем возбуждении хан крикнул, чтобы ему принесли его собственную винтовку, решив стрелять сам. Тщательно осмотрев принесенную винтовку, он вложил обойму, прицелился и выстрелил. Пуля черкнула землю возле самой бутылки. Хана передернуло. Он снова выстрелил, но с таким же результатом. Так были выпущены все пять пуль. На лице хана было написано крайнее огорчение и волнение, но, овладев собой, он обратился к ротмистру Герману и с лукавой улыбкой предложил ему свою винтовку, приглашая показать теперь свое искусство.
Взяв винтовку, ротмистр Герман обратил внимание хана на то обстоятельство, что он будет стрелять из винтовки, чьи свойства ему неизвестны. Хан снисходительно кивнул головой. Герману подали обойму, но он взял из нее один только патрон и, вложив его в затвор, быстро прицелился и выстрелил. Верхняя половина бутылки разлетелась мелкими осколками. Персы были явно поражены, а хан, что-то быстро сообразив и сказав Герману какую-то любезность, попросил его повторить такой блестящий выстрел, надеясь, очевидно, что счастливый выстрел не повторится. Поняв, конечно, мысль хана, Герман тотчас же согласился и взял, как и в первый раз, из обоймы лишь один патрон. Но когда хотели заменить наполовину разбитую бутылку новою, он сказал, чтобы этого не делали, так как ему будет достаточно и той половины бутылки, которая осталась после первого выстрела. Напряжение достигло своей высшей степени. Герман спокойно подошел к черте, приложился, выстрелил... и остальная половина бутылки разлетелась, разбитая вдребезги».
11 апреля 1912 года телеграммой из Ардебиля на имя Государя Императора сообщалось, что отряд капитана Масловского, производивший работу по исправлению карт и съемку, обстреляли и взяли в кольцо шахсевены. Ночью русский отряд вышел из окрркения и после семичасового боя, длившегося с утра, атакою взял крепость и все позиции противника. В этом сражении хорунжий Николай Бабиев получил свое первое ранение в живот.
Поздней осенью того же года 1-й Лабинский генерала Засса полк возвратился в Россию. Ряд офицеров Лабинцев за боевые отличия в Персии наградили боевыми орденами в мирное время.
Перед войной
В мирное время 1-й Лабинский полк стоял в урочище Еленен-дорф, в немецкой колонии, под Елисаветполем. Однокашник моего деда по Елисаветградскому кавалерийскому училищу, войсковой старшина Лука Баранов (выпуска 1911 года, портупей-юнкером), молодым хорунжим получивший орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом за Персидский поход, вспоминал: «Бывали балы-вечера. Коля Бабиев ухаживал за одной немочкой. Чтобы «нарезать», перед вечером, он говорит нам, Хорунжим: «Ну, господа, завтра на бал, чтобы все были в белых черкесках... показать, что мы Лабин-цы». Все пребывают в белых черкесках, и Коля между ними – главный «гвоздь». А я нарочно опоздаю и приезжаю в зеленой черкеске. Коля, глядь: «Ну, вот, Лука, вечно что-нибудь сморозит...» – недовольно говорит он, и... я испортил ему настроение на весь вечер. Рассказывает Баранов и сам смеется...»673
Еще в чине сотника Бабиев хотел показать миру казачье наездничество на Всемирной олимпиаде, но его... туда не пустили. 1908 год, Олимпиада в Лондоне.
«В том году я был юнкером старшего курса, и о ней мы читали в военном журнале «Огонек». В 1912 году была назначена Всемирная
Олимпиада в Стокгольме. Я подготовил своего коня «на барьеры». Мечта была показать там нашу казачью джигитовку. Подал рапорт с просьбой – командировать меня туда. И что же ответили командиры сотен? Ну-у... этот Николай, вечно что-нибудь выдумает. Подумаешь – показать джигитовку! Словно люди ее и не видали...
Так и «затерли» мой рапорт. Но ты подумай – казачий офицер участвует на Всемирной Олимпиаде! Ведь это уже «марка»!.. Старье!.. Не-по-ни-ма-ют! – закончил он, закурил и печально опустил голову, как о потерянном счастье»674.
Казачество официально определялось как «служилое сословие», подлежащее поголовной военной службе Государству Российскому. Но за избытком молодых казаков и по другим причинам не все выходили в первоочередные полки на действительную службу. Наравне со «старыми» (на четыре—восемь лет старше по возрасту самых молодых), уже окончившими срок службы казаками, все они зачислялись во второочередные, льготные полки. Для поддержания воинского духа, сохранения знаний военной службы, стрельбы из винтовки и владения шашкой казаки направлялись на ежегодные майские сборы. Выступали в лагеря на собственных лошадях, употреблять которых в работах запрещалось абсолютно.
Отец Бабиева в 1912 году командовал 2-м Черноморским (льготным) полком в чине войскового старшины. На время майских сборов хорунжий Коля Бабиев из 1-го Лабинского полка был командирован на Кубань из Закавказья в полк своего отца.
Лагерные сборы двух льготных полков, Кавказского и Черноморского. «С самого раннего утра и до позднего вечера – всевозможные воинские упражнения, выкрики слов команд, гомон, топот тысяч лошадиных копыт. Блеск шашек, лязг оружия, перестроения широко раскинутых лав, перебежки пластунов. Везде и всюду папахи всех размеров, цветов и фасонов. Кругом скачут, рубят, колют, берут барьеры, изворачиваются в джигитовке, падают с коней, расшибаются, тут же «оживают» и вновь скачут дальше...»675
В майских лагерях Бабиев пытался самостоятельно вникнуть в устройство казачьего седла и переделать его, сделать то, до чего дошли «седельники» братья Калаушины из Баталпашинского отдела, выпускавшие седла с легким, изящным и низким ленчиком. «Наше седло неусовершенствованное, – рассказывал он потом. – Подушка набита до отказа. Путлища идут от середины ленчика, и казак сидит на нем «сторч-мя». Ну, разве на таком седле можно взять высокое препятствие?.. Я уменьшил седельную подушку... она у меня полупустая, путлища подал
<-Si_:_^
на один вершок вперед... и теперь сидишь в седле нормально»676. Для лихого джигита это не было делом второстепенным, и на таком седле Бабиев показывал «класс своего наездничества», за что его все искренне любили.
Великая война
Как поддержимо, ребята, Славу старую свою, Полетим на супостата, Да в Турецкую страну.
Старая казачья песня
В первых числах октября 1914 года 1-й Лабинский генерала Засса полк был переброшен в город Игдырь и вошел в состав 2-й Кавказской казачьей дивизии генерал-лейтенанта Абациева677, которую составляли: 1-й Лабинский (полковник Рафалович), 1-й Черноморский (полковник Филиппов678), 3-й Черноморский (войсковой старшина Кравченко) полки Кубанского Войска и 3-й Волгский (полковник Тускаев679) полк Терского Войска и 1-я и 5-я Кубанские казачьи батареи (по б полевых орудий). Дивизия была влита в Эриванский отряд.
19 октября в 5 часов утра через Ахбуласский перевал одним из первых перешел в пределы Турции разъезд сотника Бабиева. Младшим офицером 3-й сотни, а с болезнью есаула Суржикова – командиром ее, выступил он на Кавказский фронт. Всю войну, до чина войскового старшины, командовал он своей 3-й – «лихой» сотней, известной, пожалуй, на всем Турецком (как называли его сами казаки) фронте и давшей полку наибольшее число казаков – георгиевских кавалеров.
«Первая атака полком у села Мысун. Короткая схватка, изрублено 200 турок, остальные сдались. У Лабинцев убито 6 казаков. Затем Кара-килиса, берег Евфрата, полностью занята Алашкертская долина. Стычки с курдами-гамидийцами (курды-хамидие призывались на тех же основаниях, как и у нас казаки, давая конные полки и несколько батальонов легкой пехоты, форма кавказская. – П. С. /К/.). В ноябре турки начали проявлять активность со стороны Дутаха. Части турецких дивизий, составленные из арабов, заняли Клыч-Гядукский перевал. Спешившись, полк вел наступление под огнем противника, в снегу по пояс. Скоро все промокли, в темноте взобрались на горные террасы. Мороз, северный ветер, началась снежная буря. Казаки окоченели. Их оттирали спиртом, поили коньяком и ромом – запасом-подарком мирного времени из немецкой колонии Еленендорф. Этими средствами многих спасли» (из военных дневников М.А. Фостикова, полкового адъютанта
1-го Лабинского полка в 1914—1915 годах).
Началась зима. День за днем, месяц за месяцем проходили в постоянных боях с регулярными турецкими частями и многочисленными курдами, защищавшими свою землю. Прекрасно знавшие гористо-пересеченную местность, на маленьких, прытких лошадях без вьюка, подкованных во всю лопасть копыта сплошным «пятаком» железа, курды спокойно скакали полным карьером по камням, что казакам было недоступно.
В ночь с 10 на 11 февраля 1915 года сотник Бабиев и начальник пулеметной команды дивизии подъесаул Борисенко680 с шестью казаками по глубокому снегу прошли сторожевое охранение противника и дошли до вершины, командующей над перевалом. С захватом этой вершины нашими частями турки должны были очистить перевал. Это и произошло в следующую ночь, которой восемь разведчиков, сообщив в полк, дожидались в тылу у неприятеля в страшных зимних условиях, Было захвачено 2 горных орудия и 200 снарядов681 (по Георгиевскому статуту Бабиеву за этот подвиг полагался орден Святого Георгия 4-й степени, но Георгиевская дума отклонила представление, кажется, по причине того, что орудия были на вьюках).
У Бабиева была прекрасная команда конных разведчиков. Они ходили в тыл к туркам, часто по многу дней командир полка не имел от них донесений, предупреждая храброго офицера: «...в бой без крайности нигде не вступайте, помня Вашу задачу разведки»682. И чаще других в журнале боевых действий полка, в авангарде с поисковым разъездом или в арьергарде с сотней для сдерживания противника при отходе Лабинцев, стояло одно имя – Бабиев.
В ночь с 16 на 17 февраля сотник Бабиев с полусотней прошел в селение Севик, где, спрятав лошадей, расставил людей в селении, поджидая противника. Около 8 часов утра подошел значительный, в три партии, неприятельский разъезд. Пропустив дозор внутрь селения, казаки открыли стрельбу, четыре гамидийца были убиты, баш-чауш (фельдфебель) и несколько лошадей захвачены, полусотня бросилась преследовать противника. У казаков обошлось без потерь683.
Ф.И. Елисеев вспоминает о встрече с Бабиевым на фронте зимой 1915 года:
«Впереди, на позициях, стоит 1-Й Лабинский полк. Глубочайший снег и сильнейший мороз. Казаки в овчинных полушубках, сверху бурки. Башлыками закутаны, замотаны головы, оставив щель для глаз.
– Как же тут в такой жестокий холод воевать? – думалось...
Во мгле что-то обозначилось, вроде пятна-сельца курдинского. Еще
ближе – обнаруживаем строй казаков, одетых только в черкески.
– Смир-рно!.. Господа оф-фицеры!
...В глаза бросилась фигура, осанка и одежда одного молодого сотника, с усами вверх. Несмотря на лютый холод и снег, офицер одет был в тонкую «дачковую» черкеску верблюжьего цвета («дачка» – черкеска кавказского сукна. – П. С. /К/.). На голове небольшая черная каракулевая папаха. Он в суконных ноговицах, в мягких чевяках и в кожаных горских галошах (резиновые галоши в строю запрещены). На затянутой «в рюмочку» талии красовался отличный кинжал с рукояткой слоновой кости. В длинной кобуре желтой кожи висел револьвер. Легкая кавказская шашка, с«клинами», отделана кавказским галуном. Через левое плечо перекинута тонкой работы узкая тесьма. Одет он был так, словно собрался на бал. Я его вижу впервые, и понял, что это должен быть тот сотник Коля Бабиев, о котором я так много слышал, будучи еще юнкером.
...Со стаканом чая у Лабинцев нашелся и коньяк, как и тушеная баранина. Мы, молодежь, – далеко «на левом фланге» в очень неуютной курдинской хане-норе. Сотник Бабиев, несмотря на то что был командиром сотни, – он не сел со старшими офицерами, а был среди нас, многочисленных хорунжих обоих полков. Он не стоял на одном месте, распоряжался столом, «цукал» всех денщиков своего полка. На всех не хватало ни тарелок, ни вилок, ни ножей, ни чайных стаканов. Бабиев не унимался, сам бегал и тащил «что-то». Свою вилку передал кому-то из нас, а сам «штрикал» куски баранины «подкинжальным ножичком», как едят все наши горцы Кавказа. Мы в восторге от него, а Лабинцы, называя его «Коля», уж не раз повторяют ему:
– Да присядь ты, неугомонный... дай Кавказцам покой!
– А что же скажут дорогие гости, если мы их плохо угостим, – парирует он громко, и мы все весело смеемся»684.
Заваленная снегом, замороженная горная Турция. Позиционная война, поисковые разъезды, стычки с курдами. Добывание из-под снега фуража для лошадей: текинцев и дончаков, азиатов и кабардинцев. Собственность казаков, за которых они готовы были драться зубами, погибала на глазах у всех, и выхода не было... О своей дивной скаковой кобылице Николай Бабиев писал стихи, как писал он изредка и статьи-рассказы о боевой жизни, посвящая их «Мамусе-Атаманше», жене Наказного Атамана Кубанского Войска Софии Иосифовне Бабыч.
^_fegs
Одну из боевых песен Лабинцы пели на его стихи:
Слава третьей лихой сотне,
Слава зассовцам лихим,
Командиру удалому,
Офицерам молодым!685
Долгими и мрачными зимними вечерами в каменной норе-хижине вызывали молодые офицеры своих сотенных песельников и пели с ними, танцевали лезгинку – с гиком, с дикими выкриками, чтобы забыть, рассеяться, отогнать от себя нудную, тусклую фронтовую жизнь. Ф. Елисеев называл Бабиева Хаджи-Муратом, в честь знаменитого соратника имама Шамиля, что очень льстило тому. Он мягко улыбался своими серыми глазами в гордо торчащие вверх усы, приложив ладонь правой руки вначале к сердцу, а потом ко лбу, и, потупив по-восточному глаза, произносил: «Чох саул» (очень благодарен).
25 марта Лабинцы бросались в атаку на партию противника, имеющую свыше 250 человек, и, изрубив 50, остальных обратили в бегство. В атаке участвовали только два взвода сотни Бабиева и один взвод 4-й сотни подъесаула Подпорина – всего до 70 шашек686.
Ванская операция. Из журнала боевых действий 1-го Лабинского полка: «9 июня 1915 года. ...1-я, 3-я, 4-я и 5-я сотни со знаменем, при 3-х пулеметах, под начальством вр. командующего полком Войскового Старшины Абашкина, выступила в направлении на с. Ахмат... обстреляны конными курдами. Подходя к высотам, обстреляны точечным огнем турецкой пехоты из окопов. Головная сотня спешилась и вступила с противником в стрелковый бой. Местность, пересеченная глубокими оврагами с обрывистыми берегами, сильно затрудняла движение. На переход только одного оврага конница употребила около трех с половиной часов. Часть конницы противника заняла высоту 7269. В 1 час дня наши пулеметы и цепи заставили противника очистить высоту и сейчас же заняли ее. 3-я сотня Подъесаула Бабиева, парализовав обход конницы неприятеля, ловким маневром подошла к противнику и произвела атаку, изрубив до 50 башибузуков, и таким образом очистила наш фланг и тыл...»687
Когда Бабиев шел впереди своей сотни на отличной лошади с белым прибором к седлу – это был целый спектакль. Он весело пел песни с казаками, сам запевал и сам управлял плетью хором своих сотенных песельников. Остро пищала зурна, гудел бубен. Бабиев, извиваясь в седле, словно хотел еще больше, еще сильнее выплеснуть свою энергию и молодечество. Шум был неимоверный. После стро-того «внушения» полковника Рафаловича «о соблюдении тишины в военных условиях» Николай смущенно говорил друзьям-офицерам: «Да-а... старый хрыч... все турок боится». Старый офицер, бывший Кавказец, переведенный в 1-й Лабинский полк «для уравнения», есаул Суржиков так отзывался на вопрос о Коле: «Бабиев? Никчемный офицер... ему нельзя сотню поручить, даже на проездку. Пошлешь с сотней, так он обязательно сделает джигитовку... смотришь – казак разбился или один-два коня захромали. Никчемный офицер...»688
Такая оценка молодого и храброго сотника старым и опытным в строевой службе есаулом связана с тем, что для «отцов-командиров» спокойствие и никаких происшествий в сотне являлись главными положительными чертами командования сотней. Бабиев с его неукротимой энергией был словно «вулкан», и всякий риск для него являлся забавой, к чему он приучал и казаков.
Журнал боевых действий 1-го Лабинского генерала Засса полка: «16 июня 1915 года. ...1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я сотни в составе 1 штаб-офицера, 11 обер-офицеров и 550 строевых казаков с 3 пулеметами и 2 горными орудиями 4-й горной батареи, под начальством Войскового Старшины Абашкина выступили на Коп. Фронт от высоты 6152 до предгорий Копа-даг весь был занят неприятельскими цепями с поддержкой... В обход отряду направлялось до двух рот турок. Войсковой Старшина Абашкин решил наступать по восточному берегу оз. Булан-Гель на Коп и, оттеснив обходящую пехоту, перешел в наступление. 1-я, 3-я и 5-я сотни были направлены лавою... Турецкая пехота обратилась в бегство. 3-я сотня Подъесаула Бабиева, под сильнейшим огнем противника, лавою проскочила в колонне по одному и заняла высоту 6132...»689
В конце сентября 1915-го, после года войны, полк отошел на отдых под Карс. Там же, 28 сентября, 1-й Лабинский полк участвовал в смотре войскам Главнокомандующим и Наместником на Кавказе Великим князем Николаем Николаевичем. Приход молодого пополнения казаков, молебен. А через два месяца – через Кагызман, на юг, на фронт.
Район боевых действий полка с севера ограничивался линией реки Евфрат. Длинными зимними вечерами на Кавказском фронте офицеры обсуждали будущие, послевоенные результаты войны. Все считали, что занятая турецкая территория, безусловно, останется за Россией. Но что с ней делать? И экспансивный Коля Бабиев «заглядывал в глубь десятилетий»: «Сюда, в занятые нами долины, должно переселить казаков на добровольных началах. Долины эти богаты. Курды народ хороший, во-
П.Н. СТРЕЛЯНОВ (КАЛАБУХОВ)
«sas._
инственный. Мы их «оказачим». И из всех этих элементов образуется... Алашкертское казачье Войско... Я первый переселюсь сюда с казаками, и мы образуем это новое войско», – трактует он690. Офицеры-Лабин-цы весело смеялись над этим проектом.
То, что случилось после Октябрьского переворота, – отданная большевиками завоеванная кровью русских солдат и казаков не только турецкая территория, но и российская, вместе с Карсом, – явилось трагическим итогом Великой войны 1914—1918 годов и опровергло мечты пылкого Бабиева.
Декабрь 1915 года. Бои за Мелязгерт, глубокая разведка. Бить противника приказано лишь в крайнем случае, а главным образом захватить возможно больше пленных – готовилась Эрзерумская операция. Движение колонн осуществлялось ночью, ориентировались по звездам (если не было тумана) и компасу. Глубокий, в аршин, снег и глубокие же балки с отвесными берегами заставляли то и дело изменять направление, замедляя движение конницы – 10 верст проходили за четыре с половиной часа.