Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы
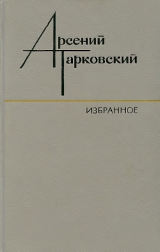
Текст книги "Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы"
Автор книги: Ованес Туманян
Соавторы: Григол Абашидзе,Владимир Каминер,Адам Бернард Мицкевич,Галактион Табидзе,Арсений Тарковский,Важа Пшавела,Ираклий Абашидзе,Михаил Квливидзе,Амо Сагиян,Ованес Шираз
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Чудо со щеглом (Поселковая повесть)
Врач: Я две ночи нес наблюдение вместе с вами, но не вижу ни малейшего подтверждения вашему рассказу. Когда она бродила последний раз?
Придворная дама: С тех пор, как его величество выступил в поход, я видела не однажды, как она вставала, накидывала на себя ночной халат…
……….
…Смотрите, вот она идет!
Шекспир. Макбет
1
Снимал я комнату когда-то
В холодном доме на Двадцатой
Версте[2]2
Двадцатая верста – подмосковная станция Белорусско-Балтийской железной дороги, ныне станция Баковка Московской железной дороги.
[Закрыть], а за моей стеной
Нескромно со своей женой
Питомец жил консерваторский,
Пел, как Шаляпин и Касторский,
Но громче и, как Рейзен, в нос.
В передней жил облезлый пес,
Пушком его звала хозяйка.
Она была, как балалайка,
Вся – вниз. Вверху торчал пучок
Величиною с пятачок,
Седой, но рыжей краской крашен.
Лба не было, и чем-то страшен
Был осторожный, будто вор,
Хозяйки ящеричий взор.
Со всею желтизной своею
Лицо переходило в шею
И, чуть расширившись в плечах,
Как вдоль по грифу, второпях
Внезапно раздавалось тело
И доходило до предела
Своих возможностей. Она
Была смертельно влюблена
В соседа моего – из класса
Вокального – красавца баса.
2
Ах, Шуберт, Шуберт! Твой «Двойник»[3]3
«Двойник» – песня Фр. Шуберта на слова Г. Гейне.
[Закрыть]
В раструб души ее проник,
И рокотал, и сердце ранил,
И душу страстную тиранил.
Хозяйка бедная всю ночь
Глядит на дверь певца – точь-в-точь
Злосчастный евнух, страж гарема,
Стоит и всхлипывает немо,
Сжимает кулаками грудь,
И только в горле бьется ртуть.
Я что ни день твердил соседям:
– Друзья, давайте переедем.
Не соблазняйте малых сих
Пыланием сердец своих.—
А бас и хрупкое сопрано
В ответ со своего дивана
Хохочут так, что спасу нет,
Кричат:
– Да ну тебя, сосед!
3
Однажды, синий от мороза,
Я брел со станции домой.
Добрел, и тут же за Ломброзо[4]4
Чезаре Ломброзо (1836–1909) – итальянский психиатр, антрополог и криминалист, основатель антропологической школы в науке уголовного права. Его работу «Преступный человек» (1876) в переводе на русский язык читал персонаж поэмы, от лица которого ведется повествование.
[Закрыть]
Сижу, читаю…
Боже мой!
Свечи мигающее пламя
Ужасный образ создает:
С его нечистыми глазами,
С его петлистыми ушами,
Как в гробовой сосновой раме,
В дверях Преступный Тип встает.
– Налоги за истекший год
И за дрова внести мне надо.
Я получить была бы рада
Не то чтоб за февраль вперед,
Хоть за январь мне заплатите,
Коль нежелательных событий
И впрямь хотите избежать.
Итак, я жду. С вас двадцать пять.
О, эта жизненная проза
И уши – две печати зла!
Антропология Ломброзо
Вдруг подтверждение нашла.
Хозяйка хлопнула дверями
И – прочь! Колеблемое пламя
Слетело с фитиля свечи,
Свеча погасла, и завыло
Всё окаянное, что жило
Внутри нетопленой печи —
Те упыри, те палачи,
Что где-то там, в ночи унылой,
Терзают с неизбывной силой
Преступных Типов за могилой.
А за окошком тоже выло:
Плясала по снегу метель,
Ее дурманил свежий хмель,
Она плясала без рубашки,
Бесстыже выгибая ляжки,
Снежинки из ее баклажки,
Как сторублевые бумажки,
Метались, клювами стуча
В стекло.
Где спички? Где свеча?
4
Я – к двери баса и сопрано.
Казалось мне, что я кричу,
А я едва-едва шепчу:
– Кто у меня задул свечу?
Кто спички выкрал из кармана?
Кто комнаты сдает внаем,
А в комнатах температура
Плюс пять? Преступная Натура
Нарочно выстудила дом:
Ангина хватит, а потом
Прости-прощай колоратура.
Все – Балалайка! У нее
В буфете между чайных ложек
Отточенное лезвие
Захоронил сапожный ножик.
Она им режет кур. Она
В уме совсем повреждена.
В ее глазах горит угроза
Убийства. От ее ушей
Злодейством тянет. Сам Ломброзо
Ушей петлистей и страшней
Вовек не видел. Бойтесь мести!
На почве зла родится зло.
Бежим! Бежим! Я с вами вместе!
Увязывайте барахло!
Тут я упал в передней на пол.
Не знаю, сколько я лежал,
Как долго пес лицо мне лапал
И губы языком лизал.
Меня в постель перетащили.
Хинином душу мне глушили,
Гасили снегом жар во лбу,
А я лежал как труп в гробу.
Моя болезнь гнилой горячкой
Слыла тому сто лет назад.
Стояла смерть в углу за печкой,
И ведьмы обложили сад,
И черти по стене скользили,
Усевшись на свои хвосты,
И с непомерной высоты
К постели жмурики сходили:
– Погибли мы и ты погиб!
Угробит всех Преступный Тип!
5
Зима прошла. Весною ранней
Очнулся я – один, один,
Без помощи, в сплошном тумане,
В дурмане, без гроша в кармане…
За стенкой – тихо на диване,
И всюду тихо. Из глубин
Души нахлынув, слезы льются…
Дверь настежь! Вижу донце блюдца
И руку. Слышу:
– Гражданин!
Возьмите огурец соленый —
И блюдце брякнулось на стул,
И все затихло. Пораженный
Явленьем жизни возрожденной,
Не выплакавшись, я заснул.
Соседка с мужем возвратилась
Домой, когда уже в окне
Луна сквозь облачко светилась.
И что она сказала мне?
– Какая радость! Ваша милость
Для новой жизни пробудилась!
Ура, ура! Мы с муженьком
Сейчас напоим вас чайком.
Весна была, как Боттичелли,
И лиловата, и смутна.
Ее глаза в мои глядели
Из приоткрытого окна,
Ополоумев, птицы пели,
Из сада муравьи ползли.
Так снизошло к моей постели
Благословение земли.
6
Настал июнь, мой лучший месяц.
Я позабыл угарный чад
Своих январских куролесиц,
Метелей и ломброзиад.
Жизнь повернуло на поправку:
Я сам ходил за хлебом в лавку,
На постном масле по утрам
Яичницу я жарил сам,
Сам сыпал чай по горсти в кружку
И сам себе добыл подружку.
Есть в птичьем горлышке вода,
В стрекозьем крылышке – слюда, —
В ней от июня было что-то,
И после гласных иногда
В ее словах звучала йота:
– Собайка.
Хлейб.
Цвейты.
Звейзда.
Звучит – и пусть! Мне что за дело!
Хоть десять йот! Зато в косе
То солнце ярко золотело,
То вспыхивали звезды все.
Ее душа по-птичьи пела,
И в струнку вытянулось тело,
Когда, на цыпочки привстав,
Она вселенной завладела
И утвердила свой устав:
– Ты мой, а я твоя.—
И в этом
Была основа всех основ,
Глубокий смысл июньских снов,
Петрарке и другим поэтам
Понятный испокон веков.
7
Искать поэзию не надо
Ни у других, ни в словарях,
Она сама придет из сада
С цветами влажными в руках:
– Ух, я промойкла в размахайке!
Сегодня будет ясный день!
Возьми полтийник и хозяйке
Отдай без сдайчи за сирень! —
Еще словцо на счастье скажет,
Распустит косу, глаз покажет,
Все, что намокло, сбросит с плеч…
О, этот взор и эта речь!
И ни намека на Ломброзо
Нет в этих маленьких ушах,
И от крещенского мороза —
Ну хоть бы льдинка в волосах:
Сплошной июнь!
За йотой йота
Щебечет, как за нотой нота,
И что ни день —
Одна забота:
Сирень – жасмин,
жасмин – сирень.
8
Соседям Йота полюбилась.
Они сказали:
– Ваша милость!
Давайте чай квартетом пить! —
Она им:
– Так тому и быть! —
Мы дружно пили чай квартетом,
Боялись выйти со двора
И в доме прятались: тем летом
Стояла дикая жара.
Хрустела глина в переулке,
Свернулась жухлая листва,
В канавах вымерла трава,
А в небо так забили втулки,
Что нам из влажных недр его
Не доставалось ничего.
Зной, весь в дыму, стоял над миром,
И был похож окрестный мир
На рыбу, прыщущую жиром,
В кипящий ввергнутую жир.
Но зною мы не поддавались,
Водою с милой обдавались,
И пили чай, и целовались
(Мы, и целуясь, пили чай
Полуодетые). И это
Был островок в пожаре лета,
И это было сущий рай.
Но, занятые чаепитьем,
Мы, у соседей за столом,
Потрясены одним событьем
Однажды были вчетвером.
Вошла хозяйка. Страшным взглядом,
Как Вий, окинула певца.
Глаза, впечатанные рядом
В пергамент желтого лица,
Горели отраженным ядом,
И нож сверкал в руке. Она
Была почти обнажена.
Не скрыв и половины тела,
Хламида на плече висела,
Распущен был седой пучок,
Пот по увядшей коже тек.
Она воскликнула:
– Зачем он
В мой дом проник с женой своей?
Оставь, оставь ее, мой Демон!
А ты сокройся от очей,
Змея, чернавка, сербиянка,
Цыганка, ведьма, персиянка,
И подходить к нему не смей!
Что сделал ты со мной, злодей?
Кто я теперь? Двойник, воспетый
Тобой самим в проклятый день!
Меня казнят – и пусть! За Летой
С тобой моя пребудет тень.
Умри ж! —
На стул хозяйка села,
И нож сапожный уронила,
И в сторону сползла со стула,
И на пол замертво упала.
Тогда с лицом бледнее мела,
Дрожа от ужаса, певец
Вскочил и крикнул:
– Я подлец!
Она моей любви хотела,
А я плевал на это дело,
И вот теперь она мертва! —
А милая моя сидела,
Она ничуть не побледнела,
Чай допила, калач доела
И молвила:
– Она жива.
Вскричал певец:
– Что делать будем?
Как я теперь – источник зла —
Посмею показаться людям?!
Моя подружка изрекла:
– Давайте куйпим ей щегла!
9
Дождь грянул наконец. Он длился,
Как птичья песнь. Он так плясал
И так старался, так резвился,
Что мир окрест преобразился
И засверкал, как бальный зал.
Гром, как державинская ода,
По крыше ямбом грохотал;
В поселке ожила природа,
С омытых листьев пыль стекла,
И блеск хрустального стекла
Приобрели углы и грани
Прекраснейшего из числа
Неисчислимых мирозданий.
Ушли Стрелки-Громовики,
Дождь перестал. Переходили
Потоки вброд и воду пили
В кустах смородинных жуки,
И без мучительных усилий
Росли грибы-дождевики.
Хозяйка наша в это время
Сидела в комнате своей.
Ее не тяготило бремя
Былых томительных ночей
И дней безрадостных. На темя
И стан ее, согнав печаль,
Слетела розовая шаль
Спокойствия и упований,
Хозяйке неизвестных ране.
И что теперь ей до того,
Кто спит с женою на диване,
Не видя больше никого?
Она не держит на заметке —
Ушел певец или пришел, —
Повержен ревности престол:
Перед лицом хозяйки в клетке
Поет и прыгает щегол!
Он для нее слагает стансы,
С утра впадает в забытье,
И в забытьи поет романсы,
Танцует танцы для нее.
Щегол хорош, как шелк турецкий!
Чуть он прищелкнет:
– Цо-цо-цо! —
Заулыбается по-детски
Порозовевшее лицо.
Прищелкнув, засвистит, как флейта:
– Фью-фью! —
И глянет: каково?
Чтó басовитый голос чей-то
В сравненье с дискантом его?
Чушь, чушь!
А в комнате порядок,
Блестит зеркальным огоньком
Комод с фарфоровым котом,
Натерты крышки всех укладок
Полировальным порошком;
Кругом крахмал и ни пылинки,
А что за платье в будний день!
А розочки на пелеринке —
Как было вышивать не лень!
Ах ты, щегол, колдун, волшебник,
Носитель непонятных сил!
Какому ты – живой учебник —
Хозяйку счастью научил!
С тобою белый день белее,
А ночью белого белей
Свободно плещут крылья феи
В блаженной комнате моей.
Из поэмы «Сорок девушек»
(По мотивам каракалпакских народных сказаний)
Песня первая
Говори, струна со струной,
Пой, кобыз[5]5
Кобыз – музыкальный инструмент.
[Закрыть] громозвучный мой,
О родной стороне,
О седой старине,
О делах старины седой!
Звездный кружится небосвод.
Вслед за годом уходит год.
Вслед за родом уходит род.
Вслед за словом слово идет.
Зиму побеждает весна.
Дивно преображается степь.
Кони ржут, звенят стремена.
Травами украшается степь.
Расселяются племена.
Умножаются города.
В стародавние времена,
В незапамятные года
Жил в Саркопе-городе бай,
Знаменитый на целый край.
Был богат и годами стар
Именитый бай Аллаяр.
Накопил он много добра;
Тысячи агачей[6]6
Агач – земельная мера.
[Закрыть] земли
Он пометил знаком своим;
Горы золота-серебра
Под руками его росли;
Тучный скот четырех родов
Тьмы покорных ему рабов
На поемных лугах пасли;
Старый бай шестерых сынов —
Удальцов
И сорвиголов,
Приумножив свой род, имел
И, на зависть отцам другим,
Дочь красавицу Гулаим —
Цель забот своих и щедрот,
Сердца верный оплот – имел;
И росла день за днем она,
Как среди облаков луна,
Словно ловкая лань, легка,
Словно ивовый прут, гибка.
Мы сравним
Красу Гулаим
С талисманом золотым.
Было ей четырнадцать лет.
Весть о ней облетела свет:
Гулаим – как пери была.
Речь – неспешная,
Стан – стрела,
Рот – наперсток,
Румянец – мак,
Косы – змеи,
Губы – каймак[7]7
Каймак – топленые сливки.
[Закрыть],
Зубы – жемчуг,
Стыдливый взор,
На голове – золотой убор.
Была и скромна и стройна Гулаим,
Джигитов пленявшая взглядом одним,
И слава о дивной ее красоте
Как гром прокатилась по странам земным.
Блеснет ли ее золотое кольцо,
Сверкнет ли ее молодое лицо,
Джигиты готовы и славу и жизнь
Отдать за ее дорогое словцо.
Она поначалу не знала сама,
Что каждого встречного сводит с ума.
Когда открывались глаза Гулаим,
В рассвет превращалась безлунная тьма.
Была Гулаим как стоцветный венок,
И если бы солнечный пламень поблек,
Лица ее луноподобного свет
Залить бы до края вселенную мог.
Словно горя на свете нет,
Гулаим, не зная забот,
Прожила пятнадцать лет;
Как пошел шестнадцатый год —
Пыль клубится, и кони ржут,
Сваты в юрте уж тут как тут;
У высоких ее дверей
Больше негде ставить коней,
И конями площадь полна.
Байский сын ли за Гулаим
Заплатить намерен калым, —
Усмехаясь в ответ, она
Выпроваживает послов,
Не сказав и нескольких слов,
С малых лет Гулаим была
Несговорчива и смела.
День настал, когда Гулаим
Сорок девушек созвала;
Научась на любой вопрос
Без запинки отвечать,
Поклялась Гулаим: без слез
И без страха врага встречать,
Поклялась: прекрасных волос
По плечам не распускать,
Настоящим джигитом стать,
Храбрецам-джигитам под стать.
Пожелала Гулаим
Разлучиться с отцом родным,
Жить от братьев милых вдали.
И любимой дочери в дар
Престарелый бай Аллаяр
Отдал остров Миуели.
И, в поступках своих вольна,
Возвела кибитку она
Посреди своей земли
И двенадцати —
Из числа
Аллаяровых мастеров —
Повеление отдала
Стену выстроить,
Вырыть ров.
Встала бронзовая стена,
Ров глубокий пред ней пролег,
Кузнецы из чугуна
Крепкий выковали порог.
Как взялись мастера за труд —
Льют свинец,
По железу бьют,
Сталь куют
И песни поют.
День проходит,
Проходит год,
Год проходит,
Идет второй —
И готовы створы ворот,
Изукрашенные резьбой,
Удивительной высоты,
Ослепительной красоты.
Чтобы им из века в век
Охранять Миуели,
Триста тридцать человек
Подымать ворота пришли;
Приклепали к створам замóк
О пяти золотых ключах;
И тогда с весельем в очах
Подошла к воротам стальным
И замкнула их Гулаим,
Повернула в замке все пять
Золотых чеканных ключей,
Отдала приказ распахать
Все холмы на земле своей,
Из быстротекущей реки
Воду щедрую провести,
На седые солончаки
Удобрения привезти.
Быстро дни за днями прошли.
Превратился Миуели
В несравненный зеленый сад:
Розы алые расцвели,
Соловьи засвистали в лад,
И – венчающие труды —
Созревающие плоды
Отразились в глади воды.
Полюбив неробкой душой
Шум и удаль игры мужской,
Гулаим устроила той[8]8
Той – пир, пиршество.
[Закрыть]
С козлодранием и борьбой,
Повела за собой
Подруг
На широкий зеленый луг,
Завязала потешный бой.
Кони быстрые горячи,
А в девичьих руках – мечи.
Вот разумница Гулаим
Говорит подругам своим:
«Плачу я, подруги, плачу – слезы лью.
Снег пойдет зимою в дорогом краю.
Сорок вас, подруги, сорок милых мне,
И от вас тревоги я не утаю.
Добрый конь арабский бросится в полет,
Из-под черной гривы заструится пот…
Что ж теперь почуял конь мой Актамкер?
Все дрожит, косится, крепкий повод рвет…
Ночью слышу частый стук его копыт,
Звучно камень черный под конем звенит,
Отчего ушами Актамкер прядет?
Почему на месте конь мой не стоит?
Актамкеру плетка больше не страшна,
Добрая хозяйка больше не нужна.
Отчего, скажите, конь копытом бьет,
Почему дрожит он и не ест зерна?
Почему сегодня быстроногий мой
Не остановился конь перед стеной?
Птицей через стену он перелетел,
Чтобы там, на воле, мять ковыль степной.
Может быть, он чует приближенье бед?
Мне тревога злая застит белый свет.
Если не сегодня, то уж не поздней,
Чем под вечер завтра, дайте мне ответ!»
Стали держать совет,
Услыхав такие слова,
Сорок девушек удалых.
Как под зимней бурей трава,
Загорелые лица их
Пожелтели от крепких дум.
Но ответ не пришел на ум
Ни единой из сорока.
Оседлали они коней —
Мол, родная степь широка,
Не найдется ль разгадки, в ней?
Из сорока девиц
Самой младшей была
Смуглолицая Сарбиназ.
Ни одна из старших сестриц
Вровень стать не могла
С младшей сестрицею – Сарбиназ.
Из сорока соколиц
Самой смелой была
Соколицею Сарбиназ,
Сарбиназ —
Отрада глаз —
В каждом споре была права,
Словно жемчуг были слова
У разумницы Сарбиназ.
На родном
Раздолье степном
День и ночь провела в седле,
Стала девушкам вожаком
И назад в предрассветной мгле,
В благодатный, прохладный час
Привела подруг Сарбиназ;
И, поклон Гулаим отдав,
В ясной памяти удержав
Всех вчерашних вопросов нить.
Взор потупила Сарбиназ.
Гулаим дала ей приказ
Без утайки все говорить;
Та, скромна и взором светла,
Вот какую речь повела:
«Я весною цветы соберу в саду,
Я вослед за тобой и на смерть пойду.
Принесла я ответ тебе, о сестра,
Хоть большую тебе он сулит беду.
Ты за дело взялась, как прямой батыр.
Ты готовишься к битвам, хоть любишь мир.
Чтоб клинки не заржавели, ты в ножны
Терпеливо втираешь смолу и жир.
Ты подругам вручила мечи, уча
По-мужски нападать и рубить сплеча,
Чтобы дорого враг нашу кровь купил,
Не ушел от девического меча.
Так разумно ты действуешь потому,
Что грядущее зримо порой уму.
Принесешь ты спасенье от рабства нам
И отечеству милому своему.
На крутом берегу Ак-Дарьи живет
Хан калмыцкий, терзающий свой народ.
Ровно через шесть лет грабежом-войной
На Саркоп этот хан Суртайша пойдет.
О трех тысячах юрт ак-дарьинский стан.
Тьмы батыров помчит за собою хан.
Он осадит Саркоп; загремят бои,
Хлынет красная кровь из горючих ран.
Будет крупною дрожью земля дрожать,
Будут кони усталые громко ржать,
На гнедом скакуне твоего отца
Будет черный чекмень в день беды лежать.
Ты наденешь кольчугу, подымешь меч,
Сорок дев поведешь по дороге сеч,
Будут звонкие стрелы железо рвать,
Будут головы вражьи катиться с плеч.
Но когда по золе, по родной земле
Кровь рекой разольется в кромешной мгле,
Не споткнется о трупы твой верный конь,
И удержишься ты в боевом седле.
Конь ушами прядет и копытом бьет,
Чует сердцем стремительных стрел полет,
Слышит ржанье калмыцких лихих коней —
И не хочет зерна, и воды не пьет.
Вот и все, что я знаю, сестра, мой свет,
Я даю на вопросы прямой ответ.
За недобрые вести прости меня.
Мне от горьких предчувствий покоя нет».
И, подругой младшей горда,
Гулаим обняла тогда
Прозорливую Сарбиназ,
И вложила по связке роз
В обе смуглых ее руки,
И, целуя в обе щеки,
Милой умницей назвала,
В юрту белую повела
И ее усадила там,
И сложила к ее ногам
Ворохá нарядов цветных —
Ярко-красных и золотых;
Обошла с корзиной сады,
Принесла подруге плоды;
Остальных, стоявших вокруг,
Угостила медом подруг;
Подарила всем сорока
Платья, радующие глаз;
Нарядила подруг в шелка, —
И поставила выше всех
Прозорливую Сарбиназ.
И счастливую Сарбиназ
Прославляли сорок подруг,
Пели песни, венки плели
Из цветов родимой земли,
За крепостной
Крепкой стеной
В белых юртах Миуели
Отдыхая перед войной.
Песня семнадцатая
Эй, друзья, садитесь в кружок,
Слушайте певца, и – молчок!
Жил да был в Саркопе батыр
По прозванию Отбаскан.
Был он, словно тополь, высок,
Словно горный утес, плечист
И, как месяц, пригож лицом,
Да не очень-то был речист
И поспать безмятежным сном
Дней по десять подряд любил.
Он подобен верблюду был:
В снег заляжет верблюд,
И тут
Зря погонщики слезы льют,
Зря его понукают-бьют —
Не желает верблюд вставать.
Точно так же и Отбаскан:
На кошму завалится спать —
Тут уже его не поднять.
В спячке он пребывал, когда
Навалилась на эль[9]9
Эль – страна, народ.
[Закрыть] беда
И прекрасный город Саркоп
Захлестнул кровавый потоп.
Спит батыр,
А в юрту к нему
Ворвались калмыки ордой,
Мягкую, точно пух, кошму
Тащат из-под него долой.
Крик да шум кругом,
Гам да гром —
Спит батыр непробудным сном.
Вынули калмыки ножи,
Резать спящего принялись —
Равномерно дышит батыр,
Ничего не слышит батыр.
Кинули калмыки ножи,
За секиры свои взялись:
Пот горячий льют,
В сто секир,
Ухая, батыра секут;
Порассекли кожу, и тут,
Наконец, проснулся батыр,
Крякнул, потянулся батыр,
Глянул —
Небо над головой!
Остов юрты цел,
Да на нем —
Ни кошмы!
А кругом – разбой!
А кругом – враги!
Вскочил,
Точно потревоженный лев,
Отбаскан – саркопский батыр,
Впал в великий гнев и схватил
Звонкий многопудовый меч,
Меч свой добрый за рукоять
И пошел пришельцев кромсать,
Головы разбойные сечь.
Целую неделю батыр
За родимый эль воевал,
Целую неделю весь мир
Доблестью своей удивлял,
А когда неделя прошла,
Кровь из холодеющих ран
У него перестала течь,
И коснулась его чела
Длань изнеможенья,
И он
Уронил свой тяжелый меч
И упал на землю ничком.
Торжествуя, калмыцкий хан
Взять его повелел живьем,
И – как над подстреленным львом
Обнаглевший мушиный рой —
Засновали враги над ним,
И забился в петле тугой
Отбаскан, великий батыр.
Тут, никем не руководим,
Потеряв последний оплот,
С песней горестной на устах
Безоружный восстал народ.
За темничной крепкой стеной
Изнывает батыр в цепях,
И народ растоптан пятой
Окаянного Суртайши.
Длится в городе волчий той,
И разбой идет,
И грабеж.
И лютует калмыцкий хан,
По Саркопу гуляет нож,
Вьется гибкой змеей аркан,
Рыщет ханский несытый взор
По загонам да по дворам,
Прядает калмыцкий топор
По воротам да по дверям.
Превращает калмыцкий хан
Жителей Саркопа в рабов,
Город – в дымный пламень костров.
Светлые мечтанья – в дурман,
Шелест шелка – в кандальный звон,
Слово «родина» – в тяжкий стон.
Днем и ночью гонит калмык
Пленников своих на восток.
С цветником расстался цветок,
С соловьем расстался цветник,
С песней разлучился язык,
Звезды – с небом,
С луною – ночь,
Конь – с приколом,
Лебедь – с гнездом,
Со вдовицей-матерью – дочь,
Сирый сын – со вдовым отцом.
Видя это, хан ликовал.
И руками, как в барабан,
Бил в трясущийся свой живот,
Хохотал, похвалялся хан,
Говоря:
«В счастливый час
Во главе несметных сил
Я покинул, ополчась,
Стольный город свой Мушкил.
Я откормленным коням
Не давал передохнуть,
По горам и по степям
Проложил широкий путь.
Я для вражеских племен
Стал вершителем судеб,
Неказненных – взял в полон,
Несожженный отнял хлеб.
На Саркоп я бросил рать,
Я поверг в огонь и лед
И заставил трепетать
Голодающий народ.
Как пшеницу жеребец,
Я его батыров грыз,
И над множеством сердец
Мой кровавый меч навис.
Я над миром длань простер.
По ложбинам кровь течет,
Кровь течет по склонам гор,
По вершинам кровь течет.
Будто ангел Азраил,
Стадо пленных на убой
В стольный город свой – Мушкил
Я гоню перед собой.
Всех оставшихся в живых
Приведу на Ак-Дарью,
Утолю я кровью их
Жажду лютую свою».
Слыша эту похвальбу,
Истомившийся народ,
Бьющийся, как сокол в сетях,
Переменчивую судьбу
Проклинал в бескрайных песках,
Проклинал врагов,
Стенал,
Брел в цепях по степям седым,
Горевал народ, вспоминал,
Призывал свою Гулаим,
Говоря:
«Девица она,
А уж как смела и сильна!
Средь своих сорока девиц,
Как тарлан-орлица она
В стае молодых соколиц.
Если разъярится она —
Гору перерубит клинком.
На коне примчится она —
Суртайшу потопчет конем».
И народ расспрашивал птиц,
Улетающих на юг:
«Скоро ли своих соколиц,
Сорок милых своих подруг,
Дочь моя на бой поведет?
Скоро ли спасения мед
Поднесет к моим устам?
Скоро ли на грудь мне прольет
Свой целительный бальзам,
Возвратит плененных сирот
К незабвенным их очагам,
Приведет моих сыновей
В город молодости моей?»
Отвечали птицы:
«Не плачь,
Не рыдай, гонимый народ, —
Солнце и для тебя взойдет.
Сорок дочерей твоих
На конях —
Где вскачь,
Где влет —
Поспешат по твоим следам,
И клинки мечей боевых
Зазвенят-заблестят в ночи,
Вражью кровь на песок прольют…
А когда совершится суд,
Эти доблестные клинки
Трижды благословит певец.
Хану – смерть,
И плену – конец.
Ты восставишь высокий кров
И затеплишь яркий очаг
На священной земле отцов.
Мир тебе во веки веков,
И да будет проклят твой враг!»
Скованный по рукам и ногам,
На убой гонимый, как скот,
Но непокоренный народ
По глухим пескам,
По немым тропам
Шел, сопротивляясь врагам,
Задыхаясь от жгучих слез,
Ждал народ свою Гулаим
И в истерзанном сердце нес
Веру в будущее свое.
Измывался палач над ним,
Но не мог его побороть,
И впивались в живую плоть
То стрела,
То меч,
То копье…
Расстелила смерть по земле
Цепкую и крепкую сеть,
Души ловит в беззвездной мгле, —
Душам не уйти от ловца.
Горько, горько, друзья мои,
О страданьях народа петь, —
И немеет язык певца…
Песня восемнадцатая
Нам запевки петь – недосуг,
Мы помчимся, друзья мои,
В горы, на заснеженный луг;
Возвратимся, друзья мои,
В тесный круг
Сорока подруг,
Сорока сестер Гулаим;
Подивимся, друзья мои,
Силе и красоте ее.
Травы приминая в степях,
Снежный прах
Взметая в горах,
Сорок дней и сорок ночей
Вдалеке от своей земли
Сорок девушек провели.
Сорок дней и сорок ночей
Радовались воле своей,
Закаляя борзых коней
И учась науке войны.
Молвит, наконец, Гулаим:
«Ну-ка, милые, поглядим —
Хорошо ли закалены
Ваши резвые скакуны,
Поглядим – на что вы годны!
Время ветру подставить грудь,
Время, сестры, в обратный путь!»
Мчатся девушки на конях,
Привставая на стременах,
Стрелы звонкие вдаль меча,
Плотный воздух рубя сплеча.
Мчится Гулаим впереди,
Актамкера камчой[10]10
Камча – плетка.
[Закрыть] хлеща,
И неведомо ей самой,
Отчего у нее в груди
Сердце храброе, трепеща,
Полнится тревожной тоской,
Отчего за слезой слеза
Набегает ей на глаза?
Чем быстрее скачет она
И чем ближе город Саркоп,
Тем сильнее плачет она,
И горит Гулаим, бледна,
Словно утренняя луна,
Бьет ее озноб,
Влажен лоб,
Руки у нее – точно лед;
Стонет Гулаим, слезы льет…
Сорок девушек ей кричат:
«Что с тобой, сестра, погоди!»
Мчится Гулаим впереди,
Не оглядывается назад,
Сорок девушек мчатся в ряд
И не могут ее догнать.
Лебеди в Египет летят
И не могут ее догнать.
На чужбину издалека
Снежные бегут облака
И не могут ее догнать.
Конь храпит, грызет удила —
Хоть устал, да не пристает;
Гулаим не сходит с седла,
Не дает коню отдохнуть.
Пышет запад красным огнем —
Гулаим продолжает путь.
Молкнет степь, ни души кругом,
Стелется вечерняя мгла —
Гулаим не сходит с седла.
Ночь-вдовица черным платком
Занавешивает небосвод —
Гулаим не сходит с седла.
Мучась нетерпеливой тоской,
Бьет коня камчой,
Слезы льет…
Конь дрожит, на дыбы встает,
Чует запах крови людской.
В льдистом вихре, в снежной пыли
Первый луч сверкнул над землей.
Гулаим на Миуели
Прискакала ранней зарей.
Огляделась она вокруг —
Вскрикнула…
Прямой, как стрела,
Стан ее согнулся, как лук.
Стремена потеряла вдруг,
Выронила поводья из рук
И, лицом, словно снег, бела.
Замертво упала с седла.
Здесь был враг.
Песок перерыт
Множеством копыт.
У ворóт
Раздувает ветер степной
Черный иноземный шатер.
На воротах стальной запор
Весь в царапинах.
Вбит в замóк
Иноземный кривой клинок
И оставлен так.
Враг не мог
Сбить замок и запор сломать,
Крепость Гулаим разметать, —
Загрязнил островной песок
И ушел без добычи вспять.
Здесь был враг.
Словно труп
На земле Гулаим лежит,
С лепестков побелевших губ,
Со стрельчатых ее ресниц
Резкий ветер сдувает снег.
Чу! Земля дрожит!
Сорок посестрим,
Сорок соколиц Гулаим
Серебристый взметают прах,
Прилетают в снежных столпах,
Спешиваются на скаку
И, ломая руки, в слезах
Окружают Гулаим,
Распростертую на снегу:
«О сестра, очнись, отзовись!
Горе нам!
В Саркопе враги!
Черный день пришел!
Помоги,
Помоги нам, сестра!
Очнись!»
Девушки рыдают,
Скорбя
О родимом крае своем.
И, услышав стенанья их,
Причитанья-рыданья их,
Забытье свое одолев,
Гулаим приходит в себя,
И все ярче огнем живым
Разгорается взор ее.
Озирается, словно лев,
Опирается на копье,
Подымается Гулаим
И с увещеваньем таким
К сорока подругам своим
Обращается, говоря:
«Не беда,
Если плачет кровью джигит
И на сечу потом спешит,
А беда, говорят, когда
У джигита не кровь-руда,
А вода по жилам бежит!
Хан – отсохни его рука! —
Вбил в замóк воровской клинок,
Выбейте клинок из замкá!
Отомкните замок тугой,
Отведите засов стальной,
Распахните створы ворот
И в твердыню Миуели
Чередой
Войдите за мной.
Здесь мужали мы и росли,
Чтобы лечь костьми за народ,
Здесь, вдали от зла, провели
Не один безмятежный год.
Земно поклонитесь гнезду,
Где окрепли ваши крыла,
Крепости воздайте почет,
Сорок верных моих подруг;
Выкопайте стрелы в саду
И возьмите из тайников
Сорок драгоценных кольчуг,
Сорок несравненных клинков,
Сорок золотых шишаков,
Сорок луков, сеющих страх,
Бьющих за девятьсот шагов,
Сорок седел о стременах
Среброзвучных, как соловьи,
Снаряжайтесь в дальний поход
И – вперед, орлицы мои,
Милые сестрицы мои,
На врага, за родной народ!»
Девушки в ворота вошли,
Поклонились Миуели,
Корму задали коням,
Сорок тысяч стрел принесли,
Ополчились на страх врагам,
Снарядились в дальний поход.
«Помните! – батырам своим
Гулаим сказала еще.—
Тот, чье сердце не горячо,
Кто на поле чести не смел,
У кого ни меча, ни стрел —
Тот не настоящий батыр.
Кто во славу земли своей
Кречетом не кинется в бой —
Тот не настоящий батыр.
Кто не глух, но для чьих ушей
Слово родина звук пустой —
Тот не настоящий батыр.
Кто не слеп, но для чьих очей
Степи отчие не милей
Зарубежных тучных полей —
Тот не настоящий батыр!»
Ярко блещут шишаки,
На ветру щиты гудят —
Через Красные Пески,
Строй держа по восемь в ряд,
Сорок соколиц летят,
Сорок девушек верхом
Следом за своим вожаком
Скачут в город напрямик
И широкие пески
Озирают из-под руки.
Погулял с топором калмык
По широким Красным Пескам,
С кровью красной пополам
Красный прах смесил —
И ушел.
Не было здесь прежде холмов,
Место было ровным, как пол,
А теперь —
Не пройти коням:
Воронье снует по холмам,
Сложенным из мертвых голов,
Мясо мертвое клювом рвет,
Очи мертвые жадно пьет,
Бьет крылом
О кровавый лед
И шакалов на той зовет…
Здесь – растоптанные конем,
И обугленные огнем,
И заколотые копьем
Крепко спят на мерзлой земле.
Там, как тополя на юру,
Чуть покачиваются на ветру
Задохнувшиеся в петле.
Там – белеют кости в золе…
Не тарлан-орел,
Озирая дол
С победоносной высоты,
Острым взором ищет врага.
Побелевшие свои
Гулаим сжимает персты,
Онемевшие свои
Гулаим кусает персты,
Острым взором ищет врага.
От Саркопа за три версты
Осадив коня на скаку,
Гневом заглушая тоску,
Гулаим с высоты седла
Смотрит на сожженный дотла,
Мертвый, разоренный Саркоп,
На пустынные берега
Сонной, обмелевшей реки,
Где тому сорок дней назад
Пели у костров рыбаки;
На заброшенные луга,
Где не видно более стад, —
Смотрит Гулаим на Саркоп,
Острым взором ищет врага.
Враг ушел и угнал народ,
И на стременах привстает Гулаим,
И на стременах
Сорок девушек привстают,
Кони их за единый мах
Три последних версты берут.
Здесь был город.
Во всю его ширь
Протянулся пустырь сплошной.
Щебнем завалило пустырь,
Занесло зыбучей золой.
Где саркопцы?
Где кузнецы,
Гончары,
Батыры,
Купцы,
Медники,
Оружейники,
Знать?
Ни души нигде не видать.
Только псов одичалых вой
Да шакалов унылый плач
Нарушают мертвый покой
Круглой площади городской…
Здесь кровавой своей рукой
Невиновных казнил палач.
И негромкий шорох шагов
Гулаим услыхала вдруг,
И потряс ее этот звук.
Услыхала людскую речь
И схватилась она за меч —
И увидела стариков,
Шедших с заступами в руках
И носилками на плечах
Предавать земле мертвецов.
В этих выходцах из могил
Гулаим признала живых,
И, носилки наземь сложив,
Старики потянулись к ней,
Будто ветра слабый порыв
Листья желтые сбил с ветвей
И погнал по нищей земле,
По земле родной,
По крови людской,
По золе…
Горше несмышленых детей
Старики рыдали, прильнув
К маленьким рукам Гулаим —
Белым голубкам Гулаим,
К розовым перстам Гулаим —
Десяти цветкам Гулаим,
И, прильнув к рукам Гулаим —
Аравийским львам Гулаим,
К молнийным перстам Гулаим —
Десяти мечам Гулаим,
Старики обратились к ней
Со словами таких речей:
«Гулаим, о Гулаим,
Сколько мощи в твоих руках!
Будь защитой нам,
Отомсти врагам,
Сокрушившим твой город в прах!
Всеблагой аллах головой
Выдал вас калмыцким богам.
Погляди на город Саркоп:
Здесь гулял Суртайша в гостях,
Пировал на людских костях.
Свист разбойный да конский топ
Не смолкают у нас в ушах.
Всех угнал Суртайша в Мушкил,
Нами только и пренебрег,
Храбрости джигитов лишил
И согнул их в бараний рог.
Веришь ли ты нам, Гулаим?
Львы Саркопа, наши сыны —
Саимбет-стрелец,
Еримбет-храбрец,
Шеримбет-гордец,
Баимбет-батыр, муж войны, —
Говоря:
„Мы побеждены“,
Голову склонили пред ним».
Так воскликнули старики,
Руки над головой воздев.
Гулаим сказала в ответ:
Оскорбленной земли своей
Грудью не заслонившим —
Позор!
Отчему народу мечом
В битве не послужившим —
Позор!
Отступившим перед врагом,
Меч свой уронившим —
Позор!
Трусам, сдавшимся в плен живьем,
Родине изменившим —
Позор!
Поздним вечером Гулаим
Знак дружинницам подала
Мановеньем белой руки —
Прянул Актамкер, как стрела…
Глянули вослед старики —
Никого, кроме них, кругом, —
Голубая клубится мгла,
Мелкий снег мелькает во мгле.
Спит Саркоп непробудным сном,
Спит, как мертвые спят в земле…
Песня девятнадцатая
Жизнь – как мед, сладка,
Смерть – как желчь, горька,
Ханский плен —
Что могильный тлен,
Горше смерти злая тоска.
Кто погиб за народ – блажен.
Степь весенняя – хороша,
Хороша, пестра и светла…
Но еще метель мела,
Степь еще нема и бела,
И страшна была.
Суртайша
Торопился в город Мушкил
И, полуослепших от слез,
Гнал саркопцев…
Пушистым льдом
Цепи их покрывал мороз,
Ветер их опалил огнем,
Смерть над ними склоняла лик…
И однажды, меркнущим днем,
Хан столицы своей достиг.
Сотни сотен голов скота
Суртайша с разбою пригнал,
Много пленных в свои места
Он перед собою пригнал;
Много утвари золотой,
Много шелка-парчи привез,
И от радости выл, как пес,
И великий устроил той.
И на той батыров позвал,
И стрелков позвал, и борцов,
И дутарщиков, и певцов.
Пировал и торжествовал,
Ликовал
Суртайша – бахвал,
И сказали гости ему,
Поглядев на пленный народ:
«Суртайша, скажи, почему
Не народ
У ворот,
А сброд?
Эти люди больны, бледны,
Босы, полуобнажены,
Лица – ветром опалены,
Руки – зá спину сведены.
Ты позвал нас в Мушкил на той,
Мы похвалим твой дастархан[11]11
Дастархан – скатерть; в переносном смысле – угощение.
[Закрыть] —
В чем, скажи вперед, пред тобой
Провинились они, о хан?
Разве этот мирный народ
Мог бороться с твоей ордой?
Плач сирот тебе нипочем,
И певец тебя назовет
Кровопийцей и палачом.
Отвечай, Суртайша, не трусь:
Разве человек – это гусь?
Подстрелю его,
Ощиплю,
Изрублю его,
Посолю,
Испеку, мол, и есть примусь?
Ты и нам, неправедный хан,
Жизнь устроил хуже тюрьмы.
Испокон веков Астархан[12]12
Астархан – Каспийское море.
[Закрыть] —
Рыбаки – бороздили мы;
Скотоводы – свои стада
Мы пасли в привольных степях,
А с тобою – пришла беда,
Привела за собою страх.
С наших обнаженных степей
Ты не сводишь несытых глаз.
Тяжко нам под пятой твоей,
Ты поборами душишь нас.
Рыбаков ты лишил сетей,
Скотоводов —
Последних стад,
У голодных наших детей
Отнял ты ягнят и козлят;
Кровь с мечей
Твоих палачей
Хлещет с шумом, как водопад.
Мы – народ калмыцкий,
Ты – хан,
Мы – душа и плоть,
Ты – шайтан,
Вот что про тебя говорят.
Отпусти саркопцев, не то
К праотцам отправишься в ад!»
Обезумел калмыцкий хан,
Услыхав такие слова;
Стала у него, как шаман
Под венцом, трястись голова,
Заплясал язык между губ,
Засверкали волчьи клыки,
Посинел Суртайша, как труп,
Выронил бунчук из руки,
Ловит воздух открытым ртом,
Словно сом
На песке сухом.
Отдышался хан, заорал:
«Я на той вас, кажется звал,
Вы же, выродки, ишаки,
Распускаете языки!»
Крикнул Суртайша:
«Палачи!»
Гикнул Суртайша:
«Палачи!»
И умылся кровью народ,
Льющейся и днем и в ночи.
А когда утомился хан,
Под престол повалился он
И заснул…
И увидел сон.
Хан проснулся —
Темен дворец.
Ужаснулся:
«Ужель конец?»
Разрывает вóрот рука,
Кровь клокочет,
Слюна горька,
Бьется в горле тугой комок…
С пола встал, на ложе прилег.
Но не спится хану никак,
Все клубится кровавый мрак,
А в ушах неотступный звон…
Звон темничных ключей,
Звон цепей,
Звон мечей…
И призвал гадателя он
И сказал:
«Этой ночью мне
Сам шайтан явился во сне.
Душит,
Мучит,
Мясо крошит,
Ногти рвет
И кости крушит.
Вдруг я вижу птицу-орла:
По лицу меня полоснув,
Плещут яростные крыла,
Пред глазами —
Раскрытый клюв.
Чудище потом приползло,
Голову мне стало глодать…
Кликнул я родимую мать —
Ни души кругом, как назло.
Тут мне руки-ноги свело,
Пот холодный хлынул рекой…
Что за сон ужасный такой?»
Побелел гадатель как снег,
Взял кобыз дрожащей рукой,
С ханом затворясь ото всех, —
И пошел крутиться юлой,
И глазами дико вращать,
И по-страшному верещать.
А когда вошел в него джинн,
Он издал пронзительный стон
И воскликнул:
«Мой господин!
Я могу разгадать твой сон!
Могучий властитель затеял войну,
Саркоп разорен, и саркопцы в плену,
Тебя неотмщенные слезы сирот
Душили, когда отошел ты ко сну.
Орел распростер над тобою крыла.
Премудрый мой хан! То не птица была:
Отвага саркопских батыров тебе
Представилась в грозном обличье орла.
Батыры тебе отомстят, отомстят,
Они, как самум, на тебя налетят,
Их кони крылаты, их копья остры,
Щиты и кольчуги, как солнце, блестят.
А чудище – черная совесть твоя,
Она и глодала тебя, как змея.
Прости, о пресветлый, раба твоего, —
Он плачет, кровавые слезы лия…»
На себе халат
Разодрав от горла до пят,
Хан рычит,
И дворец дрожит,
А гадатель навзничь лежит,
И протянут ко лбу его
Желтый указательный перст,
Гневом хан объят,
Красный зев отверст
Шире адских врат.
Люди говорят,
Что и утром хан бушевал,
Что и в полдень ярился он,
А в обед палача позвал,
И гадатель был умерщвлен.
День проходит, другой идет,
Хан меж тем не ест и не пьет,
Хан не ест, не пьет и не спит,
Бьет, как в бубен, в свой круглый щит —
И военачальников рой
На тревожный призыв спешит.
Суртайша говорит им так:
«Хочет враг
Мой ханский очаг
Ханской кровью моей залить,
Мозгом ханских моих костей
Волчий голод свой утолить,
Дорогих моих сыновей
Отчего престола лишить.
Будто я не великий хан,
А дитя колыбельных лет,
Будто наш воинственный стан
Бледной немочью обуян
И в Мушкиле батыров нет…
Слушайте мой ханский фирман:[13]13
Фирман – указ.
[Закрыть]
„Собирайте мои войска,
И да будет спутником вам
Слава моего бунчука:
Послужите мощи моей,
Мчитесь вихрем по берегам
Астархана – венца морей —
И, достигнув Дербент-горы,
Ждите: скоро нагрянет враг.
Стойте под горой до поры,
От горы назад – ни на шаг.
Я изменников не прощу,
С трусов по три шкуры спущу,
Страшной пыткой буду пытать,
Страшной местью отомщу“».
И войска на Дербент пошли.
Содрогается грудь земли,
Ходят вихри, вьется снег,
Ничего не видать вдали…
Песня двадцать вторая
Говорит кобызу певец:
«Пой, кобыз громовитый мой,
О страданьях земли родной,
Пой, кормилец верных сердец!
Я с тобой —
Средь мертвых живой,
Без тебя —
Средь живых мертвец».
Лад найду.
Певучую речь
О былых делах поведу…
По степям седым,
По тропам глухим,
Где по снегу, а где по льду
Вспять уходит от жарких сеч
Дикая орда Суртайши.
День пришел, когда Гулаим
Вкруг мушкильских высоких стен
Шумный свой раскинула стан.
Стан раскинув, девы-стрелки
Сыплют стрелы на Мушкил.
Стены высоки,
Враг незрим.
Тих Мушкил.
Бог весть:
Много ли у калмыков сил?
Как счесть?
Молнии мечá из глаз,
Гулаим отдает приказ:
«На коней!
На этот раз
Враг не скроется от нас!»
Натиск был горяч и смел,
Грозен сорокогорлый крик.
Встреча стрел.
Встреча пик.
Встреча мечей.
Встреча кольчуг,
Встреча очей,
Рук,
Плеч.
Сеча вокруг —
Сеча из сеч,
Встреча смертей,
Той силачей.
Мертвому негде лечь.
Пал
Крепостной вал.
Встал
Черногранитный утес.
Арыслан мечом его снес.
Новая преграда встает:
Створы черночугунных ворот
На чернодубовых столбах
Загораживают проход
В город, где спасителей ждет
Суртайшой казнимый народ.
Спешившись, утес берет
В руки мощные Арыслан,
И утес у него в руках
Превращается в таран.
И ворота гудят, гудят
И качаются на столбах —
Гнутся то вперед, то назад;
Свод небесный гудит им в лад,
Ад гудит им в лад,
И вот
Лопаются створы ворот,
Только мелкие черепки
Разлетаются дождем…
И калмыцкие стрелки
От чугунного дождя
В юрты прячутся, отойдя.
Гулаим говорит:
«Войдем!»
Много, много на свете зла!
Далее уже не могли
Ханские полки отступать.
Шел
Бой
За каждую пядь
Каменной мушкильской земли,
Сталь не уставала сверкать,
Красные потоки текли…
И говорит Гулаим
Сорока подругам своим:
«О мои бесстрашные львы!
Суртайша, кровавый зверь,
Станет буйствовать теперь.
Не бездействуйте и вы.
Захватите город весь,
Дайте всем и пить и есть,
И пускай из веси в весь,
В град из града
Весть идет,
Что на свете правда есть,
И пускай вокруг меня
Собирается народ:
Вместе будем супротив
Злого хана воевать,
Да не будет мучитель жив!
Да исчезнет кровавый тать!»
Смуглолицая Сарбиназ
Двинулась выполнять наказ,
Тридцать девять других —
За ней
Устремили своих коней.
И остались на месте том
Арыслан с Гулаим вдвоем,
Первый раз —
Вдвоем с Гулаим…
В сладкий час —
Вдвоем с Гулаим…
Побелел Арыслан лицом,
А потом
Горящим крылом
Нетерпенье забило в нем,
И огонь забурлил в крови,
И, не сдерживая любви,
Он прекрасную Гулаим
Заключил в объятья свои.
Вдруг раздался гром в тишине:
На кудлатом скакуне,
Завывая, будто шакал,
Взвизгивая, как пес,
Предстал
Перед ними хан Суртайша,
Пасть разинул во весь оскал,
Захихикал, смрадно дыша,
И такие слова сказал:
«Я – хан Суртайша. Обойдите весь свет —
Сильнее меня повелителя нет.
Эй вы, голубки! Бросьте ласки свои!
Под виселицей целоваться не след!»
Грянул гром,
Раскололся мир,
И от милой своей батыр
Прочь отпрянул,
А Гулаим,
Белого полотна белей,
Алого кумача алей,
К Суртайше подошла,
Грозные глаза подняла,
Глянула на него —
И хан
Закачался, злобой горя,
И, собрав остаток сил,
Захихикал, и загнусил,
Непристойно говоря:
«Эй ты, пери Гулаим!
Может быть, повторишь со мной
То, что делала ты с ним?
Чем ходить на меня войной,
Лучше стать моей женой,
Понапрасну сил не трать,
Приходи ко мне во дворец,
Дай мне ручку, рядом сядь, —
Вот и будет вражде конец!»
Гулаим побелела так,
Будто выпили кровь ее,
И сказала:
«Ты – мой враг,
Ты – позор и горе мое!
Кровью ты залил город мой,
Душу мою окутал тьмой,
Дом соловьиный – вешний сад
Преобразил в кромешный ад.
Стужей дохнул на мои цветы…
Вот что со мною сделал ты.
Стала я пламенем, чтобы в нем
Испепелить тебя живьем.
Вор, ты украл у меня семью,
Родину сладостную мою,
Молодость радостную мою.
Ты обездолил мой народ,
Сделал вдовицей мою страну,
Держишь, кровавый сумасброд,
Горькую душу мою в плену.
Раб суеты,
Отец нищеты,
Вот что со мною сделал ты!
Я утолю жажду степей
Кровью нечистою твоей,
Смертной мýкой тебя изведу,
И сокрушу твой престол во прах,
И растопчу твою орду!»
Суртайша при этих словах
То как мел
Становился бел,
То краснел,
Словно камень-лал[14]14
Лал – самоцвет алого цвета; рубин.
[Закрыть];
Он и холодел,
И пылал,
И такие слова,
Наконец, сказал:
«Ты права,
Я твой город сжег,
Я оставил много сирот,
Я насытил кровью песок,
Обездолил я твой народ.
Все же я не трус, Гулаим,
И не спрячусь я во дворце,
А с девичьим войском твоим
В спор вступлю о смертном конце.
Дай мне сроку ровно семь дней,
А когда настанет восьмой,
Сорок дев сажай на коней,
Начинай наш последний бой!»
Благородная Гулаим
Суртайше отсрочку дала.
И, пригнувшись к луке седла,
Смерив деву взглядом косым,
Хан со зла —
Как хлестнет коня!
Кровь потоком с камчи бежит;
Мчится хан —
И земля, как щит,
Поворачиваясь, гудит,
Стремена трещат, звеня…
Песня двадцать третья
Вы не спрашивайте, друзья,
Можно ли две жизни прожить,
Можно ли прожить хоть одну,
Чтобы никогда не тужить?
Лучше вы спросите, друзья,
Кто, злосчастный, в ханском плену
За пятью замками сидит,
Девятью цепями гремит,
Ничего не ест и не пьет,
Взор вперяет в камень-гранит,
Указательный перст грызет:
Пыткам перенесенным счет,
Как доходам – купец ведет,
Как заимодавец, не спит,
Потеряв покой, как скупец
Копит жадно казну обид?
Вы спросите так,
И певец
Волю даст кипучим словам,
Струпным звоном ответит вам,
К состраданию воззовет,
Громким голосом запоет,
Имя славное —
Отбаскан —
Троекратно произнесет, —
Ибо это он,
О друзья! —
Он из каменного мешка
Молотом своего кулака
Извергу Суртайше грозит,
Он, трехпрозвищный Отбаскан —
Отбаскан-Затопчи-Огонь,
Отбаскан-Саркопа-Не-Тронь,
Отбаскан-Стальная-Ладонь,
Он, батыр, в калмыцком плену
За пятью замками сидит,
Девятью цепями гремит
И хоть клонит его ко сну,
Он седьмые сутки не спит,
Пересчитывает в уме
Золотую казну обид.
Взором воспаленных очей
Света ищет в каменной тьме,
Самому себе говорит:
«От бичей
Лихих палачей
Дух скорбит,
Плоть болит,
Кровь кипит.
Хочешь есть —
Еды не дают,
Хочешь пить —
Воды не дают,
Хочешь спать —
Под топор кладут,
Топят воск
И на раны льют,
Жгут огнем,
Лежачего бьют,
Кровь из жил сосут…
Совершается черный суд:
Кривда правду казнить велит…
Тесное у тебя, джигит,
Темное у тебя жилье:
Холод этих гранитных плит
Проникает в сердце твое…
Слишком рано тебя, джигит,
Смертное долит забытье…
Здравствуй, матушка моя месть!
Помоги мне цепи разбить,
Возврати мне волю и честь,
Дай мне горе мое избыть!»
Стелется багряный туман.
Забывается Отбаскан.
Крепких засовов лязг!
Белого дня блеск!
Огненных крыльев плеск!
От материнских ласк
Сердцу тепло,
Взору светло,
Нежное сысподу крыло
На глаза батыру легло.
Месть говорит:
«Встань, встань, встань,
Ты должен встать,
Я – твоя родимая мать,
Трубы трубят,
Войска идут,
Свершается правый суд.
Встань, встань, сынок,
Ты должен встать!
Я – твоя родимая мать.
Раненого сердца не рань,
Перестань его растравлять,
Не тужи, мой кормилец, встань!
Встань, встань, встань,
Ты должен встать!
Я – твоя родимая мать.
Разве жажда моя слабей
Преходящей жажды твоей?
Разве голод мой не сильней
Голода твоего стократ?
Разве нет у тебя друзей
И не любит тебя народ?
Веют стяги,
Трубы трубят,
В руки свобода булат берет!
Не разрежет алмаза нож.
Не осилит истины ложь.
Встань, встань, встань,
Встань, батыр!
Ты должен встать!
Я – твоя родимая мать.
Грянь, грянь, грянь,
Грянь, железный гром!
Разразись, гроза, над врагом!
В бой, непобедимая рать!»
Так воскликнула месть.
Грянул гром.
Отбаскан вскочил.
Стены заходили кругом.
Оглушил Отбаскана плеск
Яркоблещущих крыл,
Ослепил нестерпимый блеск
Тяжкоплещущих крыл…
Трубы трубят,
Стяги шумят,
Конные мчатся за рядом ряд.
Снежная вздымается пыль,
Сходится с метелью метель,
С крепкой сталью – крепкая сталь,
Конь – с конем,
Клинок с клинком,
Щит – со щитом,
С броней – броня.
Воет ветер Судного дня.
Катится кожаный щит колесом.
Падает первый убитый с коня.
Смерть его голову ловит, как мяч.
Раненый молит: «Добейте меня!»
Круглые головы катятся с плеч.
Гнется копье.
Завывает праща.
Кони встают на дыбы, вереща.
Меч Гулаим, будто солнечный луч,
Блещет,
И трубы рокочут,
И клич
Клич заглушает.
Горячая кровь
Путь пролагает —
Где прямо, где вкривь —
Под гору,
По снегу,
По колеям,
К тем ли седым астарханским струям,
К тем ли далеким рыбачьим ладьям,
Чтобы клубиться в воде ледяной,
Чтобы смеситься с кипучей волной…
Бьются насмерть добро и зло,
Землю мерзлую бременя.
Тяжело земле, тяжело,
И содрогается земля.
Воет ветер Судного дня,
Наземь сражающихся валя.
Кроет солнце черная тень,
И уходит ужасный день.
Этот огненно-красный день,
День кровавый, и сыт и пьян, —
Продолжается грозный той,
Не кончается тяжкий бой.
Гул да звон,
Да протяжный стон…
Длится сеча,
Как страшный сон.
Сорок соколиц Гулаим,
Сорок смелых ее подруг
Бьют врага с сорока сторон;
Им сопутствуют сорок вьюг
И прислуживает Азраил.
Совершается правый суд;
Воздух ночи на клочья рвут
Сорок пар серебряных крыл —
Рукава боевых кольчуг.
Встало солнце в тройном венце —
Красном, желтом и золотом,
И на огненном жеребце
Облетело степи кругом,
Потеряло тройной венец
В сизой мгле,
В дыму снеговом…
О, веселье храбрых сердец,
Поле чести!
Ты, как магнит,
Их притягиваешь к себе.
Не страшит их твой грозный вид;
Веселясь, бросает храбрец
Горделивый вызов судьбе
И с улыбкою на устах
Погибает за край родной…
Тучей кружится снежный прах,
И поет, поет ледяной
Бесприютный ветер степной
У бойцов двух ратей в ушах.
По широкой степи кругом
Ходят вьюжные столбы,
Чередой влекутся часы,
День сменяется новым днем —
Не колеблются весы
Неуступчивой судьбы.
Для нее Саркоп и Мушкил
Равный груз на чашах весов;
Не хватает у хана сил,
Чтобы Гулаим одолеть,
И не может Гулаим
Пересилить ханских бойцов.
Между тем калмыцкий народ
Глухо волновался,
Ропща
На властителя своего,
Угнетателя, палача
И мучителя своего.
И когда миновал седьмой
День сраженья,
И день восьмой
Наступил,
И сам Азраил
Тяжкий меч на снег уронил
И смежил крыла за спиной, —
Угнетенный народ восстал,
Оружейный склад разгромил,
Превратил золотой дворец
В груду пепла, в кучу камней,
Десять тысяч ханских коней
Оседлал,
Покинул Мушкил
И оружие обратил
Против ханских войск.
Вот когда
Дело мести пошло на лад!
Тут, прокляв свой черный удел,
Хан поверх кольчуги надел
Золото-парчовый халат,
Сел на своего скакуна,
Ноги сунул в стремена,
Тронул повод,
Поскакал
И павлином золотым
Неожиданно предстал
Пред очами Гулаим,
Говоря:
«Батыром прямым
Ты себя почитаешь зря,
Ты не лев,
Ты – муха.
Гляди,
Попадешься мне под ладонь,
То-то взмолишься:
„Пощади!“
То-то затоскуешь:
„Не тронь,
Я у матери, мол, одна,
Сердце, мол, у меня в груди
Меньше макового зерна…“
А и казнь тебе поделом:
Не равняйся, муха, со львом!
Вспомни, глупая, кто твой хан,
Глянь-ка на меня, Гулаим!
Я батыр, а не ты,
Я лев!
И мушиным жальцем своим
Ты, коварная, как шайтан,
Угрожаешь мне, ошалев,
Залетаешь в мой гюлистан[15]15
Гюлистан – букв.: «розовый сад»; в переносном смысле – прекрасная страна, земной рай.
[Закрыть],
Оскверняешь мои цветы,
Похищаешь мой сладкий мед.
Как ты смеешь – злодейка ты! —
Переманивать мой народ?
Лучше брось такие дела,
Убирайся отсюда прочь,
А не то – как выхвачу меч —
Мигом вылетишь из седла!»
И в ответ ему – Гулаим:
«Ты не лев, Суртайша, не хан,
Ты – бахвал, бурдюк, барабан,
Тень шайтана,
Шайтан-левша,
Вот кто ты такой, Суртайша!
Тем, что под высокий мой стяг
Твой народ, восстав, перешел,
Самого себя укоряй.
Кто калмыкам был первый враг?
Чей мучительный произвол
В нищету поверг этот край?
Кто невинных казнил?
Кто всласть
Кровь народную пил?
Чья власть
Разъедала, точно парша,
Плоть народа твоего?
Ты всему виной, Суртайша,
И теперь твое хвастовство
Но спасет тебя от суда.
Ты по горло погряз во зле
И не спрячешься никуда,
Места нет тебе на земле!
Знаю, Суртайша, для чего
Ты в седло столь поспешно сел
И стремглав поскакал в мой стан.
Страшен вору его удел,
И тебе, самозваный хан,
Сеча эта не по нутру:
Чуешь, видно, ее исход!
Кто с огнем затеет игру —
Пальцы на огне обожжет.
Но – пусть будет так.
Прекратим
Этот кровопролитный бой.
Разрешим батырам своим
На кругу бороться сам-друг.
Вызываю тебя на круг:
Я хочу схватиться с тобой,
Выбить меч у тебя из рук,
Вырвать напрочь твои клыки,
Раздробить тебе позвонки,
Растоптать твой ханский бунчук!»
Трубы медные трубят,
Стяги пестрые шумят,
Кони ржут
Медным трубам в лад,
Удила грызут,
Пятятся назад.
Кони пятятся назад,
Стремена звенят;
Звучно стремена звенят,
Расступаются войска,
Строятся за рядом ряд.
Глянешь вверх —
Там белым-бело,
Вьются снежные облака,
Ворон – сломанное крыло —
По небу летит тяжело…
Глянешь вдаль —
Там белым-бело,
Не видать под снегом песка;
Конь калмыцкий без седока,
Захромав, потеряв седло,
По снегу бежит тяжело…
Глянешь прямо перед собой —
Круг очерчен, утоптан снег,
А в кругу стоит великан,
Полузверь-получеловек:
Стан – что карагач вековой,
Шерсть на груди,
Хвост позади,
Правая —
Львиная нога,
Левая —
Тигриная нога,
Правая рука —
Острога,
Левая рука —
Кочерга,
Клепаная голова,
Уши —
Мельничные жернова,
Ступы каменные
Вместо глазниц,
Стрелы пламенные —
Вместо ресниц,
Рот клыкастый —
Адская пещь,
Нос не нос,
А рыба-лещ,
Неумыт, волосат, космат,
Медными гвоздями оббит,
Крепкими цепями обвит,
В бубенцах с головы до пят.
Трубы трубят,
Стяги шумят,
Начинается правый бой —
Рубится Гулаим с Суртайшой.
Искры вспыхивают, роясь, —
Рубится с ханом Гулаим
И прислушивается, рубясь,
К возгласам своего меча,
И зазубривается, звуча,
Меч ее, как серп,
И другой
Меч зазубривается, чертя
В воздухе дугу за дугой,
За удар ударом платя.
У батыров глаза, как жар,
Ярой ненавистью горят.
Звон,
Свист,
Лязг,
Удар – за удар!
И осколки стальных мечей
Сыплются, словно частый град;
Силы рубящихся – равны.
Трое суток рубка идет,
Верха ни один не берет.
Ветви огненной купины,
Выращенной лязгом клинков,
Доросли до горных высот.
И рычат батыры, гневясь,
И бросают мечи в ножны.
Нетерпением обуян,
Цепью в тысячу три звена
Крепко свой неохватный стан
Опоясывает хан.
Трубы трубят,
Стяги шумят,
Начинается борьба,
И глядит на борцов судьба,
И железо сплетенных рук
Раскаляется докраснá,
И в один слепительный круг
Дни сливаются…
Тает снег,
И сменяет зиму весна;
Степь цветет,
И птицы поют,
И, в зеленой траве шурша,
Пестрые букашки снуют;
И осиливает Суртайша
Благородную Гулаим,
И, подняв ее к небесам,
К этим голубым, золотым,
Трепетным небесам,
К облакам,
На ветру играющим,
Там
Заставляет ее стонать.
Ветер у нее на челе
Осушил проступивший пот.
И швырнул ее Суртайша
Наземь,
И стоял небосвод
Под ногами у Гулаим,
И летела она к земле
Сквозь гудящую пустоту,
Как падучая звезда,
А когда
В трех аршинах земля была,
Вывернулась на лету,
Стала на ноги и пошла
На врага, словно лев, смела,
К солнцу Суртайшу подняла,
И метнула вниз,
И в песок
Вбила вниз головой по крестец.
Тут ему и пришел конец,
И навек забудем о нем!
Лучше, милые, поглядим,
Как над степью солнце встает:
Поглядим, как за пядью пядь
Молодая трава растет,
Поглядим, как старуха мать
Обнимает Гулаим,
Как спасенный ею народ
Плачет,
И смеется,
И льнет
К дочери любимой своей;
Взглянем на хорезмийского льва,
Милого супруга ее,
И на сорок ее подруг;
И с любовью благословим
Благородную Гулаим,
Да ликует ее супруг,
И да будет она жива
В песнях и в потомстве своем!
Трубы трубят,
Стяги шумят,
Струны звенят;
Струнам в лад
Мы славу поем.
Меч народа – непобедим!
Дух народа – несокрушим!
Слава,
Слава,
Слава тебе, Гулаим!








