Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы
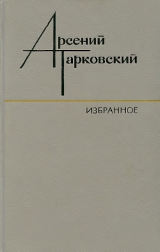
Текст книги "Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы"
Автор книги: Ованес Туманян
Соавторы: Григол Абашидзе,Владимир Каминер,Адам Бернард Мицкевич,Галактион Табидзе,Арсений Тарковский,Важа Пшавела,Ираклий Абашидзе,Михаил Квливидзе,Амо Сагиян,Ованес Шираз
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Западный ветер погнал облака.
Забеспокоилась Клязьма-река.
С первого августа дочке неможется,
Вон как скукожилась черная кожица.
Слушать не хочет ершей да плотвиц,
Губ не синит и не красит ресниц.
– Мама-река моя, я не упрямая,
Что ж это с гребнем не сладит рука моя?
Глянула в зеркало – я уж не та,
Канула в омут моя красота.
Замуж не вышла, детей не качала я,
Так почему ж я такая усталая?
Клонит ко сну меня, тянет ко дну,
Вот я прилягу, вот я усну.
– Свет мой, икринка, лягушечья спинушка,
Спи до весны, не кручинься, Иринушка!
Всё кончается, как по звонку,
На убогой театральной сцене
Дранкой вверх несут мою тоску —
Душные лиловые сирени.
Я стою хмелён и одинок,
Будто нищий над своею шапкой,
А моя любимая со щек
Маков цвет стирает сальной тряпкой.
Я искусство ваше презирал.
С чем еще мне жизнь сравнить, скажите,
Если кто-то роль мою сыграл
На вертушке роковых событий?
Где же ты, счастливый мой двойник?
Ты, видать, увел меня с собою,
Потому что здесь чужой старик
Ссорится у зеркала с судьбою.
Тогда я запер на замок двери
своего дома и ушел вместе с другими.
Г. Уэллс
Сам не знаю, что со мною:
И последыш и пророк,
Что ни сбудется с землею
Вижу вдоль и поперек.
Кто у мачехи-Европы
Молока не воровал?
Мотоциклы, как циклопы,
Заглотали перевал,
Шелестящие машины
Держат путь на океан,
И горячий дух резины
Дышит в пеших горожан.
Слесаря, портные, прачки
По шоссе, как муравьи,
Катят каторжные тачки,
Волокут узлы свои.
Потеряла мать ребенка,
Воздух ловит рыбьим ртом,
А из рук торчит пеленка
И бутылка с молоком.
Паралитик на коляске
Боком валится в кювет,
Бельма вылезли из маски,
Никому и дела нет.
Спотыкается священник
И бормочет:
– Умер бог, —
Голубки бумажных денег
Вылетают из-под ног,
К пристаням нельзя пробиться,
И Европа пред собой
Смотрит, как самоубийца,
Не мигая, на прибой.
В океане по колена,
Белый и большой, как бык,
У причала роет пену,
Накренясь, «трансатлантик».
А еще одно мгновенье —
И от Страшного суда,
Как надежда на спасенье
Он отвалит навсегда.
По сто раз на дню, как брата,
Распинали вы меня,
Нет вам к прошлому возврата,
Вам подземка не броня.
– Ууу-ла! Ууу-ла! —
марсиане
Воют на краю Земли,
И лазурный луч в тумане
Их треножники зажгли.
Жил да был художник Пауль Клее
Где-то за горами, над лугами.
Он сидел себе один в аллее
С разноцветными карандашами,
Рисовал квадраты и крючочки,
Африку, ребенка на перроне,
Дьяволенка в голубой сорочке,
Звезды и зверей на небосклоне.
Не хотел он, чтоб его рисунки
Были честным паспортом природы,
Где послушно строятся по струнке
Люди, кони, города и воды.
Он хотел, чтоб линии и пятна,
Как кузнечики в июльском звоне,
Говорили слитно и понятно.
И однажды утром на картоне
Проступили крылышко и темя:
Ангел смерти стал обозначаться.
Понял Клее, что настало время
С Музой и знакомыми прощаться.
Попрощался и скончался Клее.
Ничего не может быть печальней!
Если б Клее был немного злее,
Ангел смерти был бы натуральней.
И тогда с художником все вместе
Мы бы тоже сгинули со света,
Порастряс бы ангел наши кости!
Но скажите мне: на что нам это?
На погосте хуже, чем в музее,
Где порой вы бродите, живые,
И висят рядком картины Клее —
Голубые, желтые, блажные…
Девочке в сером халате,
Аньке из детского дома,
В женской четвертой палате
Каждая малость знакома —
Кружка и запах лекарства,
Няньки дежурной указки
И тридевятое царство —
Пятна и трещины в краске.
Будто синица из клетки,
Глянет из-под одеяла:
Не просыпались соседки,
Утро еще не настало?
Востренький нос, восковые
Пальцы, льняная косица.
Мимо проходят живые.
– Что тебе, Анька?
– Не спится.
Ангел больничный за шторой
Светит одеждой туманной.
– Я за больной.
– За которой?
– Я за детдомовской Анной.
Клянусь, мне столько лет, что наковальня
И та не послужила бы так долго,
Куда уж там кувалде и мехам.
Сам на себе я самого себя
Самим собой ковал – и горн гашу,
А все-таки работой недоволен:
Тут на железе трещина, тут выгиб
Не тот, тут – раковина, где должна бы
Свистеть волшебной флейтой горловина.
Не мастера ты выковал, кузнец,
Кузнечика ты смастерил, а это
И друг неверный, и плохой близнец,
Ни хлеба от такого, ни совета.
Что ж, топочи, железная нога!
Железная не там открылась книга.
Живи, браток, железным усом двигай!
А мне наутро – новая туга…
Исполнены дилювиальной веры
В извечный быт у счастья под крылом,
Они переезжали из пещеры
В свой новый дом.
Не странно ли? В квартире так недавно
Царили кисть, линейка и алмаз,
И с чистотою, нимфой богоравной,
Бог пустоты здесь прятался от нас.
Но четверо нечленов профсоюза —
Атлант, Сизиф, Геракл и Одиссей —
Контейнеры, трещавшие от груза,
Внесли, бахвалясь алчностью своей.
По-жречески приплясывая рьяно,
С молитвенным заклятием «наддай!»
Втащили Попокатепетль дивана,
Малиновый, как первозданный рай,
И, показав, на что они способны,
Без помощи своих железных рук
Вскочили на буфет пятиутробный
И Афродиту подняли на крюк.
Как нежный сгусток розового сала,
Она плыла по морю одеял
Туда, где люстра, как фазан, сияла
И свет зари за шторой умирал.
Четыре мужа, Анадиомене
Воздав смущенно страстные хвалы,
Ушли.
Хозяйка, преклонив колени,
Взялась за чемоданы и узлы.
Хозяин расставлял фарфор.
Не всякий
Один сюжет ему придать бы мог:
Здесь были:
свиньи,
чашки
и собаки,
Наполеон
и Китеж-городок.
Он отыскал собранье сочинений
Молоховец —
и в кабинет унес,
И каждый том, который создал гений,
Подставил, как Борей, под пылесос.
Потом, на час покинув нашу эру
И новый дом со всем своим добром,
Вскочил в такси
и покатил в пещеру,
Где ползал в детстве перед очагом.
Там Пень стоял – дубовый, в три обхвата,
Хранитель рода и Податель сил.
О, как любил он этот Пень когда-то!
И как берег! И как боготворил!
И Пень теперь в гостиной, в сердцевине
Диковинного капища вещей
Гордится перед греческой богиней
Неоспоримой древностью своей.
Когда на праздник новоселья гости
Сошлись и дом поставили вверх дном,
Как древле – прадед,
мамонтовы кости
На нем
рубил
хозяин
топором!
Вестник
1966–1971
«И я ниоткуда…»«Когда вступают в спор природа и словарь…»
И я ниоткуда
Пришел расколоть
Единое чудо
На душу и плоть,
Державу природы
Я должен рассечь
На песню и воды,
На сушу и речь
И, хлеба земного
Отведав, прийти
В свечении слова
К началу пути.
Я сын твой, отрада
Твоя, Авраам,
И жертвы не надо
Моим временам,
А сколько мне в чаше
Обид и труда…
И после сладчайшей
Из чаш —
никуда?
«Я по каменной книге учу вневремéнный язык…»
Когда вступают в спор природа и словарь
И слово силится отвлечься от явлений,
Как слепок от лица, как цвет от светотени, —
Я нищий или царь? Коса или косарь?
Но миру своему я не дарил имен:
Адам косил камыш, а я плету корзину.
Коса, косарь и царь, я нищ наполовину,
От самого себя еще не отделен.
Зима в детстве
Я по каменной книге учу вневремéнный язык,
Меж двумя жерновами плыву, как зерно в камневерти,
И уже я по горло в двухмерную плоскость проник,
Мне хребет размололо на мельнице жизни и смерти.
Что мне делать, о посох Исайи, с твоей прямизной?
Тоньше волоса пленка без времени, верха и низа.
А в пустыне народ на камнях собирался, и в зной
Кожу мне холодила рогожная царская риза.
В желтой траве отплясали кузнечики,
Мальчику нá зиму кутают плечики,
Рамы вставляют, летает снежок,
Дунула вьюга в почтовый рожок.
А за воротами шаркают пильщики,
И ножи-ножницы точат точильщики,
Сани скрипят, и снуют бубенцы,
И по железу стучат кузнецы.
«Тогда еще не воевали с Германией…»
А в доме у Тарковских
Полным-полно приезжих,
Гремят посудой, спорят,
Не разбирают елки,
И сыплются иголки
В зеркальные скорлупки,
Пол серебром посолен,
А самый младший болен.
На лбу компресс, на горле
Компресс. Идут со свечкой.
Малиной напоили?
Малиной напоили.
В углу зажгли лампадку,
И веялку приносят,
И ставят на площадку,
И крутят рукоятку,
И сыплются обрезки —
Жестянки и железки.
Вставай, пойдем по краю,
Я все тебе прощаю.
То пóд гору, то в гору
Пойдем в другую пору
По зимнему простору,
Малиновому снегу.
«Позднее наследство…»
Тогда еще не воевали с Германией,
Тринадцатый год был еще в середине,
Неведеньем в доме болели, как манией,
Как жаждой три пальмы в песчаной пустыне.
У матери пахло спиртовкой, фиалкою,
Лиловой накидкой в шкафу, на распялке;
Все детство мое, по-блаженному жалкое,
В горящей спиртовке и пармской фиалке.
Зато у отца, как в Сибири у ссыльного,
Был плед Гарибальди и Герцен под локтем.
Ванилью тянуло от города пыльного,
От пригорода – конским потом и дегтем.
Казалось, что этого дома хозяева
Навечно в своей довоенной Европе,
Что не было, нет и не будет Сараева,
И где они, эти мазурские топи?..
«Я в детстве заболел…»
Позднее наследство,
Призрак, звук пустой,
Ложный слепок детства,
Бедный город мой.
Тяготит мне плечи
Бремя стольких лет.
Смысла в этой встрече
На поверку нет.
Здесь теперь другое
Небо за окном —
Дымно-голубое,
С белым голубком.
Резко, слишком резко,
Издали видна,
Рдеет занавеска
В прорези окна,
И, не узнавая,
Смотрит мне вослед
Маска восковая
Стародавних лет.
Поэт начала века
Я в детстве заболел
От голода и страха. Корку с губ
Сдеру – и губы облизну; запомнил
Прохладный и солоноватый вкус.
А все иду, а все иду, иду,
Сижу на лестнице в парадном, греюсь,
Иду себе в бреду, как под дуду
За крысоловом в реку, сяду – греюсь
На лестнице; и так знобит и эдак.
А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя:
Чуть подойду – стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду – стоит
В семи шагах, рукою манит.
Жарко
Мне стало, расстегнул я ворот, лег, —
Тут затрубили трубы, свет по векам
Ударил, кони поскакали, мать
Над мостовой летит, рукою манит —
И улетела…
И теперь мне снится
Под яблонями белая больница,
И белая под горлом простыня,
И белый доктор смотрит на меня,
И белая в ногах стоит сестрица
И крыльями поводит. И остались.
А мать пришла, рукою поманила —
И улетела…
Ночная бабочка «Мертвая голова»
Твой каждый стих – как чаша яда,
Как жизнь, спаленная грехом,
И я дышу, хоть и не надо,
Нельзя дышать твоим стихом.
Ты бедный мальчик сумасшедший,
С каких-то белых похорон
На пиршество друзей приведший
Колоколов прощальный звон.
Прости меня, я, как в тумане,
Приникну к твоему плащу
И в черной выношенной ткани
Такую стужу отыщу,
Такой возврат невыносимый
Смертельной юности моей,
Что гул погибельной Цусимы
Твоих созвучий не страшней.
Тогда я простираю руки
И путь держу на твой магнит,
А на земле в последней муке
Внизу —
душа моя скорбит…
«Третьи сутки дождь идет…»
Ходит Пиковая дама,
Палец с головой Адама,
Вверх и вниз под потолком,
Стекол кожу неживую,
Будто рану ножевую,
Метит белым сквозняком.
Треплет свечку, морщит пламя
Знамя ночи вкось углами,
Соглядатай, часовой,
Жироватый, суховатый…
– Чур, щеки не припечатай,
Чур, не трогай, я живой!
Ночью все мы – на чужбине
Под воронкой черно-синей,
В царстве чуждых душ и тел,
Днем – в родительском гнездовье
Душным потом, красной кровью
Ограничим свой предел.
Вторая ода
Третьи сутки дождь идет,
Ковыряет серый лед
И вороне на березе
Моет клюв и перья мнет
(Дождь пройдет).
Недаром к прозе
(Все проходит)
сердце льнет,
К бедной прозе на березе,
На реке и за рекой
(Чуть не плача),
к бедной прозе
На бумаге под рукой.
Ласточки
Подложи мне под голову руку
И восставь меня, как до зари
Подымала на счастье и муку,
И опять к высоте привари,
Чтобы пламя твое ледяное
Синей солью стекало со лба
И внизу, как с горы, предо мною
Шевелились леса и хлеба,
Чтобы кровь из-под стоп, как с предгорий,
Жарким деревом вниз головой,
Каждой веткой ударилась в море
И несла корабли по кривой.
Чтобы вызов твой ранний сначала
Прозвучал и в горах не затих.
Ты в созвездья других превращала.
Я и сам из преданий твоих.
«Дом без жильцов заснул и снов не видит…»
Летайте, ласточки, но в клювы не берите
Ни пилки, ни сверла, не делайте открытий,
Не подражайте нам; довольно и того,
Что вы по-варварски свободно говорите,
Что зоркие зрачки в почетной вашей свите
И первой зелени святое торжество.
Я в Грузин бывал, входил и я когда-то
По щебню и траве в пустынный храм Баграта —
В кувшин расколотый, и над жерлом его
Висела ваша сеть. И Симон Чиковани
(А я любил его, и мне он был как брат)
Сказал, что на земле пред вами виноват —
Забыл стихи сложить о легком вашем стане,
Что в детстве здесь играл, что, может быть, Баграт
И сам с ума сходил от ваших восклицаний.
Я вместо Симона хвалу вам воздаю.
Не подражайте нам, но только в том краю,
Где Симон спит в земле, вы спойте, как в дурмане,
На языке своем одну строку мою.
Первая гроза
Дом без жильцов заснул и снов не видит,
Его душа, безгрешна и пуста,
В себя глядит закрытыми глазами,
Но самое себя не сознает
И дико вскидывается, когда
Из крана бульба шлепнется на кухне.
Водопровод молчит, и телефон
Молчит.
Ну что же, спи спокойно, дом,
Спи, кубатура-сирота! Вернутся
Твои жильцы, и время в чем попало —
В больших кувшинах, в синих ведрах, в банках
Из-под компота – принесут, и окна
Отворят, и продуют сквозняком.
Часы стояли? Шли часы? Стояли.
Вот мы и дома. Просыпайся, дом!
Белый день
Лиловая в Крыму и белая в Париже,
В Москве моя весна скромней и сердцу ближе,
Как девочка в слезах. А вор в дождевике
Под дождь – из булочной с бумажкой в кулаке,
Но там, где туфелькой скользнула изумрудной,
Беречься ни к чему и плакать безрассудно.
По лужам облака проходят косяком,
Павлиньи радуги плывут под каблуком,
И девочка бежит по гребню светотени
(А это жизнь моя) в зеленом по колени,
Авоськой машучи, по лестнице винтом,
И город весь внизу, и гром – за нею в дом…
«Вот и лето прошло…»
Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.
В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней —
Вьющиеся розы,
Молочная трава.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.
«Мне бы только теперь до конца не раскрыться…»
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло,
Только этого мало.
«Мамка птичья и стрекозья…»
Мне бы только теперь до конца не раскрыться,
Не раздать бы всего, что напела мне птица,
Белый день наболтал, наморгала звезда,
Намигала вода, накислила кислица,
На прожиток оставить себе навсегда
Крепкий шарик в крови, полный света и чуда,
А уж если дороги не будет назад,
Так втянуться в него и не выйти оттуда,
И – в аорту, неведомо чью, наугад.
Приазовье
Мамка птичья и стрекозья,
Помутнела синева,
Душным воздухом предгрозья
Дышит жухлая трава.
По деревне ходит Каин,
Стекла бьет и на расчет,
Как работника хозяин,
Брата младшего зовет.
Духоту сшибает холод,
По пшенице пляшет град.
Видно, мир и вправду молод,
Авель вправду виноват.
Я гляжу из-под ладони
На тебя, судьба моя,
Не готовый к обороне,
Будто в Книге Бытия.
«Пляшет перед звездами звезда…»
На полустанке я вышел. Чугун отдыхал
В крупных шарах маслянистого пара. Он был
Царь ассирийский в клубящихся гроздьях кудрей.
Степь отворилась, и в степь как воронкой ветров
Душу втянуло мою. И уже за спиной
Не было мазанок; лунные башни вокруг
Зыблились и утверждались до края земли,
Ночь разворачивала из проема в проем
Твердое, плотно укатанное полотно.
Юность моя отошла от меня, и мешок
Сгорбил мне плечи. Ремни развязал я, и хлеб
Солью посыпал, и степь накормил, а седьмой
Долей насытил свою терпеливую плоть.
Спал я, пока в изголовье моем остывал
Пепел царей и рабов и стояла в ногах
Полная чаша свинцовой азовской слезы.
Снилось мне все, что случится в грядущем со мной.
Утром очнулся и землю землею назвал,
Зною подставил еще неокрепшую грудь.
«Во вселенной наш разум счастливый…»
Пляшет перед звездами звезда,
Пляшет колокольчиком вода,
Пляшет шмель и в дудочку дудит,
Пляшет перед скинией Давид.
Плачет птица об одном крыле,
Плачет погорелец на золе,
Плачет мать над люлькою пустой,
Плачет крепкий камень под пятой.
«Наша кровь не ревнует по дому…»
Во вселенной наш разум счастливый
Ненадежное строит жилье,
Люди, звезды и ангелы живы
Шаровым натяженьем ее.
Мы еще не зачали ребенка,
А уже у него под ногой
Никуда выгибается пленка
На орбите его круговой.
«На пространство и время ладони…»
Наша кровь не ревнует по дому,
Но зияет в грядущем пробел,
Потому что земное земному
На земле полагает предел.
Обезумевшей матери снится
Верещанье четверки коней,
Фаэтон, и его колесница,
И багровые кубы камней.
«Струнам счет ведут на лире…»
На пространство и время ладони
Мы наложим еще с высоты,
Но поймем, что в державной короне
Драгоценней звезда нищеты,
Нищеты, и тщеты, и заботы
О нерадостном хлебе своем,
И с чужими созвездьями счеты
На земле материнской сведем.
«Стелил я снежную постель…»
Струнам счет ведут на лире
Наши древние права,
И всего дороже в мире
Птицы, звезды и трава.
До заката всем народом
Лепят ласточки дворец,
Перед солнечным восходом
Наклоняет лук Стрелец,
И в кувшинчик из живого
Персефонина стекла
Вынуть хлебец свой медовый
Опускается пчела.
Потаенный ларь природы
Отмыкает нищий царь,
И крадет залог свободы
Летних месяцев букварь.
Дышит мята в каждом слове,
И от головы до пят
Шарики зеленой крови
В капиллярах шебуршат.
«Когда у Николы Морского…»
Стелил я снежную постель,
Луга и рощи обезглавил,
К твоим ногам прильнуть заставил
Сладчайший лавр, горчайший хмель.
Но марта не сменил апрель
На страже росписей и правил.
Я памятник тебе поставил
На самой слезной из земель.
Под небом северным стою
Пред белой, бедной, непокорной
Твоею высотою горной
И сам себя не узнаю,
Один, один в рубахе черной
В твоем грядущем, как в раю.
«Домой, домой, домой…»
Когда у Николы Морского
Лежала в цветах нищета,
Смиренное чуждое слово
Светилось темно и сурово
На воске державного рта.
Но смысл его был непонятен,
А если понять – не сберечь,
И был он, как небыль, невнятен
И разве что – в трепете пятен
Вокруг оплывающих свеч.
И тень бездомовной гордыни
По черному Невскому льду,
По снежной Балтийской пустыне
И по Адриатике синей
Летела у всех на виду.
«Пó льду, пó снегу, по жасмину…»
Домой, домой, домой,
Под сосны в Комарове…
О, смертный ангел мой
С венками в изголовье,
В косынке кружевной,
С крылами наготове!
Как для деревьев снег,
Так для земли не бремя
Открытый твой ковчег,
Плывущий перед всеми
В твой двадцать первый век,
Из времени во время.
Последний луч несла
Зима над головою,
Как первый взмах крыла
Из-под карельской хвои,
И звезды ночь зажгла
Над снежной синевою.
И мы тебе всю ночь
Бессмертье обещали,
Просили нам помочь
Покинуть дом печали,
Всю ночь, всю ночь, всю ночь.
И снова ночь в начале.
«И эту тень я проводил в дорогу…»
Пó льду, пó снегу, по жасмину.
На ладони, снега бледней,
Унесла в свою домовину
Половину души, половину
Лучшей песни, спетой о ней.
Похвалам земным не доверясь,
Довершив земной полукруг,
Полупризнанная, как ересь,
Через полог морозный, через
Вихри света —
смотрит на юг.
Что же видят незримые взоры
Недоверчивых светлых глаз?
Раздвигающиеся створы
Верст и зим иль костер, который
Заключает в объятья нас?
Засуха
И эту тень я проводил в дорогу
Последнюю – к последнему порогу,
И два крыла у тени за спиной,
Как два луча, померкли понемногу.
И год прошел по кругу стороной.
Зима трубит из просеки лесной.
Нестройным звоном отвечает рогу
Карельских сосен морок слюдяной.
Что, если память вне земных условий
Бессильна день восстановить в ночи?
Что, если тень, покинув землю, в слове
Не пьет бессмертья?
Сердце, замолчи,
Не лги, глотни еще немного крови,
Благослови рассветные лучи.
Эребуни
Земля зачерствела, как губы,
Обметанные сыпняком,
И засухи дымные трубы
Беззвучно гудели кругом,
И высохло русло речное,
Вода из колодцев ушла.
Навечно осталась от зноя
В крови ледяная игла.
Качается узкою лодкой
И целится в сердце мое,
Но, видно, дороги короткой
Не может найти острие.
Есть в круге грядущего мира
Для засухи этой приют,
Где души скитаются сиро
И ложной надеждой живут.
«Когда под соснами, как подневольный раб…»
Они хотели всем народом
Распад могильный обмануть
И араратским кислородом
Продуть холма сухую грудь.
Под спудом бусина синела,
И в черноте черным-черно
Чернело и окаменело
В кувшине царское зерно.
Кремля скалистые основы
Уже до пят оголены.
И в струнку стал кирпич сырцовый
Подштукатуренной стены.
А ласточки свой посвист длинный
Натягивают на лету
На подновленные руины
Во всю их ширь и пустоту.
Им только бы земля пестрела
В последних числах ноября,
И нет им никакого дела
До пририсованного тела
Давно истлевшего царя.
Когда под соснами, как подневольный раб,
Моя душа несла истерзанное тело,
Еще навстречу мне земля стремглав летела
И птицы прядали, заслышав конский храп.
Иголки черные, и сосен чешуя,
И брызжет из-под ног багровая брусника,
И веки пальцами я раздираю дико,
И тело хочет жить, и разве это – я?
И разве это я ищу сгоревшим ртом
Колен сухих корней, и как во время óно,
Земля глотает кровь, и сестры Фаэтона
Преображаются и плачут янтарем.








